Страница:
Вот что мы прочли:
«Иногда он брал нас с собой на прогулки – в зимние дни. Мы ясно вспоминаем его: в каракулевой шапочке, а на его бледном морщинистом лице в морозные дни появлялось подобие румянца, розовые паутинки на щеках. Мы особенно ясно различали облик дедушки во время тех прогулок. На улице, в ровном зимнем свете мы могли смотреть на него почти так же пристально, как на чужого человека, как на прохожего, и это отчуждение приближало его к нам. Мы наконец (как нам казалось) обретали и дедушку в ряду тех человеческих лиц и силуэтов, которые украшали фронтон нашей жизни. Этому способствовало и свечение снега, подчеркивающее границы фигуры в черном пальто, и морозный воздух, который словно бы схватывал черты лиц, не позволяя им таять; мороз придавал даже дряблой или полупрозрачной коже осязаемость, в то время как в недрах квартиры, в туманном свете маленьких ламп, с трудом цедящих свой свет сквозь розовые кружева абажуров, эта кожа показалась бы зыбкой лягушачьей шкуркой, которой из вежливости подернулось привидение, как болотце из вежливости пеленает себя в зеленую ряску, чтобы стыдливо скрыть тяжесть и тьму своих вод. В квартире как во сне, когда изо всех сил стремишься разглядеть очертания какого-либо предмета, но он отступает, словно яйцо в темной лавочке, которое Алиса тщетно желала купить, робко дезертирует по мере нашего к нему приближения; но вдруг, когда надежда уже почти потеряна, мы видим его с отчетливостью настолько пронзительной, что ее можно сравнить лишь с холодом.
На морозе короста, сотканная из наших иллюзий, соскальзывала с дедушки, он уже не казался нам столпом, пронзающим небеса, чье основание щекочет дно океана, он не казался нам земноводным существом, обитающим вблизи астрологов или в кельях христианских пустынников – мы видели крепкого пожилого человека, невысокого, даже коренастого, тепло одетого, с заботливо уложенным вокруг шеи шарфом. Время от времени он старательно сбивал сложенной надвое перчаткой оседающий на каракулевом воротнике снег. А облачко пара, повисающее возле его губ всякий раз, когда он что-то говорил нам или же просто выдыхал воздух, убеждало нас в том, что он – такое же теплокровное существо, как и мы, совсем не инеистый великан, отнюдь не побратим наста или наледи, не свойственник сосулькам, поземке, заморозкам, не прямой вдохновитель ледяных гор, катков, вьюг, метелей, не попечитель лыжни, надзирающий за ее твердым скрипом и блеском, короче говоря, что он не есть тот самый Дедушка Мороз, которого все дети с нетерпением ожидают в новогоднюю ночь. Дедушка выглядел человеком, но почему-то он все же напоминал нам Крокодила из поэмы Чуковского, который свободно ходил по улице, одетый в пальто и галоши. Мы видели и других крокодилов – нагих, распаренных, как посетители бань: они возлежали в неряшливых бассейнах, нежились в своих коричневых и зеленых лужах, на них мы смотрели в зоопарке сквозь толстое мутное стекло, покрытое капельками испарины. Нас пугало, что дома дедушка был почти невидимым, и когда он читал нам вслух перед сном, лик его заслоняли образы парусных судов, вмерзших в лед, или же на его старое лицо падала тень острова на реке Миссисипи, к которому течением прибит плавучий дом, где в одной из комнат находится голый мертвец.
 …МЫ ОСОБЕННО ЯСНО РАЗЛИЧАЛИ ОБЛИК ДЕДУШКИ ВО ВРЕМЯ ТЕХ ПРОГУЛОК…
…МЫ ОСОБЕННО ЯСНО РАЗЛИЧАЛИ ОБЛИК ДЕДУШКИ ВО ВРЕМЯ ТЕХ ПРОГУЛОК…
Мы проходили заснеженный двор и выходили на улицу Замореного, которая зимой напоминала бульвар из-за больших сугробов на тротуарах, крепко сбитых и выровненных железными лопатами дворников. В киоске дедушка покупал свежую газету, и газета действительно была пропитана ледяной свежестью зимнего дня – с тех пор словосочетание «свежая газета» всегда вызывает в нашей памяти одну из тех, принесенных с мороза газет, пахнущих холодом, волнистых, с влажными зубчатыми краями. Мы шли мимо здания с серебристо-белым шаром на крыше. Мы спросили дедушку, что это за здание, и он ответил: «Это Гидрометеоцентр», и тут мы почувствовали волнение – как будто произнесли имя Бога. Вечерами, когда мы уже лежали в кровати, обнявшись и засыпая, мы улавливали звуки телевизора из соседней комнаты, где дедушка смотрел программу «Время»: мы знали музыку начала, под которую из темных и теплых глубин космоса выплывал, вращаясь, земной шар, чтобы застыть, быть пойманным в объятия буквы «В», с которой начиналось слово «ВРЕМЯ». Слово «время» каждый вечер останавливало на наших глазах движение времени, то есть вращение Земли, смену дня и ночи. Планета ловилась плавным изгибом нижней части буквы «В», она попадала в «брюшко» этой пузатой чревоугодливой буквы. Но мы знали и музыку конца, сладкую, томительно-печальную и просветленно-радостную одновременно. Мы ждали ее, эту мелодию, чтобы насладиться, прежде чем заснуть. Это была известная мелодия из французского кинофильма «Шербурские зонтики», и эта мелодия вступала, появляясь издалека и медленно, вкрадчиво приближаясь, охлаждая наши сердца своей мучительной лаской, когда голос диктора произносил: «Гидрометеоцентр сообщает». Вместе со сведениями о заморозках и оттепелях, об осадках и о сильном порывистом ветре, который проходил неведомыми местами, всегда местами, местами, видно, для того, чтобы скрыть свою неуместность, вместе с пророчествами о снегопадах, о гололеде на дорогах, вместе со всеми этими пророчествами Гидрометеоцентр сообщал каждому нашему вечеру томительную и желанную печаль, нечто, шептавшее нам о любви и смерти, о просветленно-лукавом смирении, с каким все совершается.
Ту мелодию, которую мы так любили, впоследствии заменили другой, но мы с легкостью заставляем ее снова звучать в нашей памяти, и там она течет, пританцовывая, словно один из притоков Леты, омывающий те области нашей жизни, чьи пронизанные снами поля граничат с территориями младенчества, оккупированными забвением.
Легкомысленная и простая музыка всезнания, музыка всепрощения, музыка самой снисходительности, шепчущая: «Все свершится так, как ему и должно свершиться. И пускай».
Наши зимние прогулки сливаются в одно большое, погруженное в снег путешествие, – путешествие по мягкому и пухлому континенту белизны, растерянности, сомнамбулически подвешенному в пространстве, словно бы зависшему над остальными улицами и домами Москвы. Нам нужны были акварельные краски, и мы с дедушкой заходили в «пищебумажный» магазин, где по нашим представлениям должна была продаваться пища и бумага, но пищи там не было, одна лишь бумага, а также канцелярские принадлежности, разложенные под стеклом. Покидая этот магазин, мы несколько раз оглядывались, чтобы еще раз увидеть сквозь усилившийся снегопад, который создавал иллюзию, что мы постепенно слепнем, погружаясь в холодное, сладкое молоко, контур того дома, который казался нам прекрасным: могучие, но согбенные фигуры поддерживали засыпанный снегом балкон, а над глубокими окнами виднелись украшенные венками лица; выражения этих лиц были совершенно искажены снегом, который наполнял открытые рты и изумленно или гневно распахнутые глаза. Нам нужна была акварель для наших принцесс, для наших нарядных девочек, а деда как-то раз нарисовал нам рисунок, висевший долго над нашей кроватью: черный от сажи утенок, бегущий по краю льдины в белых штанах-клеш, и нагоняющий его Мойдодыр, с ног до головы забрызганный мелкими капельками крови.
Пройдя Гидрометеоцентр, мы сворачивали в Предтеченский. В простом переулке сквозь снежную пелену желтела церковь – иногда мы поднимались по ее полукруглым ступеням, осторожно прикасаясь к медным перилам, к которым наши пальцы слегка прилипали от холода. Внутри вершились богослужения, и им мы были лишь кратковременными свидетелями: мы видели спины поющих людей, мерцающие смальтовые своды, и лишь изредка, при случайном движении толпы, нам открывался далекий иконостас, этот роскошный золотой шкаф, из нижних отделений которого иногда выходили великодушные священники. За Предтеченским начинались какие-то переходы, мятый мирок двориков. Четкие направления улиц терялись, их затирали обреченные полуизбушки, уцелевшие в пазах и сгибах города остатки деревенской Москвы, – среди них встречался и один особняк с колоннами, скривившийся от омерзения к собственному упадку, как старик, сосущий лимон. Окружала его бревенчатая, неказистая дворня. На одном из окон висела голая курица, и нечто, совсем старое, но живое, укрытое пледами и платками, дремало на вросшем в снег табурете у гнилого крыльца. Проходя дальше по обледеневшим доскам, переброшенным через канавы и ямы, мы встречали уже совершенного мертвеца, анестезированного до сердцевины костей, нашего хорошего знакомого – то был бывший дворец пи онеров, дитя сияющих тридцатых годов, пустой и великолепный. Ничто не умеет так величественно, так беззаветно дарить себя запустению, как вещи и постройки, предназначенные для детей. Длинная и прекрасная лестница, широкая, созданная для того, чтобы по ней сбегали к воде гирлянды и цепи смеющихся, ликующих, крепко взявшихся за руки детей, каскадами спускалась от дворца, черневшего своими выбитыми окнами, к бассейну, на дне которого лежал снег. Мы называли это место Храмом Пустого Бассейна. Людей здесь не было, только статуи – дети, серые, заплаканные, воздевающие к небу обломки горнов. Нам нравилось одно изваяние – девочка, чью юбку словно бы только что смял нетерпеливый ветер. Она смотрела прямо вперед, слегка прищурившись. Лицо было серьезное, решительное, но недоверчивое, впрочем, сомнение на этом лице вот-вот готово было растаять вместе с ледяной коркой, и ее рот, чья форма была простой и совершенной, как форма листа магнолии, был уже слегка смягчен улыбкой – улыбкой узнавания и участия. И затем только мы входили в тот маленький парк, который считался целью наших прогулок – сквер Павлика Морозова. Статуя юноши, чья фамилия свидетельствовала о том, что он тоже принадлежит к пантеону богов холода, совсем была облеплена почтительным снегом, и только красный шелковый галстук на его бронзовой шее светился гаснущим сигнальным фонариком в нарастающей белой пелене. Сразу за сквером громоздилось огромное здание. Мы добирались до этого здания, похожего на гигантское белое кресло, увенчанное золотыми часами, и оно-то и было границей, пределом наших прогулок, его страшным и величественным завершением – возле него, как сказано у Данте, «изнемогал вдруг стремительный взлет духа»: здесь мы останавливались. Останавливались, чтобы не ступить ни шагу дальше. Останавливались, чтобы, взявшись за руки, смотреть вперед, как та гипсовая девочка – щурясь (снег крупными мягкими хлопьями застревал в наших ресницах), стоя с лицами, должно быть, изумленными и восхищенными, даже потрясенными, ибо то, что разверзалось там перед нашим взором, было немыслимо, непредставимо, пугающе и в то же время превосходно. Создавалось впечатление, что здесь проходит граница между крошечным, корявым мирком насекомых и колоссальным, шарообразным, ледяным миром гигантов. Здесь изменялась размерность. Это был порог, перепад размерностей. Сквозь белоснежную пелену проступали гигантические очертания Города – здания, столь далеко отстоящие друг от друга, разделенные столь пронзительно пустым и огромным пространством, но и сами столь огромные… Изгиб серой реки, мосты, туманный готический силуэт гостиницы «Украина». Небоскреб в виде приоткрытой книги… Город. Центр. Центр Государства. Центр Мира, похожий на пустой Тронный Зал, куда даже гиганты, для которых он был создан, не решаются заглянуть. И никто никогда не воссядет в этих колоссальных креслах-домах. И никто никогда не посмеет читать эти доверчиво приоткрытые дома-книги. И никто никогда не решится ответить улыбкой на колоссальные улыбки-здания, такие, как тающее вдали Полукруглое Здание, возвышающееся на крутом склоне над Ростовской набережной. Оно напоминает Скобу, одну из Скоб, удерживающих цельность этого космоса. Никто никогда не решится улыбнуться этим Скобам-Улыбкам в ответ. Но мы улыбались – знакомой улыбкой узнавания и участия, и нам казалось: вкус гипса и запах магнолий пробегают по нашим совершенным устам. Мы улыбались сдержанно, но уверенно, потому что знали – мы здесь свои, мы здесь – единственные свои, мы – порождения этой Великой Пустоты, держащей весь мир в рамках целительного ужаса. Отсюда, из этого места, миру придавалась его форма – форма яйца. Мы улыбались этому Величию и только – улыбались этой Пустоте и только – нашим маленьким ногам, обутым в облые валенки, не перешагнуть было той границы, которая отделяла скомканный, стесненный, лабиринтообразный микрокосм (в котором всегда ощущался недостаток вольного воздуха, и нам, двум девочкам, страдающим от астмы, это было известно наверняка) от этого расправленного, свободно и строго раскинувшегося в соответствии с благословенной Схемой макрокосмоса.
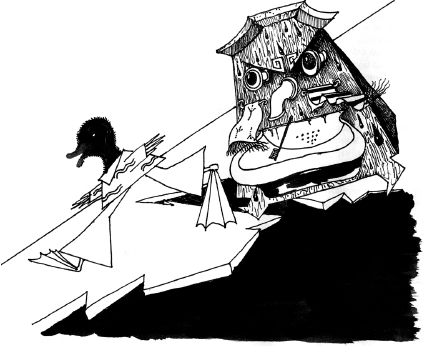 …ЧЕРНЫЙ ОТ САЖИ УТЕНОК, БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ ЛЬДИНЫ В БЕЛЫХ ШТАНАХ-КЛЕШ, И НАГОНЯЮЩИЙ ЕГО МОЙДОДЫР, С НОГ ДО ГОЛОВЫ ЗАБРЫЗГАННЫЙ МЕЛКИМИ КАПЕЛЬКАМИ КРОВИ…
…ЧЕРНЫЙ ОТ САЖИ УТЕНОК, БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ ЛЬДИНЫ В БЕЛЫХ ШТАНАХ-КЛЕШ, И НАГОНЯЮЩИЙ ЕГО МОЙДОДЫР, С НОГ ДО ГОЛОВЫ ЗАБРЫЗГАННЫЙ МЕЛКИМИ КАПЕЛЬКАМИ КРОВИ…
Возникало впечатление, что до этого мы шли не в городе, а в шкафу, по одной из его полок, пробираясь между мятых рецептов, сломанных ракеток, брошюр, среди слипшихся стопок старых журналов «Здоровье», пробираясь сквозь наслоения всего того, что живет бесформенной и цепкой жизнью, свойственной всему небольшому, отодвинутому, скученному, сквозь мирки, живущие тошнотворной и трогательной жизнью джунглей и политических оппозиций. И вот мы дошли до края полки этого шкафа и остановились на краю. И взглядам нашим открылась Комната, ее просторы, ее Зеркала, Троны, Столы…
Но то ли Стекло отделяет нас от этой Комнаты, то ли просто ужас падения удерживает нас на краю полки. А скорее всего и то, и другое: и Стекло, и ужас падения.
А, может быть, одна стена этой колоссальной Комнаты снесена словно бы взрывом, и сама Комната, как распахнутая ячейка секретера, открыта в сторону еще более огромного и необозримого пространства, но оттуда дует ветер и летит снег: белый, пухлый, слепящий, постепенно покрывая Зеркала, Троны, Столы, оседая на Стекле Шкафа, занося это Стекло своим пушистым покрывалом – так клетку с птицами милосердно накрывают шалью, чтобы ее обитатели успокоились в полутьме и наконец-то погрузились в сон…»
Мы закончили чтение. Клара Северная, Вольф и Княжко неподвижно сидели вокруг овального стола. Несмотря на длинноты и торможения нашего прозаического фрагмента, они не казались измученными. Видимо, они – все трое – вообще не слушали, а просто смотрели на нас, пока мы читали. Вольф и Княжко были влюблены в нас, поэтому им доставляло удовольствие следить за тем, как мы переворачиваем страницы, поправляем волосы, наблюдать за тем, как мы чередуем друг друга в деле чтения вслух. А Клара Северная когда-то, в течение довольно долгого времени, была любовницей нашего деда (о чем мы узнали утром того же самого дня, перебирая бумаги в дедовском кабинете) и, надо полагать, рассматривала нас с женским любопытством, как внучек одного своего любовника и как предмет обожания другого – если верно, что между нею и Княжко действительно имелась связь такого рода.
Наконец Клара произнесла несколько вкрадчиво:
– Девочки, вы сказали, что пишете в стиле Пруста. Не приходило ли вам в голову, что сам Пруст… его душа нашептывает вам эти описания?
– При чем тут душа? – удивились мы. – Это стилизация. Мы надеемся, качественная стилизация.
– Но зачем она, даже если она хороша? – спросила Клара. – Каковы ваши намерения? Ваши цели?
– Наши первоначальные намерения стали бы ясны, если бы роман был бы закончен. Но намерения наши изменились – мы решили не заканчивать его.
Наш роман «Дедушка пробормотал» мы собирались закончить фразой, которую дедушка якобы произнес во сне. Мы все не могли придумать эту фразу – дедушка никогда не говорил во сне: он спал крепко и бесшумно. Наконец мы попросили его самого придумать эту фразу. Был солнечный, морозный денек: дед и Егоров только что вернулись с лыжами из леса. Оба румяные, в толстых свитерах, облепленных снежными чешуйками, они шумно вносили свое снаряжение на террасу. Выслушав нашу просьбу, дед кивнул, прошел в комнату, стуча ботинками, которые казались подкованными. Он подошел к буфету, достал бутылку виски, налил две рюмки – себе и Егорову. Опрокинув рюмку, он промолвил: «Не выводите меня из себя».
– Мы и не выводим, – сказали мы.
– Не выводите меня из себя, – повторил дед, прищурившись. – Это и есть фраза. Считайте, что я пробормотал эту фразу сквозь сон.
И он одарил нас одной из своих усмешек. Наш дед был великим искусником по части усмешек: он умел усмехаться ноздрями, мочками ушей, затылком.
И потому, в соответствии с волей дедушки, наш роман должен был заканчиваться его словами «Не выводите меня из себя». Но об этом мы не собирались извещать Северную. К тому же имело ли все это хотя бы отдаленное отношение к «целям»? Скорее, то было одно из бесчисленных проявлений Бесцельности.
Поэма понравилась. Нас трогают литературные произведения. Ведь они создаются, чтобы принести другим удовольствие. Было так мирно под оранжевым шарообразным абажуром, что отражался в очках вдовы. Нечто поскрипывало в деревянных недрах дома. Покой. Глубокий покой. Или все еще действовал принятый накануне тазепам.
– Когда Константин Константинович написал эту вещь? – спросил Коля Вольф.
В ответ скрипнуло кресло, черная ветка ударилась о стекло окна, и вдова произнесла обыденно:
– Несколько дней тому назад.
Северная рассказала, что замысел поэмы «Филипп Второй» зародился у ее мужа давно, в конце тридцатых, когда Северный воевал в Испании на стороне республиканцев. Потом он все не мог осуществить свое намерение, занятый другими литературными и житейскими делами. В конце семидесятых годов Константин Константинович заинтересовался спиритизмом. За этим овальным столом с тех пор нередко вызывали духов. Перед смертью Константин Константинович попросил жену поддерживать с ним связь с помощью спиритизма. Умерев и освободившись от земных забот, он принялся диктовать своей вдове литературные произведения, реализации своих давних неосуществленных планов.
– Вчера я разговаривала с Костей и сказала ему, что внучки Игоря будут сегодня у меня. Он просил, чтобы мы связались с ним. Константин Константиныч с Игорем Андреичем ведь были большие друзья. Если вы не возражаете… – С этими словами Северная плавными, скромными и в то же время отточенными движениями сняла со стола сахарницу, чашки и вазочку с печеньем, затем сдернула скатерть, и обнажилось спиритическое «поле»: большой лист ватмана, на котором карандашом был очерчен большой круг, оснащенный буквами русского алфавита.
– Отсутствует внутренний кружок, для блюдца, – сказали мы, и одна из нас коснулась кончиком пальца центра листа, где стояла простая, еле видимая точка.
– Блюдце нам не понадобится, – улыбнулась Северная. – Блюдце, конечно, хорошая вещица. Вечная вещица. Но есть кое-что более натуральное и… как бы это выразиться? Нечто более замкнутое. Мы обычно используем яйцо. Этот способ изобрел Константин Константиныч, опираясь на древние гадательные практики.
Она повернулась к одной из нас:
– Ты не могла бы пойти на кухню и принести яйцо из холодильника?
По коридорчику, устланному плетеными пестрыми ковриками, я прошла на дачную кухню. В холодильнике нашлось только одно яйцо – небольшое, белое, с синей печатью «Диета» на белом боку. Остальные яйца – уже сваренные вкрутую, раскрашенные в разные цвета, некоторые, помеченные буквами X. В., – лежали горкой в корзинке посреди кухонного столика, готовые для завтрашней Пасхи.
Рядом возвышался кулич в пакете и пасхальный творог, бережно затянутый пергаментной бумагой.
Сжимая холодное яйцо в ладони, я вернулась в гостиную.
Княжко взял яйцо и стал с глубокомысленным видом рассматривать его, держа четырьмя пальцами.
– Яйцо, – вымолвил Княжко, состроив гримасу «философа». – Это яйцо имеет к вам, девочки, непосредственное отношение. Ведь вы – однояйцевые. Одно яйцо. Одно оно. Могло бы быть два «оно», если бы не буква «д». Уберем букву «д» и получится «оно оно». Но букву «д» так просто не уберешь. «Д» твердо стоит на страже одиночества «оно». Оно одно.
– «Д» – это дверь, – неожиданно сказал Коля Вольф.
– А еще «д» – это «дурочка», «деревня» и «дрова». Вообще «дерево», – прибавила Северная.
Северная взяла яйцо и черной тушью нарисовала на его скорлупе стрелку. Затем она положила яйцо в центр круга – там, где стояла точка.
– А вы, девочки, не желали бы побеседовать с вашим дедушкой? – вдруг спросила вдова, взглянув нам в лица своими молодыми вишневыми глазками.
Мы посмотрели друг на друга. Вопрос застал нас врасплох, и решение следовало принимать мгновенно. Мгновенно, раз и навсегда. И в эту минуту мы обе подумали об одном. «Не выводите меня из себя», – сказал нам дедушка. Не пробормотал сквозь сон, а произнес отчетливо, в ясном сознании, в ясный морозный денек, весело поднимая рюмку с янтарным виски, в котором сверкало солнце. Эта фраза должна была завершать наш роман, посвященный дедушке. Это было своего рода завещание, напутствие. В доме Северной, глядя на яйцо с черной стрелкой и с синей печатью на боку, мы наконец поняли, что дедушка имел в виду. Мы должны были содержать дедушку в себе, в своих сердцах и в пульсирующем пространстве между нами, но никогда – с тех пор, как он умер, и пока живы мы, – мы не посмеем вывести его вовне, за наши пределы. Если бы мы согласились на предложение Северной, если бы позволили сообщениям, исходящим от дедушки, прийти к нам извне, со стороны яйца, со стороны веснушчатых рук Северной с оранжевыми ноготками, со стороны Княжко и его шерстяных кофт, со стороны Вольфа, со стороны робости, жадности, ужаса и надежды, со стороны Минска, Киева, Пинска, Львова, Мукачево, Чопа, со стороны Мурманска, Архангельска, Петзамо, Петропавловска-Камчатского, со стороны Свердловска, Игры, Бодайбо, со стороны Минеральных Вод, Нальчика, Нахичевани, Адлера, со стороны Душанбе, Иркутска, Орла, Владивостока, Находки – если мы бы позволили это, мы предали бы завет дедушки, мы вывели бы его из себя. Для того, чтобы сообщаться с дедушкой, нам не нужны окраины, не нужны другие, только мы сами и священная пустота между нами, только Великая и Ужасная Москва и Прекрасное Подмосковье, только сладостное и тайное окошко в небесах, распахнутое настежь где-то над стрелой Кутузовского проспекта – там, где эта стрела, летящая от самой нашей дачи, великолепно вонзается в Центр Мира, пронзив насквозь черно-белую Триумфальную арку, оставив ее посередине своих стремнин, оставив циклопического Кутузова, прикоснувшись ласково к его Слепому Глазу, белому, как яйцо, белому, как брюшко царевны-лягушки… Дедушка свободно обращался к нам от МИДа, от гиганта Смоленской площади, сопровождаемого двумя роботами-телохранителями, двумя близнецами-небоскребами. Он говорил с нами гостиницей «Украина», он улыбался нам Скобой Ростовской набережной, его голос возникал из совокупного гула Киевского и Белорусского вокзалов, он вращался огромным глобусом на углу Калининского проспекта и Садового Кольца, он высказывался в форме высотных зданий площади Восстания и Котельнической набережной, высказывался белоснежным зданием Правительства РСФСР, имеющим вид колоссального белого кресла или трона, увенчанного золотыми часами и флагом… За изъеденной окошками спиной этого трона еще теплились мятые переходы, канавки, полуизбушки, мостки, коричневые пузырьки… Дедушка стал Гудвином. Дедушка стал Москвой. Но даже этого нам было не нужно. Дедушка просто стал нами. Стал двумя девушками.
 …НУ ЧТО Ж, ТОГДА ПОПРОСИМ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНЫЧА ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ…
…НУ ЧТО Ж, ТОГДА ПОПРОСИМ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНЫЧА ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ…
– Нет, – сказали мы.
– Ну что ж, тогда попросим Константина Константиныча выйти на связь, – улыбнулась Северная.
Каждый из нас протянул руку, и они сомкнулись над яйцом, образовав нечто вроде крыши в виде цветка с пятью лепестками. Пять рук.
Две из пяти – одинаковые. Наши. Узкие, смуглые, с тонкими изящными пальцами. Бледная широкая юношеская рука Вольфа. Часы. Мужские часы «Ракета» на запястье этой руки. Веснушчатая рука Северной с острыми оранжевыми ноготками. Украшенная двумя кольцами – одно в виде змейки, другое с желтым сапфиром. Пухлая онанистическая рука Княжко. Рука аббата.
«Иногда он брал нас с собой на прогулки – в зимние дни. Мы ясно вспоминаем его: в каракулевой шапочке, а на его бледном морщинистом лице в морозные дни появлялось подобие румянца, розовые паутинки на щеках. Мы особенно ясно различали облик дедушки во время тех прогулок. На улице, в ровном зимнем свете мы могли смотреть на него почти так же пристально, как на чужого человека, как на прохожего, и это отчуждение приближало его к нам. Мы наконец (как нам казалось) обретали и дедушку в ряду тех человеческих лиц и силуэтов, которые украшали фронтон нашей жизни. Этому способствовало и свечение снега, подчеркивающее границы фигуры в черном пальто, и морозный воздух, который словно бы схватывал черты лиц, не позволяя им таять; мороз придавал даже дряблой или полупрозрачной коже осязаемость, в то время как в недрах квартиры, в туманном свете маленьких ламп, с трудом цедящих свой свет сквозь розовые кружева абажуров, эта кожа показалась бы зыбкой лягушачьей шкуркой, которой из вежливости подернулось привидение, как болотце из вежливости пеленает себя в зеленую ряску, чтобы стыдливо скрыть тяжесть и тьму своих вод. В квартире как во сне, когда изо всех сил стремишься разглядеть очертания какого-либо предмета, но он отступает, словно яйцо в темной лавочке, которое Алиса тщетно желала купить, робко дезертирует по мере нашего к нему приближения; но вдруг, когда надежда уже почти потеряна, мы видим его с отчетливостью настолько пронзительной, что ее можно сравнить лишь с холодом.
На морозе короста, сотканная из наших иллюзий, соскальзывала с дедушки, он уже не казался нам столпом, пронзающим небеса, чье основание щекочет дно океана, он не казался нам земноводным существом, обитающим вблизи астрологов или в кельях христианских пустынников – мы видели крепкого пожилого человека, невысокого, даже коренастого, тепло одетого, с заботливо уложенным вокруг шеи шарфом. Время от времени он старательно сбивал сложенной надвое перчаткой оседающий на каракулевом воротнике снег. А облачко пара, повисающее возле его губ всякий раз, когда он что-то говорил нам или же просто выдыхал воздух, убеждало нас в том, что он – такое же теплокровное существо, как и мы, совсем не инеистый великан, отнюдь не побратим наста или наледи, не свойственник сосулькам, поземке, заморозкам, не прямой вдохновитель ледяных гор, катков, вьюг, метелей, не попечитель лыжни, надзирающий за ее твердым скрипом и блеском, короче говоря, что он не есть тот самый Дедушка Мороз, которого все дети с нетерпением ожидают в новогоднюю ночь. Дедушка выглядел человеком, но почему-то он все же напоминал нам Крокодила из поэмы Чуковского, который свободно ходил по улице, одетый в пальто и галоши. Мы видели и других крокодилов – нагих, распаренных, как посетители бань: они возлежали в неряшливых бассейнах, нежились в своих коричневых и зеленых лужах, на них мы смотрели в зоопарке сквозь толстое мутное стекло, покрытое капельками испарины. Нас пугало, что дома дедушка был почти невидимым, и когда он читал нам вслух перед сном, лик его заслоняли образы парусных судов, вмерзших в лед, или же на его старое лицо падала тень острова на реке Миссисипи, к которому течением прибит плавучий дом, где в одной из комнат находится голый мертвец.

Мы проходили заснеженный двор и выходили на улицу Замореного, которая зимой напоминала бульвар из-за больших сугробов на тротуарах, крепко сбитых и выровненных железными лопатами дворников. В киоске дедушка покупал свежую газету, и газета действительно была пропитана ледяной свежестью зимнего дня – с тех пор словосочетание «свежая газета» всегда вызывает в нашей памяти одну из тех, принесенных с мороза газет, пахнущих холодом, волнистых, с влажными зубчатыми краями. Мы шли мимо здания с серебристо-белым шаром на крыше. Мы спросили дедушку, что это за здание, и он ответил: «Это Гидрометеоцентр», и тут мы почувствовали волнение – как будто произнесли имя Бога. Вечерами, когда мы уже лежали в кровати, обнявшись и засыпая, мы улавливали звуки телевизора из соседней комнаты, где дедушка смотрел программу «Время»: мы знали музыку начала, под которую из темных и теплых глубин космоса выплывал, вращаясь, земной шар, чтобы застыть, быть пойманным в объятия буквы «В», с которой начиналось слово «ВРЕМЯ». Слово «время» каждый вечер останавливало на наших глазах движение времени, то есть вращение Земли, смену дня и ночи. Планета ловилась плавным изгибом нижней части буквы «В», она попадала в «брюшко» этой пузатой чревоугодливой буквы. Но мы знали и музыку конца, сладкую, томительно-печальную и просветленно-радостную одновременно. Мы ждали ее, эту мелодию, чтобы насладиться, прежде чем заснуть. Это была известная мелодия из французского кинофильма «Шербурские зонтики», и эта мелодия вступала, появляясь издалека и медленно, вкрадчиво приближаясь, охлаждая наши сердца своей мучительной лаской, когда голос диктора произносил: «Гидрометеоцентр сообщает». Вместе со сведениями о заморозках и оттепелях, об осадках и о сильном порывистом ветре, который проходил неведомыми местами, всегда местами, местами, видно, для того, чтобы скрыть свою неуместность, вместе с пророчествами о снегопадах, о гололеде на дорогах, вместе со всеми этими пророчествами Гидрометеоцентр сообщал каждому нашему вечеру томительную и желанную печаль, нечто, шептавшее нам о любви и смерти, о просветленно-лукавом смирении, с каким все совершается.
Ту мелодию, которую мы так любили, впоследствии заменили другой, но мы с легкостью заставляем ее снова звучать в нашей памяти, и там она течет, пританцовывая, словно один из притоков Леты, омывающий те области нашей жизни, чьи пронизанные снами поля граничат с территориями младенчества, оккупированными забвением.
Легкомысленная и простая музыка всезнания, музыка всепрощения, музыка самой снисходительности, шепчущая: «Все свершится так, как ему и должно свершиться. И пускай».
Наши зимние прогулки сливаются в одно большое, погруженное в снег путешествие, – путешествие по мягкому и пухлому континенту белизны, растерянности, сомнамбулически подвешенному в пространстве, словно бы зависшему над остальными улицами и домами Москвы. Нам нужны были акварельные краски, и мы с дедушкой заходили в «пищебумажный» магазин, где по нашим представлениям должна была продаваться пища и бумага, но пищи там не было, одна лишь бумага, а также канцелярские принадлежности, разложенные под стеклом. Покидая этот магазин, мы несколько раз оглядывались, чтобы еще раз увидеть сквозь усилившийся снегопад, который создавал иллюзию, что мы постепенно слепнем, погружаясь в холодное, сладкое молоко, контур того дома, который казался нам прекрасным: могучие, но согбенные фигуры поддерживали засыпанный снегом балкон, а над глубокими окнами виднелись украшенные венками лица; выражения этих лиц были совершенно искажены снегом, который наполнял открытые рты и изумленно или гневно распахнутые глаза. Нам нужна была акварель для наших принцесс, для наших нарядных девочек, а деда как-то раз нарисовал нам рисунок, висевший долго над нашей кроватью: черный от сажи утенок, бегущий по краю льдины в белых штанах-клеш, и нагоняющий его Мойдодыр, с ног до головы забрызганный мелкими капельками крови.
Пройдя Гидрометеоцентр, мы сворачивали в Предтеченский. В простом переулке сквозь снежную пелену желтела церковь – иногда мы поднимались по ее полукруглым ступеням, осторожно прикасаясь к медным перилам, к которым наши пальцы слегка прилипали от холода. Внутри вершились богослужения, и им мы были лишь кратковременными свидетелями: мы видели спины поющих людей, мерцающие смальтовые своды, и лишь изредка, при случайном движении толпы, нам открывался далекий иконостас, этот роскошный золотой шкаф, из нижних отделений которого иногда выходили великодушные священники. За Предтеченским начинались какие-то переходы, мятый мирок двориков. Четкие направления улиц терялись, их затирали обреченные полуизбушки, уцелевшие в пазах и сгибах города остатки деревенской Москвы, – среди них встречался и один особняк с колоннами, скривившийся от омерзения к собственному упадку, как старик, сосущий лимон. Окружала его бревенчатая, неказистая дворня. На одном из окон висела голая курица, и нечто, совсем старое, но живое, укрытое пледами и платками, дремало на вросшем в снег табурете у гнилого крыльца. Проходя дальше по обледеневшим доскам, переброшенным через канавы и ямы, мы встречали уже совершенного мертвеца, анестезированного до сердцевины костей, нашего хорошего знакомого – то был бывший дворец пи онеров, дитя сияющих тридцатых годов, пустой и великолепный. Ничто не умеет так величественно, так беззаветно дарить себя запустению, как вещи и постройки, предназначенные для детей. Длинная и прекрасная лестница, широкая, созданная для того, чтобы по ней сбегали к воде гирлянды и цепи смеющихся, ликующих, крепко взявшихся за руки детей, каскадами спускалась от дворца, черневшего своими выбитыми окнами, к бассейну, на дне которого лежал снег. Мы называли это место Храмом Пустого Бассейна. Людей здесь не было, только статуи – дети, серые, заплаканные, воздевающие к небу обломки горнов. Нам нравилось одно изваяние – девочка, чью юбку словно бы только что смял нетерпеливый ветер. Она смотрела прямо вперед, слегка прищурившись. Лицо было серьезное, решительное, но недоверчивое, впрочем, сомнение на этом лице вот-вот готово было растаять вместе с ледяной коркой, и ее рот, чья форма была простой и совершенной, как форма листа магнолии, был уже слегка смягчен улыбкой – улыбкой узнавания и участия. И затем только мы входили в тот маленький парк, который считался целью наших прогулок – сквер Павлика Морозова. Статуя юноши, чья фамилия свидетельствовала о том, что он тоже принадлежит к пантеону богов холода, совсем была облеплена почтительным снегом, и только красный шелковый галстук на его бронзовой шее светился гаснущим сигнальным фонариком в нарастающей белой пелене. Сразу за сквером громоздилось огромное здание. Мы добирались до этого здания, похожего на гигантское белое кресло, увенчанное золотыми часами, и оно-то и было границей, пределом наших прогулок, его страшным и величественным завершением – возле него, как сказано у Данте, «изнемогал вдруг стремительный взлет духа»: здесь мы останавливались. Останавливались, чтобы не ступить ни шагу дальше. Останавливались, чтобы, взявшись за руки, смотреть вперед, как та гипсовая девочка – щурясь (снег крупными мягкими хлопьями застревал в наших ресницах), стоя с лицами, должно быть, изумленными и восхищенными, даже потрясенными, ибо то, что разверзалось там перед нашим взором, было немыслимо, непредставимо, пугающе и в то же время превосходно. Создавалось впечатление, что здесь проходит граница между крошечным, корявым мирком насекомых и колоссальным, шарообразным, ледяным миром гигантов. Здесь изменялась размерность. Это был порог, перепад размерностей. Сквозь белоснежную пелену проступали гигантические очертания Города – здания, столь далеко отстоящие друг от друга, разделенные столь пронзительно пустым и огромным пространством, но и сами столь огромные… Изгиб серой реки, мосты, туманный готический силуэт гостиницы «Украина». Небоскреб в виде приоткрытой книги… Город. Центр. Центр Государства. Центр Мира, похожий на пустой Тронный Зал, куда даже гиганты, для которых он был создан, не решаются заглянуть. И никто никогда не воссядет в этих колоссальных креслах-домах. И никто никогда не посмеет читать эти доверчиво приоткрытые дома-книги. И никто никогда не решится ответить улыбкой на колоссальные улыбки-здания, такие, как тающее вдали Полукруглое Здание, возвышающееся на крутом склоне над Ростовской набережной. Оно напоминает Скобу, одну из Скоб, удерживающих цельность этого космоса. Никто никогда не решится улыбнуться этим Скобам-Улыбкам в ответ. Но мы улыбались – знакомой улыбкой узнавания и участия, и нам казалось: вкус гипса и запах магнолий пробегают по нашим совершенным устам. Мы улыбались сдержанно, но уверенно, потому что знали – мы здесь свои, мы здесь – единственные свои, мы – порождения этой Великой Пустоты, держащей весь мир в рамках целительного ужаса. Отсюда, из этого места, миру придавалась его форма – форма яйца. Мы улыбались этому Величию и только – улыбались этой Пустоте и только – нашим маленьким ногам, обутым в облые валенки, не перешагнуть было той границы, которая отделяла скомканный, стесненный, лабиринтообразный микрокосм (в котором всегда ощущался недостаток вольного воздуха, и нам, двум девочкам, страдающим от астмы, это было известно наверняка) от этого расправленного, свободно и строго раскинувшегося в соответствии с благословенной Схемой макрокосмоса.
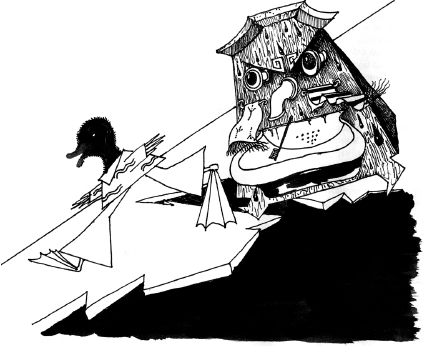
Возникало впечатление, что до этого мы шли не в городе, а в шкафу, по одной из его полок, пробираясь между мятых рецептов, сломанных ракеток, брошюр, среди слипшихся стопок старых журналов «Здоровье», пробираясь сквозь наслоения всего того, что живет бесформенной и цепкой жизнью, свойственной всему небольшому, отодвинутому, скученному, сквозь мирки, живущие тошнотворной и трогательной жизнью джунглей и политических оппозиций. И вот мы дошли до края полки этого шкафа и остановились на краю. И взглядам нашим открылась Комната, ее просторы, ее Зеркала, Троны, Столы…
Но то ли Стекло отделяет нас от этой Комнаты, то ли просто ужас падения удерживает нас на краю полки. А скорее всего и то, и другое: и Стекло, и ужас падения.
А, может быть, одна стена этой колоссальной Комнаты снесена словно бы взрывом, и сама Комната, как распахнутая ячейка секретера, открыта в сторону еще более огромного и необозримого пространства, но оттуда дует ветер и летит снег: белый, пухлый, слепящий, постепенно покрывая Зеркала, Троны, Столы, оседая на Стекле Шкафа, занося это Стекло своим пушистым покрывалом – так клетку с птицами милосердно накрывают шалью, чтобы ее обитатели успокоились в полутьме и наконец-то погрузились в сон…»
Мы закончили чтение. Клара Северная, Вольф и Княжко неподвижно сидели вокруг овального стола. Несмотря на длинноты и торможения нашего прозаического фрагмента, они не казались измученными. Видимо, они – все трое – вообще не слушали, а просто смотрели на нас, пока мы читали. Вольф и Княжко были влюблены в нас, поэтому им доставляло удовольствие следить за тем, как мы переворачиваем страницы, поправляем волосы, наблюдать за тем, как мы чередуем друг друга в деле чтения вслух. А Клара Северная когда-то, в течение довольно долгого времени, была любовницей нашего деда (о чем мы узнали утром того же самого дня, перебирая бумаги в дедовском кабинете) и, надо полагать, рассматривала нас с женским любопытством, как внучек одного своего любовника и как предмет обожания другого – если верно, что между нею и Княжко действительно имелась связь такого рода.
Наконец Клара произнесла несколько вкрадчиво:
– Девочки, вы сказали, что пишете в стиле Пруста. Не приходило ли вам в голову, что сам Пруст… его душа нашептывает вам эти описания?
– При чем тут душа? – удивились мы. – Это стилизация. Мы надеемся, качественная стилизация.
– Но зачем она, даже если она хороша? – спросила Клара. – Каковы ваши намерения? Ваши цели?
– Наши первоначальные намерения стали бы ясны, если бы роман был бы закончен. Но намерения наши изменились – мы решили не заканчивать его.
Наш роман «Дедушка пробормотал» мы собирались закончить фразой, которую дедушка якобы произнес во сне. Мы все не могли придумать эту фразу – дедушка никогда не говорил во сне: он спал крепко и бесшумно. Наконец мы попросили его самого придумать эту фразу. Был солнечный, морозный денек: дед и Егоров только что вернулись с лыжами из леса. Оба румяные, в толстых свитерах, облепленных снежными чешуйками, они шумно вносили свое снаряжение на террасу. Выслушав нашу просьбу, дед кивнул, прошел в комнату, стуча ботинками, которые казались подкованными. Он подошел к буфету, достал бутылку виски, налил две рюмки – себе и Егорову. Опрокинув рюмку, он промолвил: «Не выводите меня из себя».
– Мы и не выводим, – сказали мы.
– Не выводите меня из себя, – повторил дед, прищурившись. – Это и есть фраза. Считайте, что я пробормотал эту фразу сквозь сон.
И он одарил нас одной из своих усмешек. Наш дед был великим искусником по части усмешек: он умел усмехаться ноздрями, мочками ушей, затылком.
И потому, в соответствии с волей дедушки, наш роман должен был заканчиваться его словами «Не выводите меня из себя». Но об этом мы не собирались извещать Северную. К тому же имело ли все это хотя бы отдаленное отношение к «целям»? Скорее, то было одно из бесчисленных проявлений Бесцельности.
* * *
Северная сказала, что – в качестве завершения чтения – она собирается прочесть одну вещь своего покойного мужа. Она достала рукопись, надела очки и ста ла читать. Это оказалась драма в стихах под названием «Филипп Второй». Нам запомнились отдельные четверостишия.Или:
Меж можжевеловых террас
Шел, опираясь на шута.
Как тушь сквозь воду пролилась
Двух одеяний чернота.
Далее следовало долгое обращение к Христу, наполненное благодарностями за нисхождение во ад, за основание Рая в аду. Был неплохой образ адского Рая, имеющего вид слегка обугленной березовой рощи, затерянной среди траншей, где блаженные (чьи белые рясы покрыты копотью и исписаны грубыми словосочетаниями: «По Берлину!», или «Хуй в рот фашистам», или «За наш Мадрид!») спят на лужайках или делают надрезы на деревьях и медленно пьют березовый сок.
Эскуриал как белоснежный мрак,
Как кость, из коей высосали мозг.
И где мой Бог? И где мой шут?
И где мой враг?
Лишь свист плетей. И визги жертв.
И треск костров.
Лишь треск свечей. И сладкий дым.
И черный воск.
Я так хочу. Пусть будет так, раз это – ад.
Пусть этот мир сто тысяч раз напишет
Босх,
Но автор – я. Я и Христос.
Ведь Он мой брат.
Поэма понравилась. Нас трогают литературные произведения. Ведь они создаются, чтобы принести другим удовольствие. Было так мирно под оранжевым шарообразным абажуром, что отражался в очках вдовы. Нечто поскрипывало в деревянных недрах дома. Покой. Глубокий покой. Или все еще действовал принятый накануне тазепам.
– Когда Константин Константинович написал эту вещь? – спросил Коля Вольф.
В ответ скрипнуло кресло, черная ветка ударилась о стекло окна, и вдова произнесла обыденно:
– Несколько дней тому назад.
Северная рассказала, что замысел поэмы «Филипп Второй» зародился у ее мужа давно, в конце тридцатых, когда Северный воевал в Испании на стороне республиканцев. Потом он все не мог осуществить свое намерение, занятый другими литературными и житейскими делами. В конце семидесятых годов Константин Константинович заинтересовался спиритизмом. За этим овальным столом с тех пор нередко вызывали духов. Перед смертью Константин Константинович попросил жену поддерживать с ним связь с помощью спиритизма. Умерев и освободившись от земных забот, он принялся диктовать своей вдове литературные произведения, реализации своих давних неосуществленных планов.
– Вчера я разговаривала с Костей и сказала ему, что внучки Игоря будут сегодня у меня. Он просил, чтобы мы связались с ним. Константин Константиныч с Игорем Андреичем ведь были большие друзья. Если вы не возражаете… – С этими словами Северная плавными, скромными и в то же время отточенными движениями сняла со стола сахарницу, чашки и вазочку с печеньем, затем сдернула скатерть, и обнажилось спиритическое «поле»: большой лист ватмана, на котором карандашом был очерчен большой круг, оснащенный буквами русского алфавита.
– Отсутствует внутренний кружок, для блюдца, – сказали мы, и одна из нас коснулась кончиком пальца центра листа, где стояла простая, еле видимая точка.
– Блюдце нам не понадобится, – улыбнулась Северная. – Блюдце, конечно, хорошая вещица. Вечная вещица. Но есть кое-что более натуральное и… как бы это выразиться? Нечто более замкнутое. Мы обычно используем яйцо. Этот способ изобрел Константин Константиныч, опираясь на древние гадательные практики.
Она повернулась к одной из нас:
– Ты не могла бы пойти на кухню и принести яйцо из холодильника?
По коридорчику, устланному плетеными пестрыми ковриками, я прошла на дачную кухню. В холодильнике нашлось только одно яйцо – небольшое, белое, с синей печатью «Диета» на белом боку. Остальные яйца – уже сваренные вкрутую, раскрашенные в разные цвета, некоторые, помеченные буквами X. В., – лежали горкой в корзинке посреди кухонного столика, готовые для завтрашней Пасхи.
Рядом возвышался кулич в пакете и пасхальный творог, бережно затянутый пергаментной бумагой.
Сжимая холодное яйцо в ладони, я вернулась в гостиную.
Княжко взял яйцо и стал с глубокомысленным видом рассматривать его, держа четырьмя пальцами.
– Яйцо, – вымолвил Княжко, состроив гримасу «философа». – Это яйцо имеет к вам, девочки, непосредственное отношение. Ведь вы – однояйцевые. Одно яйцо. Одно оно. Могло бы быть два «оно», если бы не буква «д». Уберем букву «д» и получится «оно оно». Но букву «д» так просто не уберешь. «Д» твердо стоит на страже одиночества «оно». Оно одно.
– «Д» – это дверь, – неожиданно сказал Коля Вольф.
– А еще «д» – это «дурочка», «деревня» и «дрова». Вообще «дерево», – прибавила Северная.
Северная взяла яйцо и черной тушью нарисовала на его скорлупе стрелку. Затем она положила яйцо в центр круга – там, где стояла точка.
– А вы, девочки, не желали бы побеседовать с вашим дедушкой? – вдруг спросила вдова, взглянув нам в лица своими молодыми вишневыми глазками.
Мы посмотрели друг на друга. Вопрос застал нас врасплох, и решение следовало принимать мгновенно. Мгновенно, раз и навсегда. И в эту минуту мы обе подумали об одном. «Не выводите меня из себя», – сказал нам дедушка. Не пробормотал сквозь сон, а произнес отчетливо, в ясном сознании, в ясный морозный денек, весело поднимая рюмку с янтарным виски, в котором сверкало солнце. Эта фраза должна была завершать наш роман, посвященный дедушке. Это было своего рода завещание, напутствие. В доме Северной, глядя на яйцо с черной стрелкой и с синей печатью на боку, мы наконец поняли, что дедушка имел в виду. Мы должны были содержать дедушку в себе, в своих сердцах и в пульсирующем пространстве между нами, но никогда – с тех пор, как он умер, и пока живы мы, – мы не посмеем вывести его вовне, за наши пределы. Если бы мы согласились на предложение Северной, если бы позволили сообщениям, исходящим от дедушки, прийти к нам извне, со стороны яйца, со стороны веснушчатых рук Северной с оранжевыми ноготками, со стороны Княжко и его шерстяных кофт, со стороны Вольфа, со стороны робости, жадности, ужаса и надежды, со стороны Минска, Киева, Пинска, Львова, Мукачево, Чопа, со стороны Мурманска, Архангельска, Петзамо, Петропавловска-Камчатского, со стороны Свердловска, Игры, Бодайбо, со стороны Минеральных Вод, Нальчика, Нахичевани, Адлера, со стороны Душанбе, Иркутска, Орла, Владивостока, Находки – если мы бы позволили это, мы предали бы завет дедушки, мы вывели бы его из себя. Для того, чтобы сообщаться с дедушкой, нам не нужны окраины, не нужны другие, только мы сами и священная пустота между нами, только Великая и Ужасная Москва и Прекрасное Подмосковье, только сладостное и тайное окошко в небесах, распахнутое настежь где-то над стрелой Кутузовского проспекта – там, где эта стрела, летящая от самой нашей дачи, великолепно вонзается в Центр Мира, пронзив насквозь черно-белую Триумфальную арку, оставив ее посередине своих стремнин, оставив циклопического Кутузова, прикоснувшись ласково к его Слепому Глазу, белому, как яйцо, белому, как брюшко царевны-лягушки… Дедушка свободно обращался к нам от МИДа, от гиганта Смоленской площади, сопровождаемого двумя роботами-телохранителями, двумя близнецами-небоскребами. Он говорил с нами гостиницей «Украина», он улыбался нам Скобой Ростовской набережной, его голос возникал из совокупного гула Киевского и Белорусского вокзалов, он вращался огромным глобусом на углу Калининского проспекта и Садового Кольца, он высказывался в форме высотных зданий площади Восстания и Котельнической набережной, высказывался белоснежным зданием Правительства РСФСР, имеющим вид колоссального белого кресла или трона, увенчанного золотыми часами и флагом… За изъеденной окошками спиной этого трона еще теплились мятые переходы, канавки, полуизбушки, мостки, коричневые пузырьки… Дедушка стал Гудвином. Дедушка стал Москвой. Но даже этого нам было не нужно. Дедушка просто стал нами. Стал двумя девушками.

– Нет, – сказали мы.
– Ну что ж, тогда попросим Константина Константиныча выйти на связь, – улыбнулась Северная.
Каждый из нас протянул руку, и они сомкнулись над яйцом, образовав нечто вроде крыши в виде цветка с пятью лепестками. Пять рук.
Две из пяти – одинаковые. Наши. Узкие, смуглые, с тонкими изящными пальцами. Бледная широкая юношеская рука Вольфа. Часы. Мужские часы «Ракета» на запястье этой руки. Веснушчатая рука Северной с острыми оранжевыми ноготками. Украшенная двумя кольцами – одно в виде змейки, другое с желтым сапфиром. Пухлая онанистическая рука Княжко. Рука аббата.
