Страница:
Анатолий Санжаровский
В Батум, к отцу
Повесть
Погибшие за нас не уходят от нас.
Ан. Санжаровский
Отец славен сыновьями.
Русская пословица
1
Кто как хочет, а я по-своему.
Стреми свой ум к добру.
А мне и самому в полное удивление теперь, ну как это мы вот так, с ничего, совсем с ничего, совсем вдруг попали тогда в Батум, хотя прямо и не скажи того, – не так-то вовсе вдруг, это только на первые глаза так оно кажется...
На твоих глазах – а надо сказать, прескверная у меня мода говорить с самим собой, как с кем другим, – на твоих ведь глазах я всё клянчил ма отпустить меня в мореходку. Да ты ж знаешь! «А кто кукурузу станет сеять? А кто будет пособлять деньжонки Митьке на техникум зарабатывать? Ты ж старший в доме мужчина, первейшина, хозяин!» Оно видишь, под что клинья бьются? Понимаешь, к чему всё ладится? Кому раз, кому два, а кому и нет ничего. Всё я куда-то, всё я кому-то, а когда же мне? Лета молодые уйдут, потом мне не надо. Потом поздно уже, как в старость въедешь.
Всякое ученье призваньем хорошо – у меня его нету.
В дневнике в моём всё великомученицы тройки, редко когда-никогда шалой какой волной прибьёт к берегу к моему четвёрку, так этой птахе, и то сказать, так одиноко и вчуже всё тут, что другим разом она и во весь месяц не случится снова.
Зато физик через неделю да во всякую неделю с немецкой аккуратностью подпускал мне лебедей. Бывало, нарисует невспех в поллиста своего лебедя, полюбуется с ухмылочкой, протянет назад дневник:
– Два!
Под венец четверти весь урок тебя до смерти гоняет, а наскребёт-таки на изумленье мне со всех моих закоулков под шапкой copy на троечку, да и не отдаст с миром, а непременно попрекнёт, мол, не за знания – за усердие жалую. А обиды что! Я ж ночами, как есть полными ночами, от света до света, долбил ту физику, только проку ни на ноготь срезанный. Таких в классе и на завод нету, если меня мимо счёта пустить, один я такой пустоколосый.
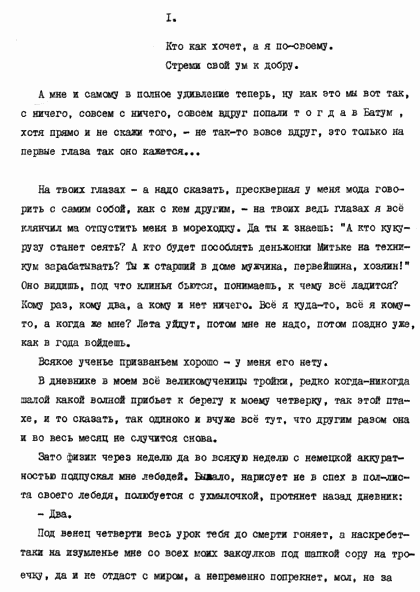
Что ж тут напридумаешь? Что ж тут его поделаешь? Раз тупо сковано – не наточишь.
Одним бычьим упрямством справного аттестата не взять. Тогда уж лучше в мореходку, покуда не вышли роскошные года мои.
А и там, конечно, не мёд ложкой, так зато там у меня козырь вон какой: я при месте, при главном при месте своём.
На мореходку меня хватит. Подналягу, упрусь, никуда не денусь. Кончу!
И где? В самом Батуме!
В этом для меня было всё.
На твоих глазах – а надо сказать, прескверная у меня мода говорить с самим собой, как с кем другим, – на твоих ведь глазах я всё клянчил ма отпустить меня в мореходку. Да ты ж знаешь! «А кто кукурузу станет сеять? А кто будет пособлять деньжонки Митьке на техникум зарабатывать? Ты ж старший в доме мужчина, первейшина, хозяин!» Оно видишь, под что клинья бьются? Понимаешь, к чему всё ладится? Кому раз, кому два, а кому и нет ничего. Всё я куда-то, всё я кому-то, а когда же мне? Лета молодые уйдут, потом мне не надо. Потом поздно уже, как в старость въедешь.
Всякое ученье призваньем хорошо – у меня его нету.
В дневнике в моём всё великомученицы тройки, редко когда-никогда шалой какой волной прибьёт к берегу к моему четвёрку, так этой птахе, и то сказать, так одиноко и вчуже всё тут, что другим разом она и во весь месяц не случится снова.
Зато физик через неделю да во всякую неделю с немецкой аккуратностью подпускал мне лебедей. Бывало, нарисует невспех в поллиста своего лебедя, полюбуется с ухмылочкой, протянет назад дневник:
– Два!
Под венец четверти весь урок тебя до смерти гоняет, а наскребёт-таки на изумленье мне со всех моих закоулков под шапкой copy на троечку, да и не отдаст с миром, а непременно попрекнёт, мол, не за знания – за усердие жалую. А обиды что! Я ж ночами, как есть полными ночами, от света до света, долбил ту физику, только проку ни на ноготь срезанный. Таких в классе и на завод нету, если меня мимо счёта пустить, один я такой пустоколосый.
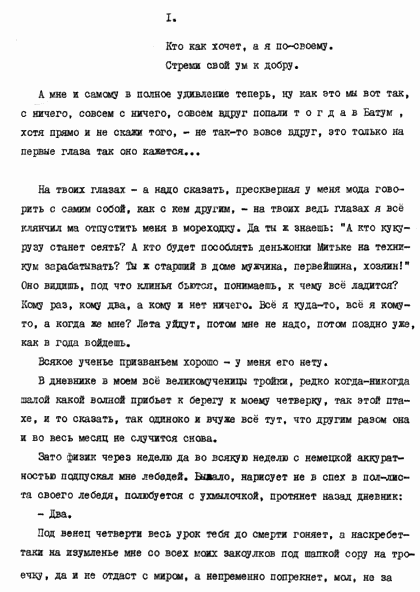
Первая страница повести «В Батум, к отцу». Рукопись.
Отчего? Или у нас дома, в Насакирали, в кринице вода такая?...Что ж тут напридумаешь? Что ж тут его поделаешь? Раз тупо сковано – не наточишь.
Одним бычьим упрямством справного аттестата не взять. Тогда уж лучше в мореходку, покуда не вышли роскошные года мои.
А и там, конечно, не мёд ложкой, так зато там у меня козырь вон какой: я при месте, при главном при месте своём.
На мореходку меня хватит. Подналягу, упрусь, никуда не денусь. Кончу!
И где? В самом Батуме!
В этом для меня было всё.
2
Ретивое сердце живёт без покоя.
С Вязанкой, с этим припаянным Николкой, мы жили тогда в соседях в безымянном посёлушке в одну улочку.
К нам на пятый район чайного совхоза Вязанки приехали из Одессы года так за три до описываемых событий.
От Николы (мы ходили в один класс) я узнал, что его отец, старый матрос, нажил какую-то страшную морскую болезнь. Отца списали на берег. Отец возненавидел и море, и Одессу, отчего уехал по вербовке к нам в глушь, в горы.
Перед отъездом отец велел матери отнести в букинистический магазин всю свою морскую библиотеку. Но мать... тайком упаковала её в багаж.
Держали книжки на новом месте подальше от отцовских глаз, на чердаке в картонных ящиках.
Всякий раз после уроков, когда не было дома отца, мы с Николой забирались читать «запрещённую литературу», пьяняще-сладкая власть которой день ото дня росла над нами.
Каждое утро мы вышагивали по восемь километров в сам Махарадзе, по-кавказски веселый районный городишко, весь какой-то всегда празднично нарядный и ликующий.
В том местечке на взгорке у болтливого притока речонки Бжужи сиротливо печалилась наша барачная русская школушка.
В девятом мы за одной партой сидели с Николой.
Никола выделялся, пожалуй, даже блистал какой-то диковинной усидчивостью и основательностью, в благодарность чему он в классах трёх, мало – в двух чистосердечно канителился по два года сполна.
А возьми так, поза школой, парень вовсе и непромах. У этого в зубах не застрянет!
Ну пускай звёзд с неба не брал, ну опять же пороху не выдумывал, а вместе с тем был невесть какой вёрткий, ходовой, хваткий да вдобавку – по мне, это уже и ни к чему совсем – да вдобавку был ещё на руку под случай мелкий плут.
Когда Вязанку-старшего спрашивали, почему за такое мало отделывал сынка, спроста отвечал: «А! Больше не сто`ит...»
Так вот, заикнулся я было Николе про море...
Чудо я гороховое! Да он мне сам ещё прошлым летом, как восьминарию закончили, смехом говорил про мореходку, а я взаправду и не прими. Ну какое же серьёзное дело замешивается под хаханьки?
А то была всего лишь маска. Мол, не примет намёка – со смеха взятки гладки. Теперь же, на поверку, вижу, у него та же хворь, только он молчал всё, знай не терял, не шелушил понапрасну досужих толков про своё про заветное.
Глянул на мои слова Вязанка этаким орлом раз, глянул два, а там махом сгреби с парты все причиндалы наши в сумку к себе и толк, толк это меня локтиной в бок, шлёт глазами к двери.
– Хватит тут этих клопов дразнить! – Самый длинный в классе Вязанка не без яда навеличивал мальчишек всех не иначе как клопами, за что те поглядывали на него искоса, и мудрено было понять, чего в тех взорах плескалось больше, злого попрёка или зависти. – Трогай!
– Вот так и сразу?
С удивления вытаращил я глаза; рот, похоже, распахнул до неприличия широко, раз Никола сказал:
– Закрой свой супохлёб, а то горло простудишь. Ну, чего ложки вывалил? Не видал, что ли? Тро-о-гай!
– Ты что? В самом деле срываешься с физики да с химии? С целых двух!
– С целых, – рассудительно подтвердил Вязанка и в нетерпении выдавил сквозь зубы: – Да глохни ты, чумородина, с этими уроками. Глохни!
– Так сразу? Дело к концу четверти... Может...
– ... физик спросит. Может, щупленькую двойку исправишь на кол... потвёрже.
– Не-е. На колу меня не проведёшь, – держу я свой интерес. – Я сплю и троечку вижу... А ну-ка мне бы её ещё да и наяву в дневничок заполучить, самую ма-а-ахонькую, са-мую сла-а-аабенькую, а только троечку и никаких твёрдых твоих заменителей не надо.
– Эхе-хе-хе-хе-е и так далее... Слушаю я и вот про что думаю... Тебе да мне к концу четверти уж честней куда будет – пристраивайся под дверью у учительской, как вывернулся кто из преподавательского генералитета, вались на колени, ладошку ковшиком да рыдай: «Троечку... подайте троечку... Пожалейте, люди добрые, несчастного... Да подайте же троечку!..» Со стороны так глянуть, думаешь, ответы наши у доски не жалобней этого романса нищего? Не тошно ли вымогать призрачные трояки? А? Не пора ли взрослеть, вьюноша?
К нам на пятый район чайного совхоза Вязанки приехали из Одессы года так за три до описываемых событий.
От Николы (мы ходили в один класс) я узнал, что его отец, старый матрос, нажил какую-то страшную морскую болезнь. Отца списали на берег. Отец возненавидел и море, и Одессу, отчего уехал по вербовке к нам в глушь, в горы.
Перед отъездом отец велел матери отнести в букинистический магазин всю свою морскую библиотеку. Но мать... тайком упаковала её в багаж.
Держали книжки на новом месте подальше от отцовских глаз, на чердаке в картонных ящиках.
Всякий раз после уроков, когда не было дома отца, мы с Николой забирались читать «запрещённую литературу», пьяняще-сладкая власть которой день ото дня росла над нами.
Каждое утро мы вышагивали по восемь километров в сам Махарадзе, по-кавказски веселый районный городишко, весь какой-то всегда празднично нарядный и ликующий.
В том местечке на взгорке у болтливого притока речонки Бжужи сиротливо печалилась наша барачная русская школушка.
В девятом мы за одной партой сидели с Николой.
Никола выделялся, пожалуй, даже блистал какой-то диковинной усидчивостью и основательностью, в благодарность чему он в классах трёх, мало – в двух чистосердечно канителился по два года сполна.
А возьми так, поза школой, парень вовсе и непромах. У этого в зубах не застрянет!
Ну пускай звёзд с неба не брал, ну опять же пороху не выдумывал, а вместе с тем был невесть какой вёрткий, ходовой, хваткий да вдобавку – по мне, это уже и ни к чему совсем – да вдобавку был ещё на руку под случай мелкий плут.
Когда Вязанку-старшего спрашивали, почему за такое мало отделывал сынка, спроста отвечал: «А! Больше не сто`ит...»
Так вот, заикнулся я было Николе про море...
Чудо я гороховое! Да он мне сам ещё прошлым летом, как восьминарию закончили, смехом говорил про мореходку, а я взаправду и не прими. Ну какое же серьёзное дело замешивается под хаханьки?
А то была всего лишь маска. Мол, не примет намёка – со смеха взятки гладки. Теперь же, на поверку, вижу, у него та же хворь, только он молчал всё, знай не терял, не шелушил понапрасну досужих толков про своё про заветное.
Глянул на мои слова Вязанка этаким орлом раз, глянул два, а там махом сгреби с парты все причиндалы наши в сумку к себе и толк, толк это меня локтиной в бок, шлёт глазами к двери.
– Хватит тут этих клопов дразнить! – Самый длинный в классе Вязанка не без яда навеличивал мальчишек всех не иначе как клопами, за что те поглядывали на него искоса, и мудрено было понять, чего в тех взорах плескалось больше, злого попрёка или зависти. – Трогай!
– Вот так и сразу?
С удивления вытаращил я глаза; рот, похоже, распахнул до неприличия широко, раз Никола сказал:
– Закрой свой супохлёб, а то горло простудишь. Ну, чего ложки вывалил? Не видал, что ли? Тро-о-гай!
– Ты что? В самом деле срываешься с физики да с химии? С целых двух!
– С целых, – рассудительно подтвердил Вязанка и в нетерпении выдавил сквозь зубы: – Да глохни ты, чумородина, с этими уроками. Глохни!
– Так сразу? Дело к концу четверти... Может...
– ... физик спросит. Может, щупленькую двойку исправишь на кол... потвёрже.
– Не-е. На колу меня не проведёшь, – держу я свой интерес. – Я сплю и троечку вижу... А ну-ка мне бы её ещё да и наяву в дневничок заполучить, самую ма-а-ахонькую, са-мую сла-а-аабенькую, а только троечку и никаких твёрдых твоих заменителей не надо.
– Эхе-хе-хе-хе-е и так далее... Слушаю я и вот про что думаю... Тебе да мне к концу четверти уж честней куда будет – пристраивайся под дверью у учительской, как вывернулся кто из преподавательского генералитета, вались на колени, ладошку ковшиком да рыдай: «Троечку... подайте троечку... Пожалейте, люди добрые, несчастного... Да подайте же троечку!..» Со стороны так глянуть, думаешь, ответы наши у доски не жалобней этого романса нищего? Не тошно ли вымогать призрачные трояки? А? Не пора ли взрослеть, вьюноша?
3
Кто не рискует, тот не выигрывает.
Со звонком на физику мы с достоинством дипломатов отбыли из школы.
Ласково-торжественно взглядывая на хорошо уже гревшее майское солнце, на долго не пропадавшую из вида поднебесно высокую заводскую трубу с сизой гривой из дыма, мы в совершенном, каком-то просветлённом, молчании дошли до речки, что неожиданно радостно блеснула широкой полосой из-за поворота крутого.
– Завтра в ноль часов ноль минут ноль секунд по времени столицы нашей Родины Москвы начинаем новую, самую расправильную жизнь! – театрально-дурашливо прокричал с низких перил грабовых мостков Никола, и мы, без сговора обнявшись за плечи крепче некуда, в чём были и что с нами было, шатнулись стоймя в реку.
Воды в Натанеби по грудки.
Вязанка нырнул раз, нырнул и два, а выцарапал из дна таки камень в два сложенных кулака, впихнул в полотняную сумку с книжками-тетрадками.
– Смотри у меня, без штучек чтоб! – погрозил пальцем камню. – Держи от нас эти премудрости на дне!
Вязанка поднял над головой сумку и, подпрыгнув, в брезгливости швырнул её.
Сильное течение подхватило было сумку, пронесло всего с аршин какой, после чего едва не отвесно пошла полотняночка книзу.
Солнце насквозь просвечивало воду, было помилуй как хорошо видно: достигнув плоского твёрдого дна, самого низа воды, сумка покатилась, повинуясь власти течения, покатилась медленно, как в замедленной съёмке.
Дорога выпала ей короткая, всего-то до поперечной расщелины, откуда уже никакая сила воды не могла вызволить полотнянушку.
Я не заметил, как из неё вырвались, вылетели три белые птицы, три лощеных чистых тетрадочных листа, что лежали в сумке поверх учебников.
Листы поднялись на верх воды и, то теряясь за беляками, пенистыми гребешками, то снова появляясь, суматошно понеслись прочь.
К морю.
Ласково-торжественно взглядывая на хорошо уже гревшее майское солнце, на долго не пропадавшую из вида поднебесно высокую заводскую трубу с сизой гривой из дыма, мы в совершенном, каком-то просветлённом, молчании дошли до речки, что неожиданно радостно блеснула широкой полосой из-за поворота крутого.
– Завтра в ноль часов ноль минут ноль секунд по времени столицы нашей Родины Москвы начинаем новую, самую расправильную жизнь! – театрально-дурашливо прокричал с низких перил грабовых мостков Никола, и мы, без сговора обнявшись за плечи крепче некуда, в чём были и что с нами было, шатнулись стоймя в реку.
Воды в Натанеби по грудки.
Вязанка нырнул раз, нырнул и два, а выцарапал из дна таки камень в два сложенных кулака, впихнул в полотняную сумку с книжками-тетрадками.
– Смотри у меня, без штучек чтоб! – погрозил пальцем камню. – Держи от нас эти премудрости на дне!
Вязанка поднял над головой сумку и, подпрыгнув, в брезгливости швырнул её.
Сильное течение подхватило было сумку, пронесло всего с аршин какой, после чего едва не отвесно пошла полотняночка книзу.
Солнце насквозь просвечивало воду, было помилуй как хорошо видно: достигнув плоского твёрдого дна, самого низа воды, сумка покатилась, повинуясь власти течения, покатилась медленно, как в замедленной съёмке.
Дорога выпала ей короткая, всего-то до поперечной расщелины, откуда уже никакая сила воды не могла вызволить полотнянушку.
Я не заметил, как из неё вырвались, вылетели три белые птицы, три лощеных чистых тетрадочных листа, что лежали в сумке поверх учебников.
Листы поднялись на верх воды и, то теряясь за беляками, пенистыми гребешками, то снова появляясь, суматошно понеслись прочь.
К морю.
4
Не испытав, не узнаешь.
Читал да и в кино видал, не переваривает море кисляев.
– А давай на пробу, – говорю Николе, – посмотрим, насколько по нраву мы морю, посмотрим, какие мы морячки`.
– Смотрим!
Выплыли вразмашечку на середину, на самую в гневе ревущую быстрину. Бегучей, скорой воды мы не боимся. Черти-то вьют гнёзда в тихой!
Вязанка – взгляд дерзкий, самоуверенный – диктует условия:
– Засовываем руки в карманы... Стоп, стоп, стоп! Слушай-ка... А что это у тебя там на подбородке чернеет?
– Может, свежая родинка на счастье?
– Ну-ка, ну-ка, что за штука! – Вязанка берёт меня за подбородок, спичкой что-то сковыривает (по крайней мере, мне так кажется), с омерзением бросает спичку.
– Что там?
– Всего лишь автограф мухи. Хоть отмоешься теперь.
– Не сочиняй, авто-оограф!
– Разговорчики в струю! Ну-ка, живо мне руки в карманы! Плывём по течению. Работать одними ножками. Вытащил кто до поры руки – операция «Море» отменяется. Да какой же ты моряк, раз станешь пускать пузыри в Натанеби? Тут пану воробью по лодыжку!
Мы поплыли на спинках.
А и с норовом эта Натанеби!
Камешки что тебе стоячие айсберги! Несёт тебя и только хлобысь, хлобысь об те горы то головой, то плечом, то спиной. Благо одно: примочек не надо.
Удары судьбы мы сносили без ропота.
– А давай на пробу, – говорю Николе, – посмотрим, насколько по нраву мы морю, посмотрим, какие мы морячки`.
– Смотрим!
Выплыли вразмашечку на середину, на самую в гневе ревущую быстрину. Бегучей, скорой воды мы не боимся. Черти-то вьют гнёзда в тихой!
Вязанка – взгляд дерзкий, самоуверенный – диктует условия:
– Засовываем руки в карманы... Стоп, стоп, стоп! Слушай-ка... А что это у тебя там на подбородке чернеет?
– Может, свежая родинка на счастье?
– Ну-ка, ну-ка, что за штука! – Вязанка берёт меня за подбородок, спичкой что-то сковыривает (по крайней мере, мне так кажется), с омерзением бросает спичку.
– Что там?
– Всего лишь автограф мухи. Хоть отмоешься теперь.
– Не сочиняй, авто-оограф!
– Разговорчики в струю! Ну-ка, живо мне руки в карманы! Плывём по течению. Работать одними ножками. Вытащил кто до поры руки – операция «Море» отменяется. Да какой же ты моряк, раз станешь пускать пузыри в Натанеби? Тут пану воробью по лодыжку!
Мы поплыли на спинках.
А и с норовом эта Натанеби!
Камешки что тебе стоячие айсберги! Несёт тебя и только хлобысь, хлобысь об те горы то головой, то плечом, то спиной. Благо одно: примочек не надо.
Удары судьбы мы сносили без ропота.
5
Мир вам, и мы к вам!
Ровно в полночь, под бой кремлёвских курантов, что благословлял из уличного репродуктора притихлый посёлушек на покой до молодого солнца, мы, никому из домашних не скажи и слова, тайком подались в Махарадзе, на вокзал.
А на дворе темнёшенько, как под землёй. Ничуть не светлей, чем у негра в желудке.
Хоть глаз и не камушек, а совсем не видать даже того Вязанку. Прямо нарочно подгадал: вырядился во всё чёрное. За ним иду, иду да и пощупаю, тут ли мой Николашенька.
Вот тебе и Махарадзе. Вот тебе и вокзалик.
Прочесали состав – ни одного проводника, чтоб хоть шевельнулось желание напроситься в зайцы. Кругом всё огромного роста полусонные, угрюмые дядьки. Кто только и подбирал этот букетик? Кулачищи с твою голову, в глазах ненависть к нашему брату безбилетнику, метёлочные усы топорщатся грозно, как у сомов.
Подлетаем к концевому вагону – бабка на курьих лапках!
– Здрасьте, пожалста!
На всякий случай кланяемся и с бегу хоп на подножку.
Авось, шевелим прямыми извилинами, наскоком чисто возьмём на пушку этот божий обдуванчик.
Ан нетушки. Не выгорело.
– Этак в рифму не входят, птенчики милые. Ваше здрасьте ещё не билет! – Старая ехидна ловит меня – я мчался первым – за рукав, и мы деликатненько так откатываемся на нулевые исходные позиции.

– А коли ты Ломоносов, так подмазывай пятки салом да пёхом!
– За кем? Между прочим, у Ломоносова был стимул. Ломоносов шёл за рыбным обозом. Дадите – и мы пойдём, – предъявил ультиматум Николайка.
Насколько мы поняли, рыбный обоз у старушки не находился. Старушка махнула рукой вдоль зелёной скобки поезда.
– С Богом!
– Лучше с вами!! – сориентировался Вязанка.
– Вы выше Бога! – сказал я у как решительно: припомнил к случаю присказку про то, что «женское сердце признаёт одну верительную грамоту – лесть».
– И мы рады вам служить, – набивался в работнички Колоколя.
Я шёл дальше.
– Мы согласны на любую египетскую работу...
– Мы в Египет не едем. Мы в Бату-ум едем, – уточнила старинушка, посмотрела на меня значительно-хмурыми глазами. – Ловкий молотить языком. Такое сплёл, что ну! Лучше застегни роток на все пуговки.
С благодарным лицом выслушал я в благоговейном молчании старушку, опять это веду мосток к своим прерванным посулам.
– Мы, – говорю, – не будем пускать к вам зайцев. Разнесём чай... А в самом Батуме в блеск вымоем вагон!
– Никак работящий народ? – пристально, серьёзно и вроде как уважительно глянула на нас старунька.
– Угу, работящий, – сиротски подтвердил Николя.
– Ну, коли так, милости прошу к нашему шалашу, – и шлёт ласковыми глазами к приступочкам с перильцами, и улыбается так хорошо.
Поклонились мы обстоятельно, степенно и не спеша, даже с какой-то важной медлительностью поднялись в тамбур.
– Забивайтесь в какую щель поглуше, чая не выглядывайте, – предупредила бабунюшка.
Торопливо-небрежно взгромоздились мы на верховку, на полки под потолком.
Я в головы кулак – высоковато. На палец сбавил – нормально. Колюня тоже под головы кулак, а под бока и так. Посмеивается:
– А на что мягко стелить? Вредная блажь... Да! – спохватывается. – Не спать. Совсем не спать! А то в поездах, слыхал, всегда что да угонят. На голях останемся ещё.
– А что ж, интересно, воровать?... В карманах пустота, в одном смеркается, в другом заря занимается: денежек ни на показ, бумаг в цене никаких...
– Не беспокойся, найдут что.
– Пускай им повезёт!
– Потери ни к чему. У нас и так ничего нету. Соображай!
– Соображаю. От ничего взять ничего будет ничего. Ничего страшного!
В полусвете, что падал из окна от вагонного ночника, слева по ходу темнел прямой, гладкий скальный срез, темнел дивно так близко, что, казалось, протяни только вот руку, – достанешь. Каменная стена ещё и так высока, сколько мы ни задирай головы в приспущенное, присаженное окно, а увидать-таки верха стены и не увидали.
На стрелках вагон вздрагивал, как-то по-особенному тяжело и угрожаще стучали колеса; порываясь, мы прилипали лицами к стеклу – ужас застилал глаза: казалось, именно вот сейчас наступает именно та минута, которую выжидали горы, чтоб внезапно ухнуться на сонный поезд наш.
А справа предсветный час не спеша расстилал тяжёлую синеву моря. Безоглядное, неохватное, кроткое, оно улыбалось со сна и где-то там, внизу, не под нами ли, вздыхая, глухо целовало холодные и жёлтые ноги скалам.
Море нам в радость, в радость вот такое, некиношное, заправдашнее.
– Гля, – тычу пальцем в низ окна, – чайки ловят рыбу!
– А во, гля. Нырок!
– А во парочка купается!.. Мостик сделал!
– А во-о теплоходина!
– У-у! Здоровый какой!
Тихо море, пока сам на берегу. С берега хорошо оно. Что ему? По рыбе не тужит, а по нас и подавно.
Уже совсем развиднелось, когда это гляжу – глазёнки у моего у Вязанки соловеют, соловеют и всё. Спит!
Сон, что богатство. Больше спишь – больше хочется.
Похоже, нам столького всхотелось, что ух да ну! Пожалуй, и пушечной пальбы не услыхали бы, точно говорю. На какой же манер тогда обелить то, что мы не слышали – вот и здравствуйте, что приключилось! – не слышали, как поезд пришёл на конечную станцию, в Батум, не слышали, как выходил-высыпался горохом из вагона народ, не слышали, как уже в тупике убиралась проводница, доброта душа наша.
Прокинулся я, тормошу Вязанку.
Колчак сразу поднялся на локти. Вроде и не спал вовсе, а так лежал, травил перекур с дремотой.
– Ты чего, лучик света в трупном царстве?
– Коко, подхвались, что видел.
Колюта с глубокомысленной озабоченностью перекрестил зевающий до хруста в челюстях рот, лыбится себе на уме.
– А ты?
– Щи по-флотски. Толстые щи. В таких ложка будет стоять... Жаль, ложки не было...
– Ложился бы с ложкой.
– А где ты раньше был?
Вязанка не нашёлся, что ответить.
Разговор сам собой скомкался.
Легла мёртвая тишина.
С недобрым предчувствием глянул я на Вязанку.
Коляй по привычке приставил ладонь к уху, и чем сосредоточенней вслушивался он в тишину, тем заметней всё угасала веселость на его лице, всё отчетливей проступало выражение тревожного любопытства, смешанного с недоумением.
– А слышь, – совсем почти без голоса заговори Никола, – слышь, а чего это так тихо, как у меня под мышкой? А чего это мы стоим? Пришвартовались? Уже?
Вязанка уронил спрашиващий взгляд на луговину, что поднялась перед окном богатой золотой шапкой из одуванчиков в цвету.
– Да побей меня боцман, не может того быть! Вот что, долговязик, – по росту тебе и сан, – спустись в народ, подразведай, где мы, что там и как. Да живо мне! Не тяни резину! Порвёшь!
– Одной ногой я уже на приёме у проводницы в купе.
– Скажешь, как и другой будешь там.
И снова пала тишина.
Неизъяснимое предчувствие беды ветром сняло меня с полки. Я сюда зырк, я туда зырк – ни души! Не на ком и глазу споткнуться.
Кинулся я даже в рундуки заглядывать. А ну, думаю, люди туда попрятались? А ну сговорились так пасквильно подшутить над нами?
А то как же!..
Рванул я по пустому вагону к двери. Дёрг, дёрг за ручку. Заперта!
Бегом назад.
– Колич! – ору с перепугу. – Да мы одни на весь вагонище!..
– Ну-у-у! Ложились, в кармане ни хрусталика, а к утру – собственный вагонишко!
Вязанка слез с полки, припал щекой к оконному стеклу; увидал перед головой изогнутого дугой поезда круто заломленные кверху рельсы со шпалой поперек и красными фонариками по бокам, отчаянно присвистнул:
– Глухо дело, пан Грициан... Ситуация, я тебе скажу... – Вязанка замолчал, подбирая нужное слово, но, так и не подобрав, махнул рукой, заговорил врастяжку: – Со своим недвижимым в данный момент имуществом мы изволим пребывать в классическом тупике. – Подумал. Улыбнулся. – А хорошо, что дальше Батума не ходят поезда.
– Хорошо-то хорошо...
Вязанка перебил меня:
– А Кольчик желает к одуванчикам.
Вязанка – он был в тёмной рубашке с закатанными до самых плеч рукавами – осторожно, как бы примериваясь, положил ладони на ребро чуть приспущенного стекла и с такой силой давнул, что мускулы задышали, и стекло, повинуясь, подалось вниз скрипя, будто дразнясь и на всякий случай прячась в свое укрытие.
Наконец всё стекло ушло.
Вязанка вывалился по пояс из окна. Огляделся.
– Ба! Солнце на самой макушке, – сказал он. – Ну и задали мы храповицкого! Нy, да ладно. Что было, то сплыло. А теперь, мальчик, ногу в стремя! Пока нами не увлеклась с пристрастием любознательная милиция, давай-ка лапки в охапки да и ходу отсюда. Вот так! – И он, пружиня на крепких руках, изящно скользнул в пустой квадрат окна.
Я за ним. Куда коза, туда и козлёнок.
– У нас ничего не увели? – охлопал себя Коляй.
– У меня ничего.
– А ты хорошо посмотрел?
– Сказал же.
– Странно даже...
А на дворе темнёшенько, как под землёй. Ничуть не светлей, чем у негра в желудке.
Хоть глаз и не камушек, а совсем не видать даже того Вязанку. Прямо нарочно подгадал: вырядился во всё чёрное. За ним иду, иду да и пощупаю, тут ли мой Николашенька.
Вот тебе и Махарадзе. Вот тебе и вокзалик.
Прочесали состав – ни одного проводника, чтоб хоть шевельнулось желание напроситься в зайцы. Кругом всё огромного роста полусонные, угрюмые дядьки. Кто только и подбирал этот букетик? Кулачищи с твою голову, в глазах ненависть к нашему брату безбилетнику, метёлочные усы топорщатся грозно, как у сомов.
Подлетаем к концевому вагону – бабка на курьих лапках!
– Здрасьте, пожалста!
На всякий случай кланяемся и с бегу хоп на подножку.
Авось, шевелим прямыми извилинами, наскоком чисто возьмём на пушку этот божий обдуванчик.
Ан нетушки. Не выгорело.
– Этак в рифму не входят, птенчики милые. Ваше здрасьте ещё не билет! – Старая ехидна ловит меня – я мчался первым – за рукав, и мы деликатненько так откатываемся на нулевые исходные позиции.

Страница повести «В Батум, к отцу». Черновик.
– Бабуня, – говорю не то чтобы совсем уязвлённо, но вместе с тем и учтиво, обходительно, – мы ж на учебу. За светом! Вы хоть подумали, кого дёрнули? Может, самого Ломоносова!– А коли ты Ломоносов, так подмазывай пятки салом да пёхом!
– За кем? Между прочим, у Ломоносова был стимул. Ломоносов шёл за рыбным обозом. Дадите – и мы пойдём, – предъявил ультиматум Николайка.
Насколько мы поняли, рыбный обоз у старушки не находился. Старушка махнула рукой вдоль зелёной скобки поезда.
– С Богом!
– Лучше с вами!! – сориентировался Вязанка.
– Вы выше Бога! – сказал я у как решительно: припомнил к случаю присказку про то, что «женское сердце признаёт одну верительную грамоту – лесть».
– И мы рады вам служить, – набивался в работнички Колоколя.
Я шёл дальше.
– Мы согласны на любую египетскую работу...
– Мы в Египет не едем. Мы в Бату-ум едем, – уточнила старинушка, посмотрела на меня значительно-хмурыми глазами. – Ловкий молотить языком. Такое сплёл, что ну! Лучше застегни роток на все пуговки.
С благодарным лицом выслушал я в благоговейном молчании старушку, опять это веду мосток к своим прерванным посулам.
– Мы, – говорю, – не будем пускать к вам зайцев. Разнесём чай... А в самом Батуме в блеск вымоем вагон!
– Никак работящий народ? – пристально, серьёзно и вроде как уважительно глянула на нас старунька.
– Угу, работящий, – сиротски подтвердил Николя.
– Ну, коли так, милости прошу к нашему шалашу, – и шлёт ласковыми глазами к приступочкам с перильцами, и улыбается так хорошо.
Поклонились мы обстоятельно, степенно и не спеша, даже с какой-то важной медлительностью поднялись в тамбур.
– Забивайтесь в какую щель поглуше, чая не выглядывайте, – предупредила бабунюшка.
Торопливо-небрежно взгромоздились мы на верховку, на полки под потолком.
Я в головы кулак – высоковато. На палец сбавил – нормально. Колюня тоже под головы кулак, а под бока и так. Посмеивается:
– А на что мягко стелить? Вредная блажь... Да! – спохватывается. – Не спать. Совсем не спать! А то в поездах, слыхал, всегда что да угонят. На голях останемся ещё.
– А что ж, интересно, воровать?... В карманах пустота, в одном смеркается, в другом заря занимается: денежек ни на показ, бумаг в цене никаких...
– Не беспокойся, найдут что.
– Пускай им повезёт!
– Потери ни к чему. У нас и так ничего нету. Соображай!
– Соображаю. От ничего взять ничего будет ничего. Ничего страшного!
В полусвете, что падал из окна от вагонного ночника, слева по ходу темнел прямой, гладкий скальный срез, темнел дивно так близко, что, казалось, протяни только вот руку, – достанешь. Каменная стена ещё и так высока, сколько мы ни задирай головы в приспущенное, присаженное окно, а увидать-таки верха стены и не увидали.
На стрелках вагон вздрагивал, как-то по-особенному тяжело и угрожаще стучали колеса; порываясь, мы прилипали лицами к стеклу – ужас застилал глаза: казалось, именно вот сейчас наступает именно та минута, которую выжидали горы, чтоб внезапно ухнуться на сонный поезд наш.
А справа предсветный час не спеша расстилал тяжёлую синеву моря. Безоглядное, неохватное, кроткое, оно улыбалось со сна и где-то там, внизу, не под нами ли, вздыхая, глухо целовало холодные и жёлтые ноги скалам.
Море нам в радость, в радость вот такое, некиношное, заправдашнее.
– Гля, – тычу пальцем в низ окна, – чайки ловят рыбу!
– А во, гля. Нырок!
– А во парочка купается!.. Мостик сделал!
– А во-о теплоходина!
– У-у! Здоровый какой!
Тихо море, пока сам на берегу. С берега хорошо оно. Что ему? По рыбе не тужит, а по нас и подавно.
Уже совсем развиднелось, когда это гляжу – глазёнки у моего у Вязанки соловеют, соловеют и всё. Спит!
Сон, что богатство. Больше спишь – больше хочется.
Похоже, нам столького всхотелось, что ух да ну! Пожалуй, и пушечной пальбы не услыхали бы, точно говорю. На какой же манер тогда обелить то, что мы не слышали – вот и здравствуйте, что приключилось! – не слышали, как поезд пришёл на конечную станцию, в Батум, не слышали, как выходил-высыпался горохом из вагона народ, не слышали, как уже в тупике убиралась проводница, доброта душа наша.
Прокинулся я, тормошу Вязанку.
Колчак сразу поднялся на локти. Вроде и не спал вовсе, а так лежал, травил перекур с дремотой.
– Ты чего, лучик света в трупном царстве?
– Коко, подхвались, что видел.
Колюта с глубокомысленной озабоченностью перекрестил зевающий до хруста в челюстях рот, лыбится себе на уме.
– А ты?
– Щи по-флотски. Толстые щи. В таких ложка будет стоять... Жаль, ложки не было...
– Ложился бы с ложкой.
– А где ты раньше был?
Вязанка не нашёлся, что ответить.
Разговор сам собой скомкался.
Легла мёртвая тишина.
С недобрым предчувствием глянул я на Вязанку.
Коляй по привычке приставил ладонь к уху, и чем сосредоточенней вслушивался он в тишину, тем заметней всё угасала веселость на его лице, всё отчетливей проступало выражение тревожного любопытства, смешанного с недоумением.
– А слышь, – совсем почти без голоса заговори Никола, – слышь, а чего это так тихо, как у меня под мышкой? А чего это мы стоим? Пришвартовались? Уже?
Вязанка уронил спрашиващий взгляд на луговину, что поднялась перед окном богатой золотой шапкой из одуванчиков в цвету.
– Да побей меня боцман, не может того быть! Вот что, долговязик, – по росту тебе и сан, – спустись в народ, подразведай, где мы, что там и как. Да живо мне! Не тяни резину! Порвёшь!
– Одной ногой я уже на приёме у проводницы в купе.
– Скажешь, как и другой будешь там.
И снова пала тишина.
Неизъяснимое предчувствие беды ветром сняло меня с полки. Я сюда зырк, я туда зырк – ни души! Не на ком и глазу споткнуться.
Кинулся я даже в рундуки заглядывать. А ну, думаю, люди туда попрятались? А ну сговорились так пасквильно подшутить над нами?
А то как же!..
Рванул я по пустому вагону к двери. Дёрг, дёрг за ручку. Заперта!
Бегом назад.
– Колич! – ору с перепугу. – Да мы одни на весь вагонище!..
– Ну-у-у! Ложились, в кармане ни хрусталика, а к утру – собственный вагонишко!
Вязанка слез с полки, припал щекой к оконному стеклу; увидал перед головой изогнутого дугой поезда круто заломленные кверху рельсы со шпалой поперек и красными фонариками по бокам, отчаянно присвистнул:
– Глухо дело, пан Грициан... Ситуация, я тебе скажу... – Вязанка замолчал, подбирая нужное слово, но, так и не подобрав, махнул рукой, заговорил врастяжку: – Со своим недвижимым в данный момент имуществом мы изволим пребывать в классическом тупике. – Подумал. Улыбнулся. – А хорошо, что дальше Батума не ходят поезда.
– Хорошо-то хорошо...
Вязанка перебил меня:
– А Кольчик желает к одуванчикам.
Вязанка – он был в тёмной рубашке с закатанными до самых плеч рукавами – осторожно, как бы примериваясь, положил ладони на ребро чуть приспущенного стекла и с такой силой давнул, что мускулы задышали, и стекло, повинуясь, подалось вниз скрипя, будто дразнясь и на всякий случай прячась в свое укрытие.
Наконец всё стекло ушло.
Вязанка вывалился по пояс из окна. Огляделся.
– Ба! Солнце на самой макушке, – сказал он. – Ну и задали мы храповицкого! Нy, да ладно. Что было, то сплыло. А теперь, мальчик, ногу в стремя! Пока нами не увлеклась с пристрастием любознательная милиция, давай-ка лапки в охапки да и ходу отсюда. Вот так! – И он, пружиня на крепких руках, изящно скользнул в пустой квадрат окна.
Я за ним. Куда коза, туда и козлёнок.
– У нас ничего не увели? – охлопал себя Коляй.
– У меня ничего.
– А ты хорошо посмотрел?
– Сказал же.
– Странно даже...
6
Ничего нет трудней,
как носить пустой желудок.
По шпалам, потом по седым от пыли кривым и тесным проулкам с малорослыми в садах домами, там, там и там повитыми царским виноградом по верх окон, а то и по самое темечко красных черепичных крыш, правимся к центру города, справляясь про дорогу у встречных.
Шли мы с час, а может, за компанию и все два, только замечаю я, что с устали бредём мы все медленней, всё тяжелей, и чувствую я, явственно так чувствую, как с проголоди кишки у меня с лёгкими перепутались. Не до разбору, кто на кого рыкает, только эти рыканья беспрестанные, чистые тебе мотогонки под рубахой. Да что мотогонки! Как громыхнёт, как громыхнёт – искры из глаз горстями!
Вязанка посмеивался, посмеивался да ка-ак ахнет во всё горло:
– Тепло нам не в беду. Только я знаю от тебя и другую примету: гром долго гремит – ненастье установится надолго.
Сказал он это, когда уже отсмеялся, сказал совсем серьёзно и в печали задержал на мне глаза.
– Не каркай, ворон чёрный.
А Вязанка и впрямь черней чёрта, перечернел на солнце, загорел так.
В молчании одолели проулка ещё два. Поглядывать поглядывали друг на дружку, а все так, без речей. Не тянулись больше его слова к моим словам.
Наконец я громко спросил:
– А ты есть хочешь?
На удивленье, он не расслышал:
– Чего?
– Ушки по утрам мой... Есть, говорю, хочешь?
– А кто не хочет? – заинтересовался Никола.
– А что будем?
– Что угоним.
– Ну-у... Я так не хочу.
– А как иначе, долговязик? Мандаринов тебе никто через забор не кинет. Моя правда.
– Правда, может, и твоя-то, а всё одно я...
– Заладил: не хочу да не хочу! Я-то что? Колхоз – дело доброволькое... Не хочешь, ну и не хочешь. Пустой курсак тебе судья! По мне, ешь тогда хоть плакаты о вкусной и здоровой пище. Да не забывай тщательно пережёвывать!
В городе впервые проводится неделя здоровой пищи. Вдоль и поперёк на улицах плакаты – как правильно питаться. Даже узнаешь, сколько калорий в одном кочане варёной кукурузы. Целый университет для голодного!
– Арматор, [1]– мягко взяв меня за локоть, вельможным тоном говорит Вязанка – театралить, выкобениваться он спец, – вы изволите пребывать на улице Молочной.
– Откуда вы взяли, почтенный наварх? [2]– ломаюсь и я под его марку, показываю, что и для меня небесследно прошло чтение «запрещённых» морских книжек его отца, старого морского волка.
– Извольте поднять взор. «Пей молоко – будешь прыгать высоко». Бесподобно! А вот... «Мы поздравляем каждый дом, где угощают не водкой, а молоком». Но мы благоразумно воздержимся от поздравления. Очень жаль, что угощение ограничивается домом. Что ж не начать угощать и на улице? Что ж хорошему делу не дают размаха, простора?
Вязанка с такой укоризной смотрит на меня, будто именно я во всем том и виноват.
А это уже прямо лекция. На ходу не прочтёшь. Надо остановиться, что мы и делаем.
– Почтенный, вы правы. У меня нет слов...
– А у меня на те излишки нет финансов ни луковки. Ни копейки!
– А у кого они есть?
– У печатника Монетного двора, например!
– И то, может, покуда печатает.
– Мда-а...
Послышались звуки, будто пронёсся мимо по булыжной мостовой невидимый тяжёлый танк.
– Ого! – покосился я на Вязанку. – У тебя в желудке свадьба, а в моём нет даже и помолвки.
– И сам помолчи, не возникай. Надоело с голодухи тали травить!
Никола насупил брови, руки в карманах.
На секунду он оживает, в голос читает новый плакат про «жиры – хорошие поставщики некоторых противосклеротических веществ». Читает и фыркает.
– А подумать если, – философствую я с завистью, – в крыловские времена Бог был куда добрей. Даже вороне не забывал послать сыру.
– Ё-моё, конечно, – упавшим голосом соглашается Никола. – Раньше вот да! А теперь одно из двух. Или Бога нет, или у него вышел весь сыр. Проблема! На этой улочке нам ничто не светит, а от сатанинских глаз у барбосов, что покушаются из подворотен на наши штанишки, навар негуст. Чую, везде за заборными частыми пиками спеют гранд обеды, а никакая самая рассознательная мамзелька не потащит нас за стол. Бу спок, как в санях. Что делать? Этот настенный лирик и то знает, что делать!
Никола злорадно ткнул указательным пальцем в нацарапанный гвоздём на стенке поражающий своей ясностью, конкретной целеустремлённостью стишок. Пошёл читать с подвывом. Как поэт:
Это напоминание подстёгивает Николу.
– Вот что, – говорит он. – Каждый сам себе велосипед. Куда хочу, туда и кручу. По мне, покрутили на базар, хоть в карманах и соловьи свищут. Сегодня базар богатый. Среда! Айда сразу во фруктовые ряды. Там я в айн момент из-под любого стоячего-ходячего подошвы вырежу. План такой. Выбираем ряд. Ты идёшь с одного конца, я с другого навстречу. Основательно пробуй – через сотню шагов ты сыт и нос в первосортном табаке.
– А ну схлопочем за виски да в тиски?
– Ух и беда... Сломит козёл голову по самую бороду – новая отрастёт!
«А что, не наладился ли Никола от меня удрать?» – подумал я и на базаре – базар роем гудел и кипел от людского множества – я ни на локоть не отходил от Вязанки, подряд у всех в ряду с усердием пробовавшего яблоки, груши, грецкие орехи.
Шли мы с час, а может, за компанию и все два, только замечаю я, что с устали бредём мы все медленней, всё тяжелей, и чувствую я, явственно так чувствую, как с проголоди кишки у меня с лёгкими перепутались. Не до разбору, кто на кого рыкает, только эти рыканья беспрестанные, чистые тебе мотогонки под рубахой. Да что мотогонки! Как громыхнёт, как громыхнёт – искры из глаз горстями!
Вязанка посмеивался, посмеивался да ка-ак ахнет во всё горло:
– Кончай блистать, – толкаю его локтем в грудки. – Это у меня первый гром. А первый гром весною – признак наступающего тепла.
– Ррревела э буррря, гггроом гррремел,
Во мрраке э ммолнии блистааалиии...
– Тепло нам не в беду. Только я знаю от тебя и другую примету: гром долго гремит – ненастье установится надолго.
Сказал он это, когда уже отсмеялся, сказал совсем серьёзно и в печали задержал на мне глаза.
– Не каркай, ворон чёрный.
А Вязанка и впрямь черней чёрта, перечернел на солнце, загорел так.
В молчании одолели проулка ещё два. Поглядывать поглядывали друг на дружку, а все так, без речей. Не тянулись больше его слова к моим словам.
Наконец я громко спросил:
– А ты есть хочешь?
На удивленье, он не расслышал:
– Чего?
– Ушки по утрам мой... Есть, говорю, хочешь?
– А кто не хочет? – заинтересовался Никола.
– А что будем?
– Что угоним.
– Ну-у... Я так не хочу.
– А как иначе, долговязик? Мандаринов тебе никто через забор не кинет. Моя правда.
– Правда, может, и твоя-то, а всё одно я...
– Заладил: не хочу да не хочу! Я-то что? Колхоз – дело доброволькое... Не хочешь, ну и не хочешь. Пустой курсак тебе судья! По мне, ешь тогда хоть плакаты о вкусной и здоровой пище. Да не забывай тщательно пережёвывать!
В городе впервые проводится неделя здоровой пищи. Вдоль и поперёк на улицах плакаты – как правильно питаться. Даже узнаешь, сколько калорий в одном кочане варёной кукурузы. Целый университет для голодного!
– Арматор, [1]– мягко взяв меня за локоть, вельможным тоном говорит Вязанка – театралить, выкобениваться он спец, – вы изволите пребывать на улице Молочной.
– Откуда вы взяли, почтенный наварх? [2]– ломаюсь и я под его марку, показываю, что и для меня небесследно прошло чтение «запрещённых» морских книжек его отца, старого морского волка.
– Извольте поднять взор. «Пей молоко – будешь прыгать высоко». Бесподобно! А вот... «Мы поздравляем каждый дом, где угощают не водкой, а молоком». Но мы благоразумно воздержимся от поздравления. Очень жаль, что угощение ограничивается домом. Что ж не начать угощать и на улице? Что ж хорошему делу не дают размаха, простора?
Вязанка с такой укоризной смотрит на меня, будто именно я во всем том и виноват.
А это уже прямо лекция. На ходу не прочтёшь. Надо остановиться, что мы и делаем.
Товарищи! Луковая рубашка не отход. Настой из неё может оказать лечебный эффект при гипертонической болезни и атеросклерозе. Он благотворно влияет на работу сердца, обладает мочегонным действием и способствует удалению из организма излишков натрия и хлоридов.– Видал – излишки! Да не у нас... В балласте мы...
– Почтенный, вы правы. У меня нет слов...
– А у меня на те излишки нет финансов ни луковки. Ни копейки!
– А у кого они есть?
– У печатника Монетного двора, например!
– И то, может, покуда печатает.
– Мда-а...
Послышались звуки, будто пронёсся мимо по булыжной мостовой невидимый тяжёлый танк.
– Ого! – покосился я на Вязанку. – У тебя в желудке свадьба, а в моём нет даже и помолвки.
– И сам помолчи, не возникай. Надоело с голодухи тали травить!
Никола насупил брови, руки в карманах.
На секунду он оживает, в голос читает новый плакат про «жиры – хорошие поставщики некоторых противосклеротических веществ». Читает и фыркает.
– А подумать если, – философствую я с завистью, – в крыловские времена Бог был куда добрей. Даже вороне не забывал послать сыру.
– Ё-моё, конечно, – упавшим голосом соглашается Никола. – Раньше вот да! А теперь одно из двух. Или Бога нет, или у него вышел весь сыр. Проблема! На этой улочке нам ничто не светит, а от сатанинских глаз у барбосов, что покушаются из подворотен на наши штанишки, навар негуст. Чую, везде за заборными частыми пиками спеют гранд обеды, а никакая самая рассознательная мамзелька не потащит нас за стол. Бу спок, как в санях. Что делать? Этот настенный лирик и то знает, что делать!
Никола злорадно ткнул указательным пальцем в нацарапанный гвоздём на стенке поражающий своей ясностью, конкретной целеустремлённостью стишок. Пошёл читать с подвывом. Как поэт:
– А мы ещё и не завтракали, – напоминаю я.
– Люблю тебя, как булку с маком,
И даже больше двух котлет.
Готов в любви тебе признаться,
Но опоздаю на обед.
Это напоминание подстёгивает Николу.
– Вот что, – говорит он. – Каждый сам себе велосипед. Куда хочу, туда и кручу. По мне, покрутили на базар, хоть в карманах и соловьи свищут. Сегодня базар богатый. Среда! Айда сразу во фруктовые ряды. Там я в айн момент из-под любого стоячего-ходячего подошвы вырежу. План такой. Выбираем ряд. Ты идёшь с одного конца, я с другого навстречу. Основательно пробуй – через сотню шагов ты сыт и нос в первосортном табаке.
– А ну схлопочем за виски да в тиски?
– Ух и беда... Сломит козёл голову по самую бороду – новая отрастёт!
«А что, не наладился ли Никола от меня удрать?» – подумал я и на базаре – базар роем гудел и кипел от людского множества – я ни на локоть не отходил от Вязанки, подряд у всех в ряду с усердием пробовавшего яблоки, груши, грецкие орехи.
