Страница:
Другому будущему премьер-министру Англии, Гарольду Вильсону, было всего восемь лет, когда он пожелал сфотографироваться у входа в резиденцию премьер-министров. С тех пор он неизменно носил эту фотографию при себе. Она стала для него постоянным напоминанием, его амулетом и пропуском в будущее. После сорока лет упорной учебы, работы, закулисных битв и блужданий по коридорам политической власти он переступил наконец порог резиденции на Даунинг-стрит.
Де Голль был всего на два года старше Вильсона, когда принял решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. В возрасте десяти лет он задался великой целью стать человеком, который вернет Франции то величие, каким она обладала при Наполеоне.
«Власть подобна голове Медузы, — писал как-то Стефан Цвейг, — кто когда-нибудь взглянул ей в глаза, не может уже отвернуться и всегда находится под ее чарами».
Этот взгляд всегда чувствовал на себе Уинстон Черчилль. По словам его английского биографа, вся жизнь этого человека была посвящена преследованию одной цели — власти. «Он стремился к ней с редкой страстью, твердостью и настойчивостью». Ради достижения этой цели он менял политические убеждения — от консерваторов переходил к либералам и от либералов снова к консерваторам. Трижды подряд терпел он поражения на выборах в парламент. Когда возраст его приближался уже к шестидесяти годам, он, казалось, начал смиряться с тем, что жизнь, прожитая им, была жизнью политического неудачника. «Я оставил всякую мысль о том, чтобы занять государственный пост», — признался он в то время.
Когда же с началом второй мировой войны стране понадобился новый лидер и выбор пал на него, для самого Черчилля это оказалось неожиданностью (так по крайней мере утверждает его биограф). Король, пригласив его, чтобы предложить ему возглавить правительство, встретил нового премьер-министра словами: «Думаю, вы не догадываетесь, зачем я послал за вами».
Путь к власти тернист и извилист. Некоторые оказываются в кювете, едва начав гонки. Других катастрофа подкарауливает за секунду до финиша. Одни крадутся к власти, другие берут ее силой. Итальянский социолог Вильфредо Парето делил правителей на две категории в зависимости от того, каким путем они достигли власти: на «лис» и «львов». «Лисы», утверждал он, специализируются на политической демагогии и обмане. «Львы» руководят восстаниями и совершают перевороты.
Если пользоваться этой терминологией, то нужно признать, что в политических джунглях буржуазного мира господствуют сейчас деятели из рода «лис». Демагогия и обман стали той ходячей монетой, которой пользуется каждый, желающий сделать покупку на базаре власти. Неизбежным результатом этого стала безмерная инфляция высоких слов, произносимых с высоких политических трибун. «Народ не принимает всерьез ни одного слова сенатора или конгрессмена, — писала одна американская газета, — народ считает, что 99% всех их выступлений — это вздор, невежество и демагогия».
Говоря о том, какую роль играет демагогия в политической жизни, Дж. Кеннеди привел как-то слова американского сенатора, сказанные им в порыве откровения одному из своих коллег: «Марк, твое несчастье заключается в том, что ты отказываешься быть демагогом! Ты не способен пожертвовать своими принципами для того, чтобы быть избранным. Следует знать, что бывают моменты, когда в общественной жизни человеку приходится подниматься над своими принципами».
Как нетрудно заметить, слова сенатора сами по себе являются блестящим примером той самой политической демагогии, в защиту которой они были сказаны.
Иными словами, в условиях буржуазной демократии принципы выполняют чисто инструментальную роль, роль средств в достижении единственной цели — власти. Когда искомая цель достигнута, человеку, говоря словами сенатора, «приходится подниматься над своими принципами».
Естественно, далеко не каждый политик готов произнести подобное кредо вслух. Но коль скоро слова эти сказаны, они невольно приводят на ум другие: доктрина используется в качестве инструмента для господства над массой, сама же господствующая элита стоит над своей доктриной и ею не связана. Формулировка эта принадлежит одному из сподвижников Гитлера, Г. Раушнингу.
Цинизм политиков и сама техника достижения власти в условиях так называемой парламентской демократии ведут к тому, что профессия политика, профессия претендента на власть, в глазах общественного мнения все больше становится занятием бесчестным и постыдным. В ходе одного из опросов в США среди женщин-матерей была распространена анкета, в которую был включен вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш сын стал президентом?» Большинство ответило положительно — почти каждая хотела быть матерью президента. Однако, как известно, прежде чем занять этот пост, нужно заниматься политической деятельностью. И вот следующий вопрос — о том, хотят ли матери, чтобы их сыновья занимались политикой. Но на этот вопрос большинство ответило отрицательно. Как было сказано в комментариях, они считали политику слишком грязным делом.
В системе наследственной власти в борьбе за нее участвовали немногие — лишь те, кто мог претендовать на власть по праву рождения. Система так называемых демократических выборов намного расширила этот круг борьбы. Правда, в отличие от правителей прошлого, вступая в должность, премьер-министр не может уже распять или посадить на кол своего предшественника. А президент, одержав победу на выборах, не властен отдать приказ удавить остальных претендентов. Другое дело, что каждый из них в той или иной форме старается все-таки покончить со своими / соперниками. Правда, не теми способами, какими делалось это раньше. Да и зачем убивать соперника физически, если есть много способов превратить его в политический труп? Вместо удара кинжалом — не менее разящий удар демагогических выпадов. Роль наемного убийцы приняла на себя пресса. А функции палачей попеременно выполняют в отношении друг друга сами политические лидеры.
И нет больше необходимости вливать спящему королю яд в ухо. Но от того, что круг борьбы стал шире, а игра зла в его пределах обрела другие формы, разве количество зла стало меньше? Если, конечно, допустить, что подобные вещи вообще поддаются учету. Потому что можно ли измерить ненависть, взвесить зависть, сосчитать предательство, найти меру подлости, демагогии или политической лжи?
В свое время, наблюдая становление буржуазной демократии, Дж. Байрон записал в дневнике: «Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия (на деле), как не аристократия негодяев?» Если среди собственно аристократии привилегии и престиж распределялись сообразно знатности, то среди политической камарильи, по мысли поэта, они распределяются в зависимости от степени беспринципности и цинизма, то есть «негодяйства». Чем в большей мере наделен некто этим качеством, тем выше та ступенька политической иерархии, на которую ему удается подняться.
Как и любое обобщение, утверждение это неизбежно грешит против истины. С другой стороны, можно понять тех, кто, подобно английскому поэту, оказался глубоко разочарован в своих политических деятелях, да и во всей системе буржуазной демократии. Можно подумать, что существует некое неписаное правило игры: политический лидер, добивающийся власти, объявляет себя выразителем воли народа, но, едва достигнув власти, он уже не считает себя связанным прежними обязательствами. И действительно, изучая историю так называемых демократических правлений, невозможно не удивляться, сколь далеко могут расходиться устремления народа и действия политических лидеров.
Впрочем, о том, что политик в своих действиях вовсе не руководствуется волей народа, писал еще Джордж Вашингтон, отец американской государственности. «Пожелания народа, — осторожно формулировал он, — могут не полностью соответствовать нашей истинной политике и интересам». Позднее к этой же мысли не раз возвращались другие американские президенты, в частности Ричард Никсон. Говоря о разрыве между желаниями народа и действиями политика, Никсон заметил, что решения политика «не должны основываться на опросах общественного мнения».
Значит ли это, что вся вереница политических лидеров, восходящих к власти и сменяющих друг друга на ее вершине, — всего лишь толпа вероломных обманщиков и хитрецов? Думать так значило бы впадать в ошибку не меньшую, чем идеализация этих людей.
В большинстве случаев деятелями этими управляют механизмы куда более мощные, чем добрая или злая воля каждого из них в отдельности.
В свое время демократия возникла как метод самоуправления небольшой общины-полиса. Уже тогда Аристотель писал, что демократия возможна, только если численность полиса не превышает 4050 человек. Жесткие рамки этой цифры, очевидно, условны. Но обитатель полиса, безусловно, без труда мог быть в курсе дел своей общины и, следовательно, мог ответственно высказывать свое мнение и участвовать в управлении. Метод управления, эффективный в условиях малой системы, вовсе не обязательно столь же успешен в системе, в сотни, тысячи и десятки тысяч раз превышающей ее по своим масштабам.
Говоря о современном западном обществе и имея в виду неизбежный дефицит компетентности рядовых граждан, известный политический обозреватель Уолтер Липпман вынужден был констатировать: «При демократической системе народ обрел власть, которой не способен пользоваться».
Эту же мысль — об иллюзорности прямой демократии — хорошо выразил Бернард Шоу. «Народ не может управлять, — писал он, — это физически невозможно. Каждый гражданин не может быть правителем, так же как каждый из мальчишек не может стать машинистом паровоза или главарем пиратов. Нация премьер-министров или диктаторов — это такой же абсурд, как армия, состоящая из фельдмаршалов. Правление при помощи всего народа не существует и никогда не сможет существовать на деле; это лозунг, которым демагоги дурачат нас, чтобы мы за них голосовали».
Парадоксальность этой ситуации стала понятна достаточно рано. Это-то и вызвало переход от прямой демократии (которая и является собственно демократией) к представительной демократии, то есть к передаче власти из рук народа в руки его выборных представителей.
Когда говорят, что выборные политические лидеры выражают (или должны выражать) волю народа, имеется в виду воля большинства. Но социальная дробность современного западного общества, множественность противоречивых интересов зачастую делают вообще невозможным вычленение такого понятия, как «большинство». Плюрализм ведет к тому, что «большинство» исчезает • — каждая группа интересов оказывается «в меньшинстве». В этих условиях любое решение, принимаемое политическим лидером, не устраивает многие группы и подвергается критике. То, что критика эта ведется с разных, порой диаметрально противоположных позиций, не меняет самой сути ситуации.
В плюралистическом мире, где каждая группа находится в меньшинстве по отношению к остальному обществу, правительство само оказывается порой одной из таких «групп меньшинства». Вполне логично, что правительственная группа, как и остальные, руководствуется в своих действиях собственными интересами и целями. Как пишет американский исследователь Г. Хиршфельд, «забота о процветании народа лежит вне интересов класса лидеров».
В отличие от лидера авторитарного или монархического толка демократический лидер выдает вексель в том, что, придя к власти, он будет творить волю народа. Но, достигнув цели, к которой так стремился, он чаще всего обнаруживает свое бессилие сделать то, что обещал. Либо разброс интересов разных групп оказывается столь широк, что не поддается «интеграции», то есть принять решение, которое устраивало бы всех или хотя бы большинство, оказывается невозможным. Либо, когда такое мнение большинства есть, выполнение его опасно для самого правителя и незыблемости его власти. А это аргумент, решающий для любого правителя, демократического в том числе.
И нужно было пройти и испытать все это на собственном жизненном опыте, чтобы заметить не без иронии, как сделал это однажды Уинстон Черчилль: «Демократия — наихудшая форма правления, кроме всех других форм, к которым люди уже обращались время от времени». (Виртуоз политических действий, каждое из которых имело неоднозначный смысл, Черчилль не терял этого качества и в своих высказываниях.)
II. НАД ОБЛАКАМИ
1. Пределы власти
Римский император Калигула позволял себе поступки, из-за которых многие считали его безумным. В цирке в самую сильную жару он приказывал вдруг убрать полотняный навес над зрителями и запрещал выпускать кого-либо. И десятки тысяч долгие часы сидели на раскаленных трибунах, покорно снося эту пытку.
Когда императору надоедала эта игра, он разрешал опять натянуть тенты.
В других случаях, точно так же без малейшего повода, он вдруг учинял казни или принимался разбрасывать деньги с балкона. Или приказывал закрыть склады с государственным хлебом, обрекая народ на голод. И только когда страдания и голод достигали той черты, которую, очевидно, намечал себе император, он разрешал открыть склады и возобновить выдачу хлеба.
Все эти поступки не имели ни иного повода, ни иной причины, кроме одной — так желал император.
Тем же, кто осмеливался увещевать его, он отвечал своей любимой фразой:
— Не забывай, что я могу сделать что угодно и . с кем угодно!
Это чувство уверенности в полнейшем исполнении любого своего желания вызывало искушение найти, нащупать где-то последний рубеж возможного, запретный и манящий край того, что дозволено. Видя, что черта эта отодвигается все дальше и дальше, владыки начинали испытывать нечто вроде азарта в своем желании коснуться ее, достичь предела власти. Тогда-то и появлялся правитель вроде Калигулы, со всеми его безумствами, прихотями и чудовищными капризами.
— Никто из прежних принцепсов, — признался однажды Нерон, — не знал, сколь много может он себе позволить.
Кому еще из владык могло прийти в голову сжечь свою столицу, как это сделал Нерон? Обходя город, его люди смоляными факелами и горящей паклей поджигали дома. Многие видели это, но никто не осмелился схватить поджигателей или хотя бы помешать им. «Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, — писал историк тех лет, — а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах».
Так, проводя дни свои в казнях, оргиях, среди пожаров, четырнадцать лет тщетно искал Нерон ту черту, которая отметила бы пределы его власти.
Но если другие владыки решались лишь на то, чтобы подвергать испытанию преданность своих приближенных или долготерпение народа, то император Домициан бросил вызов куда более страшный. Он вздумал испытать, может ли его власть оказаться сильнее воли богов и одолеть веление судьбы.
Император призвал к себе астролога Асклетариона и задал ему вопрос: какая участь ожидает его, астролога? Тот ответил, что его вскоре разорвут собаки. Тогда Домициан рассмеялся и приказал страже тотчас же убить Асклетариона. Довольный, что ему удалось изменить предначертанное судьбой, император в тот же день за трапезой поведал друзьям о своем торжестве. Все принялись наперебой восхищаться императором, его находчивостью и смелостью. Только мимический актер Латин, возлежавший вместе с другими, не разделял общего восторга. Это заметил Домициан.
— Когда я шел сюда, — заговорил актер, почувствовав на себе тяжелый взгляд императора, — я проходил мимо площади, где сжигают мертвых. Как раз передо мной туда принесли астролога. Его положили на костер, но сильный ветер погасил пламя. И тогда я увидел, как стая бродячих собак рвала полусожженный труп.
Так повествует об этом эпизоде Светоний. Неизвестно, о чем подумал император, почувствовав, возможно, впервые нечто, противостоящее его воле.
Другое начало, столь же неодолимое, как и судьба, — время. Но тем сильнее соблазн противоборства с ним. Можно ли изменить прошлое по своему произволу и воле? Не один правитель в той или иной мере пытался совершить это. Но никто не заходил так далеко, как египетский фараон Рамсес II и китайский император Цинь Шихуанди.
…Никто из потомков не должен и помыслить, будто до него, до Рамсеса Великого, совершалось нечто значительное и достойное внимания. Время начинается с него, все, что было раньше, должно быть перечеркнуто и забыто, а еще лучше — приписано ему, Рамсесу. И вот искусные каменотесы на стенах всех храмов, всех дворцов и зданий, даже воздвигнутых задолго до того, как появился на свет их теперешний повелитель, выбивают надписи, гласящие, что все это было построено при нем, при Рамсесе, его благосклонностью и заботами.
Цинь Шихуанди также решил, что история страны, история мира должна начинаться с него. Даже императоры, которым предстояло унаследовать власть после него, не должны были иметь своих имен, а только номера: «второй», «третий» и т. д. Все архивы, все древние акты и летописи, созданные до него, волею императора были преданы огню. Те, кто осмелился возражать против этого, были брошены в ямы и забиты камнями. Там, где были они захоронены, император приказал развести дыни для своего стола.
Однако из всего, что давала абсолютная власть ее обладателю, самым упоительным всегда было ощущение безграничной власти над себе подобными. Власти над каждым человеком, над его жизнью и смертью. Сколь приятно чувствовать в своей руке нити от множества человеческих жизней! И рвать время от времени то одну нить, то другую только для того, чтобы еще раз ощутить волнующую беспредельность собственной власти. Сладостная мысль о полной власти над любым человеческим существом сопровождала каждый шаг правителя, наполняла каждый миг его жизни. Даже целуя шею своей возлюбленной, император Калигула не мог удержаться, чтобы не заметить:
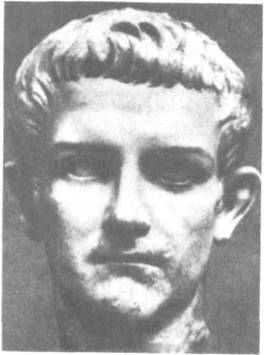 Калигула (12—41), римский император
Калигула (12—41), римский император
Получил громкую славу своими безрассудными и произвольными поступками. Любил говорить: «Не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно!»
— Такая хорошая шея, а прикажи я — и она слетит с плеч! Однажды на многолюдном пиршестве он неожиданно разразился громким хохотом. Когда консулы, возлежавшие слева и справа от него, учтиво осведомились о причине его веселья, он ответил с широкой улыбкой:
— Я смеюсь потому, что одного моего кивка достаточно, чтобы удавить вас обоих.
Но предать кого-то мучительной пытке или казни — это было слишком просто. Особая утонченность заключалась в том, чтобы заставить людей самих, добровольно и радостно идти на смерть по малейшей прихоти своего владыки. Именно этого требовал, например, от своих приближенных японский император Ёдзэй, который время от времени развлекался тем, что приказывал им влезать на деревья и по одному сбивал их оттуда стрелами. Но горе было тому, кто взбирался на дерево недостаточно резво. Или если он не смеялся вместе с императором после каждого удачного выстрела.
Только человек, неколебимо уверенный в своем абсолютном праве распоряжаться другими человеческими существами, мог произнести слова, сказанные однажды Наполеоном:
— Солдаты! Мне нужны ваши жизни, и вы обязаны отдать их мне!
Слова эти, выкрикнутые перед фронтом войск, построенных для битвы, были встречены ревом восторга. И по команде солдаты бросились в бой, убивая и разрешая убивать себя за человека, по сути дела им совершенно постороннего, только потому, что он назывался их императором.
Но не было, пожалуй, ничего страшнее, чем когда власть светская сочеталась с властью духовной. Именно на пересечении этих линий возникает та форма исступленного повиновения, которую называют фанатизмом. Та степень повиновения, которой никогда не удавалось достичь ни светским, ни военным владыкам.
В конце IX века в окрестностях Куфы зародилось движение карматов, одной из мусульманских сект. Толпы последователей, собравшихся под их знаменем, зажгли пламя «священной войны» против могущественной империи Аббасидов. Явившийся к повстанцам посол Аббасидов попытался угрожать их предводителю Абу-Тагеру.
— Мой повелитель, — сказал он, — отправил против вас тридцать тысяч лучших своих солдат!
— Тридцать тысяч? — переспросил Абу-Тагер. — Но найдется ли среди них хотя бы три таких солдата, как эти?
И, подозвав трех первых попавшихся солдат, он приказал одному из них вонзить меч себе в грудь, другому — броситься в Евфрат и утопиться, третьему — прыгнуть в пропасть. И каждый, едва произносились слова, относящиеся к нему, в то же мгновение без колебаний исполнял то, что было ему приказано.
Идеалом абсолютной власти было превращение человека в марионетку, мгновенно повинующуюся малейшему движению нити. Но если в театре кукол нити привязаны к рукам и ногам пляшущих фигурок, то здесь нити повиновения, эти щупальца власти, жадно протянуты к самому сердцу человека, к глубинам его души и ума.
Стремление беспредельно раздвинуть границы власти имеет как бы два направления. Одно из них нацелено вглубь. О нем мы говорили выше. Другое устремлено вовне, цель его — максимальное распространение власти вширь. Именно отсюда берут начало идеи всемирных империй и мирового господства.
Когда Монтескье писал, что человек стремится тем к большей власти, чем больше он ее имеет, он лишь выразил словами то, что до него во множестве форм выражала история. Эта мысль проступала подтекстом в государственных договорах, вырисовывалась между строк любезных писем, которыми обменивались владыки; она принимала очертания марширующих армий или изменчивые контуры империй. И хотя ни одному завоевателю, императору или политику никогда еще не удавалось осуществить свое стремление к всемирному господству, идея эта никогда не умирала.
Если говорить о времени и месте ее рождения, следует, видимо, назвать древний Аккад, третье тысячелетие до нашей эры. Правитель этой крохотной территории, зажатой в узком пространстве между Тигром и Евфратом, не разрешал именовать себя иначе как «царь четырех частей света».
 Нерон (37—68), римский император
Нерон (37—68), римский император
Однажды он заметил: «Никто из прежних принцепсов не знал, сколь много может он себе позволить»
Потенциальными властелинами мира считали себя и китайские императоры. В 1675 году посол «царя и самодержца всея Руси» Алексея Михайловича с царской грамотой и подарками прибыл в Пекин. Приближенные императора заранее предупредили посла, что во время аудиенции подарки следует называть не иначе как «данью», ответные же дары императора — «жалованием за службу». Подобные выражения, говорили они, употребляются императором и в его переписке с другими государями. Когда же посол Николай Гаврилович Спафарий возразил, что слова эти не выражают истинных отношений между двумя монархами, один китайский вельможа заметил ему:
— Ты не удивляйся, что у нас такой обычай: как один бог на небе, так один бог наш земной — богдыхан.
Это был не случайный каприз одного монарха или его приближенных, это была система политического мышления, исключавшая саму возможность существования в мире еще каких-то владык и императоров, кроме китайских. Когда через сто с лишним лет, в 1793 году, в Китай прибыло английское посольство, так называемая миссия Макартнея, по требованию китайских властей на английских кораблях были вывешены флаги и надписи, означавшие: «Носитель дани из Английской страны».
Один из удачливых монгольских предводителей, Темучин, будучи избран на курултае верховным ханом, получил имя Чингисхан, что означало Океан-хан или Хан — великий, как океан. Под океаном подразумевалось озеро Байкал — самое большое водное пространство, известное тогда монголам.
Прошли годы, и человек этот железом и кровью утвердил свое право на этот титул. Его империя простиралась от Китая до Днепра, от пустынь Афганистана до берегов Байкала. Умирая, он говорил своим детям, что завоевал для них царство «такой пространной ширины, что из центра его в каждую сторону будет один год пути».
Но, несмотря на всю обширность территории, на которую распространялась его власть, великий завоеватель не достиг того, что считал целью своей жизни. Ибо целью его было завоевание всего мира, а девизом были слова: «Как на небе есть одно солнце, так на земле один правитель».
Другим человеком, также притязавшим на то, чтобы власть его простиралась от одного конца мира до другого, был Тимур (Тамерлан). Подобно Чингисхану и другим владыкам, одержимым той же идеей, он видел в своей «миссии» проявление божественной воли и считал себя лишь орудием этой воли. «Несомненно, — писал его придворный историк, — что притязание на миродержавие, которое по вдохновению господина господ — да будет он прославлен и возвеличен! — возникло в его светозарном уме, было предрешено свыше».
Непоколебимая уверенность, что его высокое предназначение в этом мире именно таково, выражалась не только в тех бесконечных завоеваниях, которые вел Тимур от Сирии и до границ Китая, но даже в символике, окружавшей его. На оружии и на конях, на всех предметах, принадлежавших ему, он повелел ставить знак в виде трех кругов. Знак этот, обозначавший три сферы — небесный свод, земную твердь и водную глубь, как бы утверждал его притязание на владычество над миром.
Де Голль был всего на два года старше Вильсона, когда принял решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. В возрасте десяти лет он задался великой целью стать человеком, который вернет Франции то величие, каким она обладала при Наполеоне.
«Власть подобна голове Медузы, — писал как-то Стефан Цвейг, — кто когда-нибудь взглянул ей в глаза, не может уже отвернуться и всегда находится под ее чарами».
Этот взгляд всегда чувствовал на себе Уинстон Черчилль. По словам его английского биографа, вся жизнь этого человека была посвящена преследованию одной цели — власти. «Он стремился к ней с редкой страстью, твердостью и настойчивостью». Ради достижения этой цели он менял политические убеждения — от консерваторов переходил к либералам и от либералов снова к консерваторам. Трижды подряд терпел он поражения на выборах в парламент. Когда возраст его приближался уже к шестидесяти годам, он, казалось, начал смиряться с тем, что жизнь, прожитая им, была жизнью политического неудачника. «Я оставил всякую мысль о том, чтобы занять государственный пост», — признался он в то время.
Когда же с началом второй мировой войны стране понадобился новый лидер и выбор пал на него, для самого Черчилля это оказалось неожиданностью (так по крайней мере утверждает его биограф). Король, пригласив его, чтобы предложить ему возглавить правительство, встретил нового премьер-министра словами: «Думаю, вы не догадываетесь, зачем я послал за вами».
Путь к власти тернист и извилист. Некоторые оказываются в кювете, едва начав гонки. Других катастрофа подкарауливает за секунду до финиша. Одни крадутся к власти, другие берут ее силой. Итальянский социолог Вильфредо Парето делил правителей на две категории в зависимости от того, каким путем они достигли власти: на «лис» и «львов». «Лисы», утверждал он, специализируются на политической демагогии и обмане. «Львы» руководят восстаниями и совершают перевороты.
Если пользоваться этой терминологией, то нужно признать, что в политических джунглях буржуазного мира господствуют сейчас деятели из рода «лис». Демагогия и обман стали той ходячей монетой, которой пользуется каждый, желающий сделать покупку на базаре власти. Неизбежным результатом этого стала безмерная инфляция высоких слов, произносимых с высоких политических трибун. «Народ не принимает всерьез ни одного слова сенатора или конгрессмена, — писала одна американская газета, — народ считает, что 99% всех их выступлений — это вздор, невежество и демагогия».
Говоря о том, какую роль играет демагогия в политической жизни, Дж. Кеннеди привел как-то слова американского сенатора, сказанные им в порыве откровения одному из своих коллег: «Марк, твое несчастье заключается в том, что ты отказываешься быть демагогом! Ты не способен пожертвовать своими принципами для того, чтобы быть избранным. Следует знать, что бывают моменты, когда в общественной жизни человеку приходится подниматься над своими принципами».
Как нетрудно заметить, слова сенатора сами по себе являются блестящим примером той самой политической демагогии, в защиту которой они были сказаны.
Иными словами, в условиях буржуазной демократии принципы выполняют чисто инструментальную роль, роль средств в достижении единственной цели — власти. Когда искомая цель достигнута, человеку, говоря словами сенатора, «приходится подниматься над своими принципами».
Естественно, далеко не каждый политик готов произнести подобное кредо вслух. Но коль скоро слова эти сказаны, они невольно приводят на ум другие: доктрина используется в качестве инструмента для господства над массой, сама же господствующая элита стоит над своей доктриной и ею не связана. Формулировка эта принадлежит одному из сподвижников Гитлера, Г. Раушнингу.
Цинизм политиков и сама техника достижения власти в условиях так называемой парламентской демократии ведут к тому, что профессия политика, профессия претендента на власть, в глазах общественного мнения все больше становится занятием бесчестным и постыдным. В ходе одного из опросов в США среди женщин-матерей была распространена анкета, в которую был включен вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш сын стал президентом?» Большинство ответило положительно — почти каждая хотела быть матерью президента. Однако, как известно, прежде чем занять этот пост, нужно заниматься политической деятельностью. И вот следующий вопрос — о том, хотят ли матери, чтобы их сыновья занимались политикой. Но на этот вопрос большинство ответило отрицательно. Как было сказано в комментариях, они считали политику слишком грязным делом.
В системе наследственной власти в борьбе за нее участвовали немногие — лишь те, кто мог претендовать на власть по праву рождения. Система так называемых демократических выборов намного расширила этот круг борьбы. Правда, в отличие от правителей прошлого, вступая в должность, премьер-министр не может уже распять или посадить на кол своего предшественника. А президент, одержав победу на выборах, не властен отдать приказ удавить остальных претендентов. Другое дело, что каждый из них в той или иной форме старается все-таки покончить со своими / соперниками. Правда, не теми способами, какими делалось это раньше. Да и зачем убивать соперника физически, если есть много способов превратить его в политический труп? Вместо удара кинжалом — не менее разящий удар демагогических выпадов. Роль наемного убийцы приняла на себя пресса. А функции палачей попеременно выполняют в отношении друг друга сами политические лидеры.
И нет больше необходимости вливать спящему королю яд в ухо. Но от того, что круг борьбы стал шире, а игра зла в его пределах обрела другие формы, разве количество зла стало меньше? Если, конечно, допустить, что подобные вещи вообще поддаются учету. Потому что можно ли измерить ненависть, взвесить зависть, сосчитать предательство, найти меру подлости, демагогии или политической лжи?
В свое время, наблюдая становление буржуазной демократии, Дж. Байрон записал в дневнике: «Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия (на деле), как не аристократия негодяев?» Если среди собственно аристократии привилегии и престиж распределялись сообразно знатности, то среди политической камарильи, по мысли поэта, они распределяются в зависимости от степени беспринципности и цинизма, то есть «негодяйства». Чем в большей мере наделен некто этим качеством, тем выше та ступенька политической иерархии, на которую ему удается подняться.
Как и любое обобщение, утверждение это неизбежно грешит против истины. С другой стороны, можно понять тех, кто, подобно английскому поэту, оказался глубоко разочарован в своих политических деятелях, да и во всей системе буржуазной демократии. Можно подумать, что существует некое неписаное правило игры: политический лидер, добивающийся власти, объявляет себя выразителем воли народа, но, едва достигнув власти, он уже не считает себя связанным прежними обязательствами. И действительно, изучая историю так называемых демократических правлений, невозможно не удивляться, сколь далеко могут расходиться устремления народа и действия политических лидеров.
Впрочем, о том, что политик в своих действиях вовсе не руководствуется волей народа, писал еще Джордж Вашингтон, отец американской государственности. «Пожелания народа, — осторожно формулировал он, — могут не полностью соответствовать нашей истинной политике и интересам». Позднее к этой же мысли не раз возвращались другие американские президенты, в частности Ричард Никсон. Говоря о разрыве между желаниями народа и действиями политика, Никсон заметил, что решения политика «не должны основываться на опросах общественного мнения».
Значит ли это, что вся вереница политических лидеров, восходящих к власти и сменяющих друг друга на ее вершине, — всего лишь толпа вероломных обманщиков и хитрецов? Думать так значило бы впадать в ошибку не меньшую, чем идеализация этих людей.
В большинстве случаев деятелями этими управляют механизмы куда более мощные, чем добрая или злая воля каждого из них в отдельности.
В свое время демократия возникла как метод самоуправления небольшой общины-полиса. Уже тогда Аристотель писал, что демократия возможна, только если численность полиса не превышает 4050 человек. Жесткие рамки этой цифры, очевидно, условны. Но обитатель полиса, безусловно, без труда мог быть в курсе дел своей общины и, следовательно, мог ответственно высказывать свое мнение и участвовать в управлении. Метод управления, эффективный в условиях малой системы, вовсе не обязательно столь же успешен в системе, в сотни, тысячи и десятки тысяч раз превышающей ее по своим масштабам.
Говоря о современном западном обществе и имея в виду неизбежный дефицит компетентности рядовых граждан, известный политический обозреватель Уолтер Липпман вынужден был констатировать: «При демократической системе народ обрел власть, которой не способен пользоваться».
Эту же мысль — об иллюзорности прямой демократии — хорошо выразил Бернард Шоу. «Народ не может управлять, — писал он, — это физически невозможно. Каждый гражданин не может быть правителем, так же как каждый из мальчишек не может стать машинистом паровоза или главарем пиратов. Нация премьер-министров или диктаторов — это такой же абсурд, как армия, состоящая из фельдмаршалов. Правление при помощи всего народа не существует и никогда не сможет существовать на деле; это лозунг, которым демагоги дурачат нас, чтобы мы за них голосовали».
Парадоксальность этой ситуации стала понятна достаточно рано. Это-то и вызвало переход от прямой демократии (которая и является собственно демократией) к представительной демократии, то есть к передаче власти из рук народа в руки его выборных представителей.
Когда говорят, что выборные политические лидеры выражают (или должны выражать) волю народа, имеется в виду воля большинства. Но социальная дробность современного западного общества, множественность противоречивых интересов зачастую делают вообще невозможным вычленение такого понятия, как «большинство». Плюрализм ведет к тому, что «большинство» исчезает • — каждая группа интересов оказывается «в меньшинстве». В этих условиях любое решение, принимаемое политическим лидером, не устраивает многие группы и подвергается критике. То, что критика эта ведется с разных, порой диаметрально противоположных позиций, не меняет самой сути ситуации.
В плюралистическом мире, где каждая группа находится в меньшинстве по отношению к остальному обществу, правительство само оказывается порой одной из таких «групп меньшинства». Вполне логично, что правительственная группа, как и остальные, руководствуется в своих действиях собственными интересами и целями. Как пишет американский исследователь Г. Хиршфельд, «забота о процветании народа лежит вне интересов класса лидеров».
В отличие от лидера авторитарного или монархического толка демократический лидер выдает вексель в том, что, придя к власти, он будет творить волю народа. Но, достигнув цели, к которой так стремился, он чаще всего обнаруживает свое бессилие сделать то, что обещал. Либо разброс интересов разных групп оказывается столь широк, что не поддается «интеграции», то есть принять решение, которое устраивало бы всех или хотя бы большинство, оказывается невозможным. Либо, когда такое мнение большинства есть, выполнение его опасно для самого правителя и незыблемости его власти. А это аргумент, решающий для любого правителя, демократического в том числе.
И нужно было пройти и испытать все это на собственном жизненном опыте, чтобы заметить не без иронии, как сделал это однажды Уинстон Черчилль: «Демократия — наихудшая форма правления, кроме всех других форм, к которым люди уже обращались время от времени». (Виртуоз политических действий, каждое из которых имело неоднозначный смысл, Черчилль не терял этого качества и в своих высказываниях.)
II. НАД ОБЛАКАМИ
1. Пределы власти
Великий человек — всегда народное бедствие.
Китайская пословица
Римский император Калигула позволял себе поступки, из-за которых многие считали его безумным. В цирке в самую сильную жару он приказывал вдруг убрать полотняный навес над зрителями и запрещал выпускать кого-либо. И десятки тысяч долгие часы сидели на раскаленных трибунах, покорно снося эту пытку.
Когда императору надоедала эта игра, он разрешал опять натянуть тенты.
В других случаях, точно так же без малейшего повода, он вдруг учинял казни или принимался разбрасывать деньги с балкона. Или приказывал закрыть склады с государственным хлебом, обрекая народ на голод. И только когда страдания и голод достигали той черты, которую, очевидно, намечал себе император, он разрешал открыть склады и возобновить выдачу хлеба.
Все эти поступки не имели ни иного повода, ни иной причины, кроме одной — так желал император.
Тем же, кто осмеливался увещевать его, он отвечал своей любимой фразой:
— Не забывай, что я могу сделать что угодно и . с кем угодно!
Это чувство уверенности в полнейшем исполнении любого своего желания вызывало искушение найти, нащупать где-то последний рубеж возможного, запретный и манящий край того, что дозволено. Видя, что черта эта отодвигается все дальше и дальше, владыки начинали испытывать нечто вроде азарта в своем желании коснуться ее, достичь предела власти. Тогда-то и появлялся правитель вроде Калигулы, со всеми его безумствами, прихотями и чудовищными капризами.
— Никто из прежних принцепсов, — признался однажды Нерон, — не знал, сколь много может он себе позволить.
Кому еще из владык могло прийти в голову сжечь свою столицу, как это сделал Нерон? Обходя город, его люди смоляными факелами и горящей паклей поджигали дома. Многие видели это, но никто не осмелился схватить поджигателей или хотя бы помешать им. «Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, — писал историк тех лет, — а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах».
Так, проводя дни свои в казнях, оргиях, среди пожаров, четырнадцать лет тщетно искал Нерон ту черту, которая отметила бы пределы его власти.
Но если другие владыки решались лишь на то, чтобы подвергать испытанию преданность своих приближенных или долготерпение народа, то император Домициан бросил вызов куда более страшный. Он вздумал испытать, может ли его власть оказаться сильнее воли богов и одолеть веление судьбы.
Император призвал к себе астролога Асклетариона и задал ему вопрос: какая участь ожидает его, астролога? Тот ответил, что его вскоре разорвут собаки. Тогда Домициан рассмеялся и приказал страже тотчас же убить Асклетариона. Довольный, что ему удалось изменить предначертанное судьбой, император в тот же день за трапезой поведал друзьям о своем торжестве. Все принялись наперебой восхищаться императором, его находчивостью и смелостью. Только мимический актер Латин, возлежавший вместе с другими, не разделял общего восторга. Это заметил Домициан.
— Когда я шел сюда, — заговорил актер, почувствовав на себе тяжелый взгляд императора, — я проходил мимо площади, где сжигают мертвых. Как раз передо мной туда принесли астролога. Его положили на костер, но сильный ветер погасил пламя. И тогда я увидел, как стая бродячих собак рвала полусожженный труп.
Так повествует об этом эпизоде Светоний. Неизвестно, о чем подумал император, почувствовав, возможно, впервые нечто, противостоящее его воле.
Другое начало, столь же неодолимое, как и судьба, — время. Но тем сильнее соблазн противоборства с ним. Можно ли изменить прошлое по своему произволу и воле? Не один правитель в той или иной мере пытался совершить это. Но никто не заходил так далеко, как египетский фараон Рамсес II и китайский император Цинь Шихуанди.
…Никто из потомков не должен и помыслить, будто до него, до Рамсеса Великого, совершалось нечто значительное и достойное внимания. Время начинается с него, все, что было раньше, должно быть перечеркнуто и забыто, а еще лучше — приписано ему, Рамсесу. И вот искусные каменотесы на стенах всех храмов, всех дворцов и зданий, даже воздвигнутых задолго до того, как появился на свет их теперешний повелитель, выбивают надписи, гласящие, что все это было построено при нем, при Рамсесе, его благосклонностью и заботами.
Цинь Шихуанди также решил, что история страны, история мира должна начинаться с него. Даже императоры, которым предстояло унаследовать власть после него, не должны были иметь своих имен, а только номера: «второй», «третий» и т. д. Все архивы, все древние акты и летописи, созданные до него, волею императора были преданы огню. Те, кто осмелился возражать против этого, были брошены в ямы и забиты камнями. Там, где были они захоронены, император приказал развести дыни для своего стола.
Однако из всего, что давала абсолютная власть ее обладателю, самым упоительным всегда было ощущение безграничной власти над себе подобными. Власти над каждым человеком, над его жизнью и смертью. Сколь приятно чувствовать в своей руке нити от множества человеческих жизней! И рвать время от времени то одну нить, то другую только для того, чтобы еще раз ощутить волнующую беспредельность собственной власти. Сладостная мысль о полной власти над любым человеческим существом сопровождала каждый шаг правителя, наполняла каждый миг его жизни. Даже целуя шею своей возлюбленной, император Калигула не мог удержаться, чтобы не заметить:
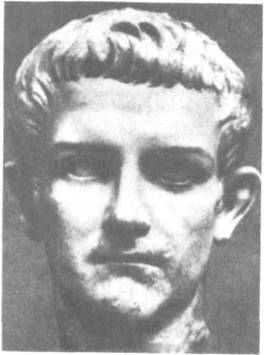
Получил громкую славу своими безрассудными и произвольными поступками. Любил говорить: «Не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно!»
— Такая хорошая шея, а прикажи я — и она слетит с плеч! Однажды на многолюдном пиршестве он неожиданно разразился громким хохотом. Когда консулы, возлежавшие слева и справа от него, учтиво осведомились о причине его веселья, он ответил с широкой улыбкой:
— Я смеюсь потому, что одного моего кивка достаточно, чтобы удавить вас обоих.
Но предать кого-то мучительной пытке или казни — это было слишком просто. Особая утонченность заключалась в том, чтобы заставить людей самих, добровольно и радостно идти на смерть по малейшей прихоти своего владыки. Именно этого требовал, например, от своих приближенных японский император Ёдзэй, который время от времени развлекался тем, что приказывал им влезать на деревья и по одному сбивал их оттуда стрелами. Но горе было тому, кто взбирался на дерево недостаточно резво. Или если он не смеялся вместе с императором после каждого удачного выстрела.
Только человек, неколебимо уверенный в своем абсолютном праве распоряжаться другими человеческими существами, мог произнести слова, сказанные однажды Наполеоном:
— Солдаты! Мне нужны ваши жизни, и вы обязаны отдать их мне!
Слова эти, выкрикнутые перед фронтом войск, построенных для битвы, были встречены ревом восторга. И по команде солдаты бросились в бой, убивая и разрешая убивать себя за человека, по сути дела им совершенно постороннего, только потому, что он назывался их императором.
Но не было, пожалуй, ничего страшнее, чем когда власть светская сочеталась с властью духовной. Именно на пересечении этих линий возникает та форма исступленного повиновения, которую называют фанатизмом. Та степень повиновения, которой никогда не удавалось достичь ни светским, ни военным владыкам.
В конце IX века в окрестностях Куфы зародилось движение карматов, одной из мусульманских сект. Толпы последователей, собравшихся под их знаменем, зажгли пламя «священной войны» против могущественной империи Аббасидов. Явившийся к повстанцам посол Аббасидов попытался угрожать их предводителю Абу-Тагеру.
— Мой повелитель, — сказал он, — отправил против вас тридцать тысяч лучших своих солдат!
— Тридцать тысяч? — переспросил Абу-Тагер. — Но найдется ли среди них хотя бы три таких солдата, как эти?
И, подозвав трех первых попавшихся солдат, он приказал одному из них вонзить меч себе в грудь, другому — броситься в Евфрат и утопиться, третьему — прыгнуть в пропасть. И каждый, едва произносились слова, относящиеся к нему, в то же мгновение без колебаний исполнял то, что было ему приказано.
Идеалом абсолютной власти было превращение человека в марионетку, мгновенно повинующуюся малейшему движению нити. Но если в театре кукол нити привязаны к рукам и ногам пляшущих фигурок, то здесь нити повиновения, эти щупальца власти, жадно протянуты к самому сердцу человека, к глубинам его души и ума.
Стремление беспредельно раздвинуть границы власти имеет как бы два направления. Одно из них нацелено вглубь. О нем мы говорили выше. Другое устремлено вовне, цель его — максимальное распространение власти вширь. Именно отсюда берут начало идеи всемирных империй и мирового господства.
Когда Монтескье писал, что человек стремится тем к большей власти, чем больше он ее имеет, он лишь выразил словами то, что до него во множестве форм выражала история. Эта мысль проступала подтекстом в государственных договорах, вырисовывалась между строк любезных писем, которыми обменивались владыки; она принимала очертания марширующих армий или изменчивые контуры империй. И хотя ни одному завоевателю, императору или политику никогда еще не удавалось осуществить свое стремление к всемирному господству, идея эта никогда не умирала.
Если говорить о времени и месте ее рождения, следует, видимо, назвать древний Аккад, третье тысячелетие до нашей эры. Правитель этой крохотной территории, зажатой в узком пространстве между Тигром и Евфратом, не разрешал именовать себя иначе как «царь четырех частей света».

Однажды он заметил: «Никто из прежних принцепсов не знал, сколь много может он себе позволить»
Потенциальными властелинами мира считали себя и китайские императоры. В 1675 году посол «царя и самодержца всея Руси» Алексея Михайловича с царской грамотой и подарками прибыл в Пекин. Приближенные императора заранее предупредили посла, что во время аудиенции подарки следует называть не иначе как «данью», ответные же дары императора — «жалованием за службу». Подобные выражения, говорили они, употребляются императором и в его переписке с другими государями. Когда же посол Николай Гаврилович Спафарий возразил, что слова эти не выражают истинных отношений между двумя монархами, один китайский вельможа заметил ему:
— Ты не удивляйся, что у нас такой обычай: как один бог на небе, так один бог наш земной — богдыхан.
Это был не случайный каприз одного монарха или его приближенных, это была система политического мышления, исключавшая саму возможность существования в мире еще каких-то владык и императоров, кроме китайских. Когда через сто с лишним лет, в 1793 году, в Китай прибыло английское посольство, так называемая миссия Макартнея, по требованию китайских властей на английских кораблях были вывешены флаги и надписи, означавшие: «Носитель дани из Английской страны».
Один из удачливых монгольских предводителей, Темучин, будучи избран на курултае верховным ханом, получил имя Чингисхан, что означало Океан-хан или Хан — великий, как океан. Под океаном подразумевалось озеро Байкал — самое большое водное пространство, известное тогда монголам.
Прошли годы, и человек этот железом и кровью утвердил свое право на этот титул. Его империя простиралась от Китая до Днепра, от пустынь Афганистана до берегов Байкала. Умирая, он говорил своим детям, что завоевал для них царство «такой пространной ширины, что из центра его в каждую сторону будет один год пути».
Но, несмотря на всю обширность территории, на которую распространялась его власть, великий завоеватель не достиг того, что считал целью своей жизни. Ибо целью его было завоевание всего мира, а девизом были слова: «Как на небе есть одно солнце, так на земле один правитель».
Другим человеком, также притязавшим на то, чтобы власть его простиралась от одного конца мира до другого, был Тимур (Тамерлан). Подобно Чингисхану и другим владыкам, одержимым той же идеей, он видел в своей «миссии» проявление божественной воли и считал себя лишь орудием этой воли. «Несомненно, — писал его придворный историк, — что притязание на миродержавие, которое по вдохновению господина господ — да будет он прославлен и возвеличен! — возникло в его светозарном уме, было предрешено свыше».
Непоколебимая уверенность, что его высокое предназначение в этом мире именно таково, выражалась не только в тех бесконечных завоеваниях, которые вел Тимур от Сирии и до границ Китая, но даже в символике, окружавшей его. На оружии и на конях, на всех предметах, принадлежавших ему, он повелел ставить знак в виде трех кругов. Знак этот, обозначавший три сферы — небесный свод, земную твердь и водную глубь, как бы утверждал его притязание на владычество над миром.
