Страница:
Размышления отвлекли, и Добросклонцев проглядел асфальтированную дорожку, которая вела от платформы к бревенчатому дому его тестя Вячеслава Александровича Ермолова.
Станислав Беляев ждал Добросклонцева у себя в кабинете. Он был настроен более оптимистично, чем Добросклонцев, ему казалось, что Коньков легко и быстро «расколется», то есть расскажет все, как было, и выдаст своих соучастников. Беляев — практик и на все смотрит с позиции опыта. Опыт он считает надежной основой при решении самых трудных вопросов и сложных, запутанных дел, когда все концы так ловко запрятаны, что решительно не за что уцепиться, чтоб размотать весь клубок.
Заведующий отделением больницы, человек с подчеркнуто светскими манерами, о болезни Конькова распространяться не стал, заметил лишь, что тот страдает манией преследования и что встреча с сотрудниками милиции может отрицательно подействовать на больного. Добросклонцев в свою очередь сообщил, что их пациент подозревается в тяжком преступлении и что встреча и беседа с ним именно сейчас очень важна для следствия. Завотделением понимающе кивнул головой и разрешил встречу и беседу с Коньковым в присутствии лечащего врача. В отличие от своего начальника лечащий врач, седой хмурый человек, уже приближающийся к пенсионной черте, встретил Добросклонцева и Беляева настороженно и недружелюбно, — пожимая круглыми массивными плечами и глядя сквозь стекла больших очков себе под ноги, пробурчал:
— Не понимаю, что вам даст разговор с сумасшедшим?
— Но ведь его уже посещали, — напористо возразил Беляев.
Психиатр перевел взгляд на Добросклонцева и несколько смягчился:
— Одно дело родственники и друзья, другое — вы. Вы для него — враги, преследователи.
— Ну это напрасно: лично у меня с Коньковым самые добрые отношения, — добродушно заулыбался Беляев.
— Кто из родственников или друзей навещал Конькова? — спросил Добросклонцев. Юрий Иванович не исключал возможности «дружеских» отношений если не самого Конькова, то тех, кто стоит за его спиной, с кем-нибудь из персонала больницы. Эта мысль зародилась сразу же, как только узнал, что Коньков поспешно лег в больницу. Он внимательно наблюдал за психиатром. Тот пробурчал вяло и нехотя:
— Заходил какой-то, родственником назвался.
— Фамилия? — поинтересовался Беляев. — Не помните? У вас записана?
— Мы не спрашивали. У нас больница общего режима. И Коньков для нас не преступник, а обыкновенный больной. Поговорите с ним, он вам сам расскажет, кто его навещал. Человек он общительный. Подождите здесь, я сейчас за ним схожу. — И врач поспешил удалиться.
— Как тебе нравится? — вполголоса спросил Добросклонцев Беляева, кивнув на дверь, за которой скрылся врач.
— Нелюдим. Похоже, что ему все осточертело. Постоянное общение с такими больными, наверное, откладывает отпечаток на характер, — пожал плечами Беляев. В поведении психиатра он не находил ничего необычного.
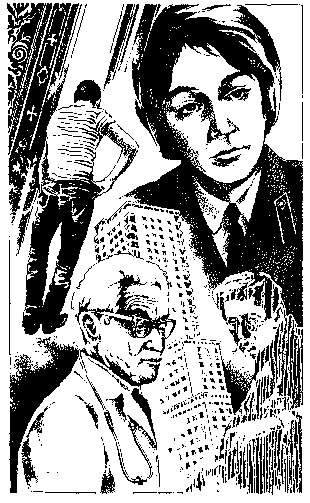
Сопровождаемый врачом с широкой улыбкой на круглом скуластом лице, вошел Коньков, с порога объявил, скаля крупные крепкие зубы:
— А вот и мы, приветик. Чем могу быть полезен? С кем имею честь? — И без приглашения сел на белый деревянный стул.
Конькову на вид было под сорок. Русая прядь волос падала на широкий лоб до самых бровей, густых и таких же русых, и это придавало выражению его лица суровый вид, совершенно не соответствующий веселому и развязному тону. В светлых до блеклости глазах, подвижных и беспокойных, бегали тревожные искорки. Это беспокойство чувствовалось и во всей фигуре Конькова — плотной, основательной, с крутым крепким затылком, постриженным высоко, под «бокс». Обе руки откинуты назад, за узкую спинку стула, точно он их прятал. Обращаясь к Конькову, врач сказал:
— Николай Демьянович, товарищи из милиции хотят с вами поговорить.
— Три дня лежу в больнице я, и вот пришла милиция, — пропел Коньков и протянул Беляеву руку: — Мое почтение, товарищ начальник.
Беляев кивнул на Добросклонцева, представил:
— Это мой коллега из Главного управления.
— Калека, калека, согрей человека. Коли не согреешь, сам околеешь. Водку пили? Вот, купили! — Коньков расхохотался деланно идиотским хохотом.
— Вы — поэт, Коньков, — добродушно улыбнулся Добросклонцев.
— Во! Понимающие люди оценили, а доктор считает меня шизиком. А что думает товарищ начальник? — вопрос относится к Беляеву.
— И не шизик и не поэт, — отозвался Станислав Петрович.
— Ты хитер, начальник, все знаешь.
— Почти все, — улыбнулся лукаво Станислав Петрович. — Но кое-какие детали хотелось бы выяснить, уточнить.
— А о том, что я тебя обманул, тоже знаешь?
— Знаю. Только не понимаю, зачем ты это сделал?
— Испугался. Ты б меня арестовал.
— За что?
— За часы.
— А ты только часы взял или еще что-то?
— Больше ничего. Не веришь? Вот те крест. — И Коньков неумело перекрестился.
— Крест действительно «вот те». — Беляев достал из кармана плаща крест архимандрита Иринея. — Узнаешь?
И Добросклонцев и Беляев ожидали, что Коньков стушуется, растеряется. Но ничего подобного — махнул небрежно рукой:
— Это так, бесполезная игрушка. Часы — другое дело, часы — штука стоящая.
— Тогда зачем же вы взяли ненужную вам вещь? — спросил Добросклонцев.
Все это время он внимательно наблюдал за Коньковым, стараясь разгадать линию его поведения. О том, что Коньков играет, у Юрия Ивановича не было сомнений, играет довольно искусно, не переигрывая. Важно было другое: даст ли Коньков правдивые показания под давлением улик, назовет ли своих сообщников?
— Я, что ли, брал? — хмыкнул Коньков. — На кой леший мне нужен крест, что, я поп какой-нибудь? Мне его сунули в карман вместе с часами.
— Кто сунул? — снова включился в разговор Беляев. — Прежде вы говорили, что купили часы?
— Говорил. Ну и что? Тогда говорил неправду. Испугался я. Страх у меня. Я боюсь, зоны боюсь. Кошмары по ночам. Вот и врал. А теперь буду правду говорить.
Вид у Конькова серьезный и речь психически нормального человека. Это уже был не тот Коньков, что вошел в этот кабинет с развязными прибаутками. Добросклонцев и Беляев нетерпеливо переглянулись. Врач многозначительно вздохнул, и вздох его показался Добросклонцеву осуждающим или даже предупреждающим Конькова.
— Итак, Николай Демьянович, будем говорить правду и начнем с самого начала, — дружелюбно предложил Добросклонцев. — Кто, когда, где и почему вам сунул в карман крест и часы?
Коньков задумался. Пауза получилась напряженной и затяжной. Но его не торопили. Лишь врач кашлянул в кулак и опять громко вздохнул. И Коньков, как он сам выразился, сделал «чистосердечное признание». Собственно, он почти слово в слово изложил сочиненную Пришельцем и переданную ему накануне Павловым версию: он, Коньков, проходил возле дома, в котором жил ювелир, к нему подошли двое в милицейской форме, спросили, местный ли он, и, получив утвердительный ответ, категорично предложили быть понятым при обыске в квартире ювелира. Как проходил обыск, Коньков рассказал со всеми деталями и подробностями, ничего не тая, все, как было на самом деле. Врать ему не было смысла, он же прекрасно понимал, что все эти детали хорошо известны следствию из показаний потерпевших.
Коньков закончил свой рассказ словами, произнесенными так искренне, что Беляев готов был поверить ему:
— Вот все, товарищи начальники, вся правда, как на духу, и весь я перед вами виноватый и честный. Что хотите со мной делайте, а я весь тут как есть.
Взгляд его погас. Он положил руки на колени и склонился точно под тяжестью непосильного груза. Добросклонцев спросил:
— Но вы понимали, что люди, переодетые в форму милиции, — грабители?
Не отрывая рук от коленей, Коньков чуть приподнял голову, с маниакальной подозрительностью посмотрел на Юрия Ивановича и тотчас же опустил голову. Он не торопился с ответом. Сказал негромко, вполголоса, глядя в пол:
— Понимал. Только не сразу. В конце, когда дело было сделано. Испугался очень, когда понял. Я думал, они меня прихлопнут, потому как свидетель.
— А почему потом не сообщил в милицию? — спросил Беляев.
Коньков выпрямился. Вид у него был настороженный, словно он опасался подвоха. С недоверием посмотрел на Беляева, скорбно покачал головой и произнес устало:
— Потому как боялся. Говорю вам — наказали они, чтоб рот на замок, иначе крышка… Ну те, которые… — Он не закончил фразу и опять погрузился в себя, замкнулся.
— Ты мог нам рассказать это в прошлый раз, когда у тебя изъяли часы, рассказать, как сейчас, — как бы размышляя вслух, произнес Беляев.
Коньков никак не прореагировал на его слова; он сидел отрешенный и безучастный. И снова напряженная пауза, которую нарушил Добросклонцев:
— Николай Демьянович, а кто вас вчера навестил?
Вопрос был неожиданным. Коньков вздрогнул, но, подавив волнение, заговорил с вымученной непринужденностью, избегая взглядов своих собеседников.
— Тут ходят всякие, везде ходят. Через забор лезут, во все щели прут. Я жену жду. А чего ждать? Может, и придет. А не придет, и так будет ладно. Мне все равно — что жена, что соседка. Соседка, может, и лучше жены. — Он нервно рассмеялся.
— Но все-таки, Николай Демьянович, кто лично тебя вчера навещал? — повторил вопрос Добросклонцева Станислав Петрович.
— Лично, отлично, столично… Водка такая была — «Столичная», — балагурил Коньков, уклоняясь от ответа.
Добросклонцев вопросительно посмотрел на врача, тот кивнул головой и тихо сказал: «Довольно». Потом положил Конькову руку на плечо и уже громко произнес:
— Устал, Николай Демьянович, надо отдохнуть.
Так закончилась беседа Добросклонцева и Беляева с подозреваемым Коньковым.
Потом в кабинете начальника горотдела милиции они подвели итоги. Юрий Иванович считал, что Коньков сам сочинил версию о своем якобы невольном участии в ограблении, что на самом деле он был активным соучастником, что шизофрению он симулирует, чтоб таким образом уйти от ответственности. У Беляева же на этот счет были сомнения: он допускал правдивость версии Конькова, да и в симуляцию шизофрении не очень верил, полагаясь на авторитет врачей. По мнению Станислава Петровича, дело с кулоном зашло в тупик, и, пока не будут задержаны двое скрывшихся псевдомилиционеров, невозможно дать этому делу логический ход. Даже если Коньков и соучастник, он будет держаться своей версии, правдивых показаний не даст и не поможет розыску найти «приятелей». А без них трудно будет суду доказать преднамеренное участие Конькова в ограблении.
— Коньков «расколется», — твердил Добросклонцев. — Ты обратил внимание, как он вздрогнул, когда я спросил о посетителе?
— А какой смысл ему колоться? — возражал Беляев. — Его версия тщательно продумана, и если мы не задержим тех двоих, он практически неуязвим. Он играет под дурачка, на самом же деле — хитрая бестия. Я думаю, что и вздрогнул-то он преднамеренно, чтоб разыграть заключительную сцену. Артист!
— Не думаю: вздрогнул он естественно, а сцену разыграл, чтоб скрыть свое волнение и вообще прекратить разговор. Накануне у него кто-то был и, возможно, с инструкцией. И если нам удалось бы выяснить, кто, я думаю, это и была бы та ниточка, при помощи которой можно размотать весь клубок. Надо проследить, кто навещает Конькова.
Добросклонцев понимал, что за «делом о кулоне» скрывается нечто более серьезное, чем обычный налет с целью ограбления. На такую мысль наводило его несколько странное поведение Норкина и Бертулина. Он ничего не ответил на предложение Беляева, лишь спросил:
— Что ты скажешь о врачах?..
— Разные они, не похожие друг на друга, — не задумываясь, сказал Беляев. — А ты что имеешь в виду?
— Они могут помочь следствию? — спросил Добросклонцев, хотя думал о другом: не соучастники ли они. И добавил: — Или наоборот?
Беляев не ответил: он не исключал, что Коньков симулирует и врачи вольно или невольно — это еще надо выяснить — поддерживают его. Но выяснение этого потребует больших усилий. А сотрудники и так перегружены, работают с напряжением, часто без выходных.
— За Коньковым надо установить наблюдение, — продолжал Добросклонцев. — Нужно во что бы то ни стало выяснить, кто его навещал. Понимаешь? Это та ниточка, уцепившись за которую мы можем размотать весь клубок.
Беляев понимал, что как бы не было трудно, а кулоном придется заниматься не только Главному управлению, но и ему, то есть сотрудникам Дядинского отдела милиции, на территории которого совершено преступление, да и основная ниточка к его раскрытию находится здесь, в Дядине.
— Что молчишь, Станислав Петрович! Думаешь, я не понимаю, что придется попотеть? Всем нам, и тебе в том числе. Когда Коньков выйдет из больницы, ты мне сразу дашь знать. Я подъеду и сам им займусь или подключу Антонину Миронову. Но это потом. А сейчас — дело за тобой. — И неожиданно предложил; — А не пойти ли нам пообедать?
— Можно, — кивнул Станислав Петрович.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Юрий Иванович посмотрел на часы: сегодня он хотел прийти домой пораньше, собирались всей семьей сходить в кино на новый французский фильм.
Тоня вошла в кабинет без стука, румяная, возбужденная, и с порога пояснила:
— Очень спешила, боялась, что не застану. А на дворе — теплынь. Настоящая весна.
Она села на один из четырех стульев, прижавшихся к стенке напротив письменного стола, расстегнула блестящие крючки-застежки элегантного плаща и поправила прическу.
— Рассказывай, — негромко попросил Юрий Иванович.
— Рассказывать, собственно, нечего. Как я тебе уже говорила по телефону, никаких сенсаций. Как улитка закрылся в ракушке. Осторожничает, а стоит только наступить ему на хвост, как тут же разыгрывает из себя придурка, на что имеет официальный документ. Ну а насколько эта бумажка справедлива, мы не знаем, и проверять ее на данном этапе, по-моему, нецелесообразно.
Слушая ее, Добросклонцев молча кивал головой и, когда Тоня сделала паузу, спросил:
— А что думает Раиса Ивановна?
— Рая считает, что Коньков больше симулянт, чем придурок.
— Получается — и симулянт, и шизик?..
— Симулянт стопроцентный, а что касается шизика, то, по мнению Раи, это у него может быть в легкой форме. Как принято говорить в таких случаях: иногда на него находит.
— Ну хорошо, допустим. А если потребовать экспертизу? Если будет установлено, что Коньков обыкновенный симулянт, а лечащие его врачи по доброте своей или по профессиональной некомпетентности, или в корыстных целях ошибались, то мы с тобой с полной уверенностью можем считать, что гражданин Коньков равноправный соучастник шайки налетчиков и версия его обыкновенный блеф.
— В этом я не сомневаюсь, — уверенно подтвердила Тоня. — Но требовать экспертизы сейчас преждевременно. Коньков должен выйти на связь. Надо дать ему время. Успокоится, обвыкнется.
— Конькова держать на прицеле… Логично, — вслух рассуждал Добросклонцев. — И только?
— А что еще придумать? — Тоня пожала плечами.
— Мне не дает покоя твой старый знакомый — Ипполит Исаевич. Хотелось бы с ним встретиться еще раз. Просто невзначай зайти на чашку чая и уточнить некоторые детали, любезно попросить помочь следствию.
— Попробуй. В успех я не верю. Во-первых, он тебе не откроет или ничего нового не скажет. Пришелец — матерый волк, у него особое чутье: за километр чувствует капканы.
— И в конце концов, обойдя все капканы, проваливается в западню. Ладно, посмотрим. У меня есть план, точнее, некоторые соображения.
— На всякий случай предупреди меня, когда пойдешь к Пришельцу.
— Непременно. Более того: позвоню тебе от него.
Но золото золотом, а брильянт брильянтом, и откладывать вторую операцию «Кулон» не было смысла, тем более, что план был, как считал Пришелец, гениальным в своей простоте. В свой замысел Ипполит Исаевич посвятил Павлова, поскольку ему отводилась главная роль. Пришелец любил баню, и не сауну, которую он называл мини-Сахарой, а русскую баню с березовым и дубовым вениками. И не Сандуны, не Центральные бани, у него была своя, районная, в которой к услугам такого солидного клиента всегда был готов отдельный номер с парилкой, с небольшим бассейном и довольно просторной раздевалкой, рассчитанной на пять персон. Вдоль стен вытянутой в длину комнаты стояли мягкие кресла, посередине прямоугольный стол, за которым могли уместиться не пять, а все десять человек; на отдельном столике — электрический самовар. На полу — ковровая дорожка. И, конечно же, вешалки и весы. Обслуживали номера два банщика — Гриша Хоменко и Леша Соколов. Хотя обоим им перевалило за сорок и оба имели институтские дипломы, а Соколов даже степень кандидата технических наук, для Ипполита Исаевича и для Анатоля они были Гришей и Лешей. Они не обижались. Пришельца в глаза величали по имени-отчеству, за глаза — боссом. Они хорошо знали свою службу, создали для клиентов настоящий сервис; имели свою постоянную клиентуру с тугими кошельками и купеческими замашками. И не задаром: ежедневно уносили домой в среднем по четвертному чаевых, что составляло среднемесячный заработок 500 — 600 рублей. Конечно же, приходилось делиться с директором бани, тут ничего не поделаешь, так заведено: что в бане, что в ресторане, да мало ли где еще? Нельзя сказать, чтоб Гриша и Леша делали что-то противозаконное, они знали запросы своей клиентуры и старались удовлетворить их с лихвой. Если находились обожатели воблы, снетка или еще какой-нибудь сухой и копченой рыбешки, — а кто ее не любит под свежее пиво, — у Гриши и Леши всегда был припас. Гриша водил дружбу с проводником поезда Москва — Калининград, Леша с проводником Москва — Мурманск. Водили они ну если и не дружбу, то знакомство с администратором магазина «Океан», страстным поклонником березового веника и легкого пара. Словом, рыба была всегда. А уж, как водится, платить за нее приходилось гораздо больше, чем втридорога. Опять-таки это же рынок: не хочешь — не бери, довольствуйся солеными сушками или брикетиком с этикеткой «Сыр к пиву». И венички у Гриши и Леши всегда свеженькие, аккуратненькие, веточка к веточке, хоть дубовые, и даже с можжевельничком и веткой черной смородины. По желанию любителей ароматного духа в парной появлялся терпкий запах эвкалипта, черной смородины.
Григорий Хоменко когда-то окончил самый престижный вуз — Институт международных отношений и какое-то время работал за рубежом. Там у него случилась неприятность по семейной части: влюбился в машинистку, у той родился ребенок, пришлось расторгать один брак и заключать другой, а заодно и оставить дипломатическую карьеру. Второй брак оказался неудачным, что-то не клеилось в семейной жизни, Хоменко запил и вскоре потерял работу вообще. Кто знает, чем бы все это кончилось, если б Григорий не познакомился, притом совершенно случайно, с директором районной бани. И тот предложил ему не пыльную, но денежную работу. Директор был человек добрый, но чуточку тщеславный. Ему льстило иметь в подчинении дипломата, Хоменко недолго раздумывал: кошелек к тому времени был пуст. И не пожалел.
Алексей Соколов пришел в баню позже. Своей новой и такой неожиданной должностью он обязан уже Григорию, с которым познакомился тоже случайно.
Однажды в выходной день Хоменко сидел на скамейке на Рождественском бульваре, не обращая ни на что внимания. И не заметил, как рядом с ним на скамейке оказался мужчина таких же лет, как и Хоменко, одетый более чем скромно: далеко не новый плащ «болонья», предохраняющий от дождя, поношенный костюм и давно не чищенные ботинки. Небрежно завязанный темно-вишневый галстук вызывающе торчал из-под плаща. Густые русые волосы дыбились неприбранной копной, видно, хозяин давно не обращал на них внимания. В светлых выцветших глазах наблюдательный Хоменко прочитал горечь и безысходную тоску. Должно быть, в незнакомце Григорий уловил нечто такое, что так или иначе соприкасалось с его теперешними думами и настроением. Григорий Хоменко умел располагать к себе людей, а у Соколова было такое состояние, что он с доверчивой готовностью открывал свою душу любому. Алексей Соколов считал себя типичным неудачником и, вконец отчаявшись, перестал бороться за достойное место в этом сложном, противоречивом мире. Судьба над ним насмехалась, а пожалуй, даже издевалась. Отличник в школе, он преуспевал и в ПТУ редкой специальности — гранильщика алмазов. Руки имел поистине золотые, и после окончания училища два года эти руки заставляли алмаз сверкать искристыми гранями. А потом вдруг бросил работу и поступил в институт цветных металлов и золота. Блестяще защитил диплом. Перед ним открывалось заманчивое будущее. Но будущее порой и безжалостно обманчиво, особенно для талантливых, но доверчивых открытых сердец, талантом и доверчивостью которых ловко пользуются бездари и посредственности, природой наделенные наглостью, цинизмом и жестокостью. С такими людьми столкнулся и Алексей Соколов, начав свою служебную карьеру в должности младшего научного сотрудника НИИ. Начальство быстро оценило его талант искателя и, щедро потчуя молодого специалиста радужными обещаниями, без зазрения совести пользовалось его услугами. Соколов медленно работал над своей кандидатской диссертацией: не хватало времени, потому что попутно помогал писать докторскую директору института. Потом, когда директор стал доктором, а Соколов, наконец, кандидатом и старшим научным сотрудником, на него обратил внимание его непосредственный начальник, заведующий лабораторией. Обласкал, хвалил, прочил будущее и свою помощь, намекая при этом, что отнюдь не бескорыстную. И Соколов принялся за работу над докторской диссертацией для заведующего лабораторией. Для своих дел времени почти не оставалось.
Понимал ли Соколов, что дельцы его эксплуатируют? Безусловно, понимал. Но терпел, потому что директор института и заведующий лабораторией давали ему понять, что без их помощи и содействия он ничего особенного для института и науки не представляет. Алексей взбунтовался, с большим запозданием проявил характер. Началась война между ним и начальством. Силы сторон были не равны, и старший научный сотрудник потерпел сокрушительное поражение. Оставаться в институте он не мог и был изгнан «по собственному желанию».
Станислав Беляев ждал Добросклонцева у себя в кабинете. Он был настроен более оптимистично, чем Добросклонцев, ему казалось, что Коньков легко и быстро «расколется», то есть расскажет все, как было, и выдаст своих соучастников. Беляев — практик и на все смотрит с позиции опыта. Опыт он считает надежной основой при решении самых трудных вопросов и сложных, запутанных дел, когда все концы так ловко запрятаны, что решительно не за что уцепиться, чтоб размотать весь клубок.
Заведующий отделением больницы, человек с подчеркнуто светскими манерами, о болезни Конькова распространяться не стал, заметил лишь, что тот страдает манией преследования и что встреча с сотрудниками милиции может отрицательно подействовать на больного. Добросклонцев в свою очередь сообщил, что их пациент подозревается в тяжком преступлении и что встреча и беседа с ним именно сейчас очень важна для следствия. Завотделением понимающе кивнул головой и разрешил встречу и беседу с Коньковым в присутствии лечащего врача. В отличие от своего начальника лечащий врач, седой хмурый человек, уже приближающийся к пенсионной черте, встретил Добросклонцева и Беляева настороженно и недружелюбно, — пожимая круглыми массивными плечами и глядя сквозь стекла больших очков себе под ноги, пробурчал:
— Не понимаю, что вам даст разговор с сумасшедшим?
— Но ведь его уже посещали, — напористо возразил Беляев.
Психиатр перевел взгляд на Добросклонцева и несколько смягчился:
— Одно дело родственники и друзья, другое — вы. Вы для него — враги, преследователи.
— Ну это напрасно: лично у меня с Коньковым самые добрые отношения, — добродушно заулыбался Беляев.
— Кто из родственников или друзей навещал Конькова? — спросил Добросклонцев. Юрий Иванович не исключал возможности «дружеских» отношений если не самого Конькова, то тех, кто стоит за его спиной, с кем-нибудь из персонала больницы. Эта мысль зародилась сразу же, как только узнал, что Коньков поспешно лег в больницу. Он внимательно наблюдал за психиатром. Тот пробурчал вяло и нехотя:
— Заходил какой-то, родственником назвался.
— Фамилия? — поинтересовался Беляев. — Не помните? У вас записана?
— Мы не спрашивали. У нас больница общего режима. И Коньков для нас не преступник, а обыкновенный больной. Поговорите с ним, он вам сам расскажет, кто его навещал. Человек он общительный. Подождите здесь, я сейчас за ним схожу. — И врач поспешил удалиться.
— Как тебе нравится? — вполголоса спросил Добросклонцев Беляева, кивнув на дверь, за которой скрылся врач.
— Нелюдим. Похоже, что ему все осточертело. Постоянное общение с такими больными, наверное, откладывает отпечаток на характер, — пожал плечами Беляев. В поведении психиатра он не находил ничего необычного.
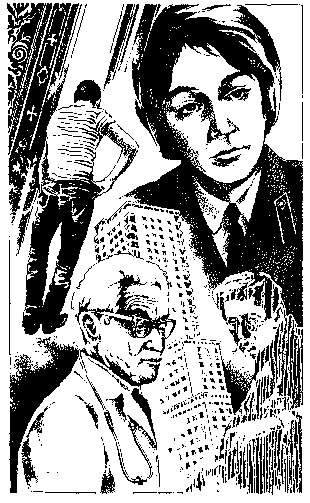
Сопровождаемый врачом с широкой улыбкой на круглом скуластом лице, вошел Коньков, с порога объявил, скаля крупные крепкие зубы:
— А вот и мы, приветик. Чем могу быть полезен? С кем имею честь? — И без приглашения сел на белый деревянный стул.
Конькову на вид было под сорок. Русая прядь волос падала на широкий лоб до самых бровей, густых и таких же русых, и это придавало выражению его лица суровый вид, совершенно не соответствующий веселому и развязному тону. В светлых до блеклости глазах, подвижных и беспокойных, бегали тревожные искорки. Это беспокойство чувствовалось и во всей фигуре Конькова — плотной, основательной, с крутым крепким затылком, постриженным высоко, под «бокс». Обе руки откинуты назад, за узкую спинку стула, точно он их прятал. Обращаясь к Конькову, врач сказал:
— Николай Демьянович, товарищи из милиции хотят с вами поговорить.
— Три дня лежу в больнице я, и вот пришла милиция, — пропел Коньков и протянул Беляеву руку: — Мое почтение, товарищ начальник.
Беляев кивнул на Добросклонцева, представил:
— Это мой коллега из Главного управления.
— Калека, калека, согрей человека. Коли не согреешь, сам околеешь. Водку пили? Вот, купили! — Коньков расхохотался деланно идиотским хохотом.
— Вы — поэт, Коньков, — добродушно улыбнулся Добросклонцев.
— Во! Понимающие люди оценили, а доктор считает меня шизиком. А что думает товарищ начальник? — вопрос относится к Беляеву.
— И не шизик и не поэт, — отозвался Станислав Петрович.
— Ты хитер, начальник, все знаешь.
— Почти все, — улыбнулся лукаво Станислав Петрович. — Но кое-какие детали хотелось бы выяснить, уточнить.
— А о том, что я тебя обманул, тоже знаешь?
— Знаю. Только не понимаю, зачем ты это сделал?
— Испугался. Ты б меня арестовал.
— За что?
— За часы.
— А ты только часы взял или еще что-то?
— Больше ничего. Не веришь? Вот те крест. — И Коньков неумело перекрестился.
— Крест действительно «вот те». — Беляев достал из кармана плаща крест архимандрита Иринея. — Узнаешь?
И Добросклонцев и Беляев ожидали, что Коньков стушуется, растеряется. Но ничего подобного — махнул небрежно рукой:
— Это так, бесполезная игрушка. Часы — другое дело, часы — штука стоящая.
— Тогда зачем же вы взяли ненужную вам вещь? — спросил Добросклонцев.
Все это время он внимательно наблюдал за Коньковым, стараясь разгадать линию его поведения. О том, что Коньков играет, у Юрия Ивановича не было сомнений, играет довольно искусно, не переигрывая. Важно было другое: даст ли Коньков правдивые показания под давлением улик, назовет ли своих сообщников?
— Я, что ли, брал? — хмыкнул Коньков. — На кой леший мне нужен крест, что, я поп какой-нибудь? Мне его сунули в карман вместе с часами.
— Кто сунул? — снова включился в разговор Беляев. — Прежде вы говорили, что купили часы?
— Говорил. Ну и что? Тогда говорил неправду. Испугался я. Страх у меня. Я боюсь, зоны боюсь. Кошмары по ночам. Вот и врал. А теперь буду правду говорить.
Вид у Конькова серьезный и речь психически нормального человека. Это уже был не тот Коньков, что вошел в этот кабинет с развязными прибаутками. Добросклонцев и Беляев нетерпеливо переглянулись. Врач многозначительно вздохнул, и вздох его показался Добросклонцеву осуждающим или даже предупреждающим Конькова.
— Итак, Николай Демьянович, будем говорить правду и начнем с самого начала, — дружелюбно предложил Добросклонцев. — Кто, когда, где и почему вам сунул в карман крест и часы?
Коньков задумался. Пауза получилась напряженной и затяжной. Но его не торопили. Лишь врач кашлянул в кулак и опять громко вздохнул. И Коньков, как он сам выразился, сделал «чистосердечное признание». Собственно, он почти слово в слово изложил сочиненную Пришельцем и переданную ему накануне Павловым версию: он, Коньков, проходил возле дома, в котором жил ювелир, к нему подошли двое в милицейской форме, спросили, местный ли он, и, получив утвердительный ответ, категорично предложили быть понятым при обыске в квартире ювелира. Как проходил обыск, Коньков рассказал со всеми деталями и подробностями, ничего не тая, все, как было на самом деле. Врать ему не было смысла, он же прекрасно понимал, что все эти детали хорошо известны следствию из показаний потерпевших.
Коньков закончил свой рассказ словами, произнесенными так искренне, что Беляев готов был поверить ему:
— Вот все, товарищи начальники, вся правда, как на духу, и весь я перед вами виноватый и честный. Что хотите со мной делайте, а я весь тут как есть.
Взгляд его погас. Он положил руки на колени и склонился точно под тяжестью непосильного груза. Добросклонцев спросил:
— Но вы понимали, что люди, переодетые в форму милиции, — грабители?
Не отрывая рук от коленей, Коньков чуть приподнял голову, с маниакальной подозрительностью посмотрел на Юрия Ивановича и тотчас же опустил голову. Он не торопился с ответом. Сказал негромко, вполголоса, глядя в пол:
— Понимал. Только не сразу. В конце, когда дело было сделано. Испугался очень, когда понял. Я думал, они меня прихлопнут, потому как свидетель.
— А почему потом не сообщил в милицию? — спросил Беляев.
Коньков выпрямился. Вид у него был настороженный, словно он опасался подвоха. С недоверием посмотрел на Беляева, скорбно покачал головой и произнес устало:
— Потому как боялся. Говорю вам — наказали они, чтоб рот на замок, иначе крышка… Ну те, которые… — Он не закончил фразу и опять погрузился в себя, замкнулся.
— Ты мог нам рассказать это в прошлый раз, когда у тебя изъяли часы, рассказать, как сейчас, — как бы размышляя вслух, произнес Беляев.
Коньков никак не прореагировал на его слова; он сидел отрешенный и безучастный. И снова напряженная пауза, которую нарушил Добросклонцев:
— Николай Демьянович, а кто вас вчера навестил?
Вопрос был неожиданным. Коньков вздрогнул, но, подавив волнение, заговорил с вымученной непринужденностью, избегая взглядов своих собеседников.
— Тут ходят всякие, везде ходят. Через забор лезут, во все щели прут. Я жену жду. А чего ждать? Может, и придет. А не придет, и так будет ладно. Мне все равно — что жена, что соседка. Соседка, может, и лучше жены. — Он нервно рассмеялся.
— Но все-таки, Николай Демьянович, кто лично тебя вчера навещал? — повторил вопрос Добросклонцева Станислав Петрович.
— Лично, отлично, столично… Водка такая была — «Столичная», — балагурил Коньков, уклоняясь от ответа.
Добросклонцев вопросительно посмотрел на врача, тот кивнул головой и тихо сказал: «Довольно». Потом положил Конькову руку на плечо и уже громко произнес:
— Устал, Николай Демьянович, надо отдохнуть.
Так закончилась беседа Добросклонцева и Беляева с подозреваемым Коньковым.
Потом в кабинете начальника горотдела милиции они подвели итоги. Юрий Иванович считал, что Коньков сам сочинил версию о своем якобы невольном участии в ограблении, что на самом деле он был активным соучастником, что шизофрению он симулирует, чтоб таким образом уйти от ответственности. У Беляева же на этот счет были сомнения: он допускал правдивость версии Конькова, да и в симуляцию шизофрении не очень верил, полагаясь на авторитет врачей. По мнению Станислава Петровича, дело с кулоном зашло в тупик, и, пока не будут задержаны двое скрывшихся псевдомилиционеров, невозможно дать этому делу логический ход. Даже если Коньков и соучастник, он будет держаться своей версии, правдивых показаний не даст и не поможет розыску найти «приятелей». А без них трудно будет суду доказать преднамеренное участие Конькова в ограблении.
— Коньков «расколется», — твердил Добросклонцев. — Ты обратил внимание, как он вздрогнул, когда я спросил о посетителе?
— А какой смысл ему колоться? — возражал Беляев. — Его версия тщательно продумана, и если мы не задержим тех двоих, он практически неуязвим. Он играет под дурачка, на самом же деле — хитрая бестия. Я думаю, что и вздрогнул-то он преднамеренно, чтоб разыграть заключительную сцену. Артист!
— Не думаю: вздрогнул он естественно, а сцену разыграл, чтоб скрыть свое волнение и вообще прекратить разговор. Накануне у него кто-то был и, возможно, с инструкцией. И если нам удалось бы выяснить, кто, я думаю, это и была бы та ниточка, при помощи которой можно размотать весь клубок. Надо проследить, кто навещает Конькова.
Добросклонцев понимал, что за «делом о кулоне» скрывается нечто более серьезное, чем обычный налет с целью ограбления. На такую мысль наводило его несколько странное поведение Норкина и Бертулина. Он ничего не ответил на предложение Беляева, лишь спросил:
— Что ты скажешь о врачах?..
— Разные они, не похожие друг на друга, — не задумываясь, сказал Беляев. — А ты что имеешь в виду?
— Они могут помочь следствию? — спросил Добросклонцев, хотя думал о другом: не соучастники ли они. И добавил: — Или наоборот?
Беляев не ответил: он не исключал, что Коньков симулирует и врачи вольно или невольно — это еще надо выяснить — поддерживают его. Но выяснение этого потребует больших усилий. А сотрудники и так перегружены, работают с напряжением, часто без выходных.
— За Коньковым надо установить наблюдение, — продолжал Добросклонцев. — Нужно во что бы то ни стало выяснить, кто его навещал. Понимаешь? Это та ниточка, уцепившись за которую мы можем размотать весь клубок.
Беляев понимал, что как бы не было трудно, а кулоном придется заниматься не только Главному управлению, но и ему, то есть сотрудникам Дядинского отдела милиции, на территории которого совершено преступление, да и основная ниточка к его раскрытию находится здесь, в Дядине.
— Что молчишь, Станислав Петрович! Думаешь, я не понимаю, что придется попотеть? Всем нам, и тебе в том числе. Когда Коньков выйдет из больницы, ты мне сразу дашь знать. Я подъеду и сам им займусь или подключу Антонину Миронову. Но это потом. А сейчас — дело за тобой. — И неожиданно предложил; — А не пойти ли нам пообедать?
— Можно, — кивнул Станислав Петрович.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Антонина Миронова возвращалась в Москву под вечер, и, хотя до конца рабочего дня оставалось каких-нибудь час-два, она прямо с вокзала поехала на улицу Белинского, зная, что Добросклонцев ждет ее. С ним она разговаривала по телефону перед отъездом из Дядина, и Юрий Иванович понял, что ничего обнадеживающего она не везет. Прошел уже месяц, а дело с кулоном так и не продвинулось ни на шаг. В Дядине Тоня допрашивала вышедшего из больницы Конькова. С согласия Добросклонцева взяла с собой свою подругу врача-психиатра Раису Ивановну. Добросклонцева продолжал мучить вопрос: в самом деле Коньков страдает психическим отклонением или ловко симулирует? Ответ имел для следствия если не первостепенное, то весьма и весьма важное значение. Раиса Ивановна в данном случае никаких официальных полномочий не имела. Она присутствовала на допросе, наблюдала и слушала молча, не произнеся ни единого слова. Для Юрия Ивановича было важно мнение специалиста. Он не исключал необходимости психиатрической экспертизы, но для этого надо было иметь какие-то веские основания. Кроме того, посылая Миронову произвести допрос Конькова, Добросклонцев рассчитывал на ее опыт, на умение расположить к себе подследственного, войти к нему в доверие. На этот раз расчет Юрия Ивановича не оправдался: Антонина Миронова не смогла выудить из Конькова ни одной сколько-нибудь существенной детали, которая помогла бы дальнейшему следствию. Дав подписку о невыезде, Коньков, как и на беседе с Добросклонцевым и Беляевым, упрямо повторял свою версию и не очень искусно «заговаривался», демонстрируя умственные «завихрения».Юрий Иванович посмотрел на часы: сегодня он хотел прийти домой пораньше, собирались всей семьей сходить в кино на новый французский фильм.
Тоня вошла в кабинет без стука, румяная, возбужденная, и с порога пояснила:
— Очень спешила, боялась, что не застану. А на дворе — теплынь. Настоящая весна.
Она села на один из четырех стульев, прижавшихся к стенке напротив письменного стола, расстегнула блестящие крючки-застежки элегантного плаща и поправила прическу.
— Рассказывай, — негромко попросил Юрий Иванович.
— Рассказывать, собственно, нечего. Как я тебе уже говорила по телефону, никаких сенсаций. Как улитка закрылся в ракушке. Осторожничает, а стоит только наступить ему на хвост, как тут же разыгрывает из себя придурка, на что имеет официальный документ. Ну а насколько эта бумажка справедлива, мы не знаем, и проверять ее на данном этапе, по-моему, нецелесообразно.
Слушая ее, Добросклонцев молча кивал головой и, когда Тоня сделала паузу, спросил:
— А что думает Раиса Ивановна?
— Рая считает, что Коньков больше симулянт, чем придурок.
— Получается — и симулянт, и шизик?..
— Симулянт стопроцентный, а что касается шизика, то, по мнению Раи, это у него может быть в легкой форме. Как принято говорить в таких случаях: иногда на него находит.
— Ну хорошо, допустим. А если потребовать экспертизу? Если будет установлено, что Коньков обыкновенный симулянт, а лечащие его врачи по доброте своей или по профессиональной некомпетентности, или в корыстных целях ошибались, то мы с тобой с полной уверенностью можем считать, что гражданин Коньков равноправный соучастник шайки налетчиков и версия его обыкновенный блеф.
— В этом я не сомневаюсь, — уверенно подтвердила Тоня. — Но требовать экспертизы сейчас преждевременно. Коньков должен выйти на связь. Надо дать ему время. Успокоится, обвыкнется.
— Конькова держать на прицеле… Логично, — вслух рассуждал Добросклонцев. — И только?
— А что еще придумать? — Тоня пожала плечами.
— Мне не дает покоя твой старый знакомый — Ипполит Исаевич. Хотелось бы с ним встретиться еще раз. Просто невзначай зайти на чашку чая и уточнить некоторые детали, любезно попросить помочь следствию.
— Попробуй. В успех я не верю. Во-первых, он тебе не откроет или ничего нового не скажет. Пришелец — матерый волк, у него особое чутье: за километр чувствует капканы.
— И в конце концов, обойдя все капканы, проваливается в западню. Ладно, посмотрим. У меня есть план, точнее, некоторые соображения.
— На всякий случай предупреди меня, когда пойдешь к Пришельцу.
— Непременно. Более того: позвоню тебе от него.
2
Пришелец подробно знал о содержании беседы Добросклонцева и Беляева с Коньковым и был вполне удовлетворен поведением своего исполнителя. Пока что события развивались по сценарию, сочиненному Ипполитом Исаевичем, и опасности для себя он не ждал, хотя всегда был готов к неожиданностям. Провал операции «Кулон» вызвал в нем ярость — он возненавидел Норкина, который так ловко провел его. Но эта ненависть и порождала в нем азарт игрока. Пришелец готовил новую операцию «Кулон» и как артист упивался своим замыслом, который считал красивым и дерзким. После провала первой операции Пришелец поступил на службу. В одном из подмосковных городов начались работы по реставрации древнего храма, и, узнав, что там будут работать золотых дел мастера, Ипполит Исаевич, используя своих влиятельных знакомых, в которых он никогда не испытывал недостатка, устроился на ни к чему не обязывающую и в сущности безответственную должность консультанта: он слыл знатоком древнерусской иконописи.Но золото золотом, а брильянт брильянтом, и откладывать вторую операцию «Кулон» не было смысла, тем более, что план был, как считал Пришелец, гениальным в своей простоте. В свой замысел Ипполит Исаевич посвятил Павлова, поскольку ему отводилась главная роль. Пришелец любил баню, и не сауну, которую он называл мини-Сахарой, а русскую баню с березовым и дубовым вениками. И не Сандуны, не Центральные бани, у него была своя, районная, в которой к услугам такого солидного клиента всегда был готов отдельный номер с парилкой, с небольшим бассейном и довольно просторной раздевалкой, рассчитанной на пять персон. Вдоль стен вытянутой в длину комнаты стояли мягкие кресла, посередине прямоугольный стол, за которым могли уместиться не пять, а все десять человек; на отдельном столике — электрический самовар. На полу — ковровая дорожка. И, конечно же, вешалки и весы. Обслуживали номера два банщика — Гриша Хоменко и Леша Соколов. Хотя обоим им перевалило за сорок и оба имели институтские дипломы, а Соколов даже степень кандидата технических наук, для Ипполита Исаевича и для Анатоля они были Гришей и Лешей. Они не обижались. Пришельца в глаза величали по имени-отчеству, за глаза — боссом. Они хорошо знали свою службу, создали для клиентов настоящий сервис; имели свою постоянную клиентуру с тугими кошельками и купеческими замашками. И не задаром: ежедневно уносили домой в среднем по четвертному чаевых, что составляло среднемесячный заработок 500 — 600 рублей. Конечно же, приходилось делиться с директором бани, тут ничего не поделаешь, так заведено: что в бане, что в ресторане, да мало ли где еще? Нельзя сказать, чтоб Гриша и Леша делали что-то противозаконное, они знали запросы своей клиентуры и старались удовлетворить их с лихвой. Если находились обожатели воблы, снетка или еще какой-нибудь сухой и копченой рыбешки, — а кто ее не любит под свежее пиво, — у Гриши и Леши всегда был припас. Гриша водил дружбу с проводником поезда Москва — Калининград, Леша с проводником Москва — Мурманск. Водили они ну если и не дружбу, то знакомство с администратором магазина «Океан», страстным поклонником березового веника и легкого пара. Словом, рыба была всегда. А уж, как водится, платить за нее приходилось гораздо больше, чем втридорога. Опять-таки это же рынок: не хочешь — не бери, довольствуйся солеными сушками или брикетиком с этикеткой «Сыр к пиву». И венички у Гриши и Леши всегда свеженькие, аккуратненькие, веточка к веточке, хоть дубовые, и даже с можжевельничком и веткой черной смородины. По желанию любителей ароматного духа в парной появлялся терпкий запах эвкалипта, черной смородины.
Григорий Хоменко когда-то окончил самый престижный вуз — Институт международных отношений и какое-то время работал за рубежом. Там у него случилась неприятность по семейной части: влюбился в машинистку, у той родился ребенок, пришлось расторгать один брак и заключать другой, а заодно и оставить дипломатическую карьеру. Второй брак оказался неудачным, что-то не клеилось в семейной жизни, Хоменко запил и вскоре потерял работу вообще. Кто знает, чем бы все это кончилось, если б Григорий не познакомился, притом совершенно случайно, с директором районной бани. И тот предложил ему не пыльную, но денежную работу. Директор был человек добрый, но чуточку тщеславный. Ему льстило иметь в подчинении дипломата, Хоменко недолго раздумывал: кошелек к тому времени был пуст. И не пожалел.
Алексей Соколов пришел в баню позже. Своей новой и такой неожиданной должностью он обязан уже Григорию, с которым познакомился тоже случайно.
Однажды в выходной день Хоменко сидел на скамейке на Рождественском бульваре, не обращая ни на что внимания. И не заметил, как рядом с ним на скамейке оказался мужчина таких же лет, как и Хоменко, одетый более чем скромно: далеко не новый плащ «болонья», предохраняющий от дождя, поношенный костюм и давно не чищенные ботинки. Небрежно завязанный темно-вишневый галстук вызывающе торчал из-под плаща. Густые русые волосы дыбились неприбранной копной, видно, хозяин давно не обращал на них внимания. В светлых выцветших глазах наблюдательный Хоменко прочитал горечь и безысходную тоску. Должно быть, в незнакомце Григорий уловил нечто такое, что так или иначе соприкасалось с его теперешними думами и настроением. Григорий Хоменко умел располагать к себе людей, а у Соколова было такое состояние, что он с доверчивой готовностью открывал свою душу любому. Алексей Соколов считал себя типичным неудачником и, вконец отчаявшись, перестал бороться за достойное место в этом сложном, противоречивом мире. Судьба над ним насмехалась, а пожалуй, даже издевалась. Отличник в школе, он преуспевал и в ПТУ редкой специальности — гранильщика алмазов. Руки имел поистине золотые, и после окончания училища два года эти руки заставляли алмаз сверкать искристыми гранями. А потом вдруг бросил работу и поступил в институт цветных металлов и золота. Блестяще защитил диплом. Перед ним открывалось заманчивое будущее. Но будущее порой и безжалостно обманчиво, особенно для талантливых, но доверчивых открытых сердец, талантом и доверчивостью которых ловко пользуются бездари и посредственности, природой наделенные наглостью, цинизмом и жестокостью. С такими людьми столкнулся и Алексей Соколов, начав свою служебную карьеру в должности младшего научного сотрудника НИИ. Начальство быстро оценило его талант искателя и, щедро потчуя молодого специалиста радужными обещаниями, без зазрения совести пользовалось его услугами. Соколов медленно работал над своей кандидатской диссертацией: не хватало времени, потому что попутно помогал писать докторскую директору института. Потом, когда директор стал доктором, а Соколов, наконец, кандидатом и старшим научным сотрудником, на него обратил внимание его непосредственный начальник, заведующий лабораторией. Обласкал, хвалил, прочил будущее и свою помощь, намекая при этом, что отнюдь не бескорыстную. И Соколов принялся за работу над докторской диссертацией для заведующего лабораторией. Для своих дел времени почти не оставалось.
Понимал ли Соколов, что дельцы его эксплуатируют? Безусловно, понимал. Но терпел, потому что директор института и заведующий лабораторией давали ему понять, что без их помощи и содействия он ничего особенного для института и науки не представляет. Алексей взбунтовался, с большим запозданием проявил характер. Началась война между ним и начальством. Силы сторон были не равны, и старший научный сотрудник потерпел сокрушительное поражение. Оставаться в институте он не мог и был изгнан «по собственному желанию».
