Страница:
– Ага… - согласился Павел. - Вот этот, - он показал на старшего мальчика, - наш отец. - Он тихонько засмеялся, уж очень нелепо получалось: мальчишка такой же, как они, а вот на тебе - папа!
Над полками на стене висел портрет Ленина, вырезанный из какого-то журнала, но тоже в аккуратной деревянной рамке.
Дверь тихонько скрипнула. В комнату заглянул Пантелей Романович.
– Встали?
– Пантелей Романович, - начал было Павел, но старик сердито нахмурился. - Дедушка, Киню надо вывести.
– В сад выпусти. Не сбежит, чай… - Он подошел к полкам. - Это и есть мои сыны. Ваш родитель. Петя пойдет со мной на речку. За водой.
Они втроем вышли в сад. Киндер поднял ножку возле угла дома. Пантелей Романович поморщился, но ничего не сказал, загремел ведрами. И Петр взял ведро и пошел следом за стариком. А Павел остался на крылечке.
От забора к реке вела тропка. Впереди висела белая мгла. Она чуть приподнялась над водой. Вода была темной и тихо струилась.
Пантелей Романович хотел было зачерпнуть ведром, но какой-то предмет, плывший по реке, привлек его внимание. Он разглядел труп немца в мышином мундире. Река тихонько покачивала его.
Пантелей Романович плюнул, подхватил с земли пустые ведра и пошел обратно. Петр двинулся за ним и все оглядывался, словно немец мог вылезти из реки и зашагать следом.
– Запоганили реку, - сердито сказал Пантелей Романович. - До колонки дойду. А вы - марш в комнаты. И пса…
Братья послушно ушли в дом, позвав Киндера, обнюхивавшего углы сада.
А в это время на берегу появились парнишка с тощим рюкзаком за спиной и девочка с санитарной сумкой.
Если бы Петр и Павел выглянули в окошко, они бы узнали Ржавого и Злату. А может быть, и не узнали бы, потому что туман только начал отрываться от воды, солнце еще не пробилось сквозь него и видимость была плохая.
Василь и Злата торопливо разделись, положили одежду вместе с рюкзаком и сумкой на доску, найденную на берегу, бесшумно вошли в воду и поплыли к лесному берегу, толкая доску перед собой.
Город притаился и ждал.
Огненные столбы сникли, опустились, расползлись над городом едким дымом, от которого захотелось бы чихнуть, если бы кто-нибудь вышел на улицу. Но никто не выходил. Жители попрятались дома, выглядывали из-за штор и занавесок, просматривая пустые, мертвые улицы.
А гитлеровцы не торопились входить в город. Они знали, что город в кольце. Но боялись. Битые, они ждали подвоха. И только когда рассеялся над рекой туман и четко стал виден городской берег, они поняли, что окопы пусты, что полк Красной Армии, который они столько раз уничтожали, снова ускользнул.
Тогда в реку, ниже моста, осторожно сполз фашистский танк. И завяз на середине, уйдя в тину, в воду по самую башню.
Часть третья. РАЗЛУКИ И ВСТРЕЧИ.
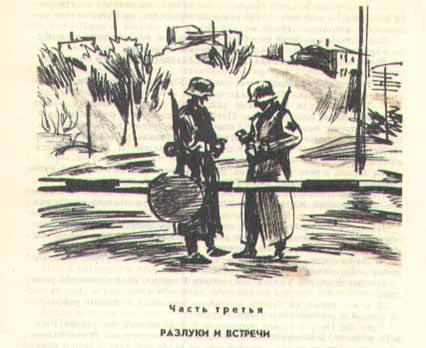
Осень подкрадывалась к городу незаметно, словно и ей грозила опасность в опустевших унылых улицах, и ее пугали шаги патрулей, и для нее воздвигали на площади, недалеко от потрепанного брезентового цирка, виселицы из новеньких бревен и аккуратно оструганных досок.
Мелкие капли дождя извилистыми струйками текли по оконному стеклу, шептались на ржавом подоконнике.
Фличу и в окошко смотреть не надо, чтобы узнать, какая на дворе погода, загодя заломило поясницу. Да и смотреть не на что, из окна ничего, кроме крыш, не видно. Комната под самым чердаком четырехэтажного дома, того самого, где в подвале мастерская по ремонту замков, примусов и велосипедов.
Здесь Флич живет уже третий месяц вместе с одноногим сторожем из цирка.
…Флич вошел в город с беженцами, не успевшими уйти по шоссе, которое перерезали немцы. Беженцы торопливо исчезали в переулках и дворах, словно испарялись под солнцем. А он брел по городу куда глаза глядят. Где искать мальчиков, куда они могли направиться, если добрались до города, он представления не имел. И не знал, что в то же время с другой стороны в город входили немцы.
Флич решил зайти в цирк. Ведь и мальчики могли найти приют в цирке! И потом, куда-то надо идти. Пугаясь тишины и настороженности улиц, Флич зашагал к центру. Иногда ему начинало казаться, что он в городе один, совершенно один. Он озирался затравленно и ускорял шаг.
Как же он обрадовался, когда увидел возле знакомого входа живую душу, старика сторожа! Тот сидел на табуретке в привычной позе, опираясь на крепкую клюку, и солнце играло на его солдатских "Георгиях".
Флич замахал ему рукой еще издали и почти побежал.
– Здравствуйте!
Сторож глянул на него из-под козырька красноармейской фуражки и, ничуть не удивившись, буркнул:
– Здравия желаю!
– Здравствуйте, дорогой друг, - с жаром повторил Флич и неловко пожал вместо его руки клюку. Появилось ощущение, что раз сторож на своем месте, значит, и все остальное на месте. Павел и Петр, верно, в своем вагончике, а под вагончиком - Киндер, он любит поваляться в тени.
Флич смотрел по сторонам посветлевшими глазами, все еще тряся дружелюбно клюку сторожа. И вдруг сообразил, что даже не знает, как старика зовут. Столько раз здоровался и прощался!… Нехорошо.
– Простите, как ваше имя, отчество?
– Филимоныч.
– Просто Филимоныч?
– Куды проще.
– Ну, хорошо… Филимоныч, - повторил Флич и спросил: - А где мальчики?
– Это какее-такее?
– Лужины, - пояснил Флич. - Павел и Петя.
Сторож глянул на Флича озадаченно.
– Вот-те… Вместе ж уехали!
– Да… Но они же сбежали обратно в город. Они должны быть здесь.
– Не видел, - задумчиво покачал головой старик.
– Странно. Может быть, они спят у себя в вагончике? Филимоныч, голубчик, пойдемте посмотрим.
Сторож молча поднялся, накинул на калитку крючок и пошел к цирку, постукивая деревянной ногой. Взволнованный Флич шел рядом, дергал головой, озираясь. Ни одной вещи не валялось на площадке. На вагончиках висели замки. Служебные ворота тоже на запоре. Словно в цирке выходной. А завтра с утра заснуют по цирковой улице артисты, униформисты, осветители и прочий трудовой люд, готовясь к представлению.
Флич остановился, сжалось сердце.
– У меня порядок. Имущество, оно казенное… - сказал сторож, постучав клюкой по стенке желтого вагончика Лужиных. - Нету тут твоих святых, Петра и Павла.
Они вошли под купол цирка. Вокруг большого серого пятна манежа толпились темные скамейки для зрителей.
– Петя… Павлик… - тихо позвал Флич.
– Нету. Я б увидал. У меня дальнозоркость, - сказал Филимоныч.
– Может, спят где? - Флич не хотел расставаться с надеждой.
Они обошли цирк. Заглянули под козлы, на которые был настелен пол. Зашли в конюшню. В осиротелых стойлах дрались воробьи.
Потом снова вышли к вагончикам, сощурились: солнце ударило в глаза.
– Теперь куда?… - участливо спросил Филимоныч.
– Не знаю.
Флич и в самом деле не знал. Идти было некуда. В это время на улице раздался треск мотоциклов.
– Что это? - спросил Флич.
– Видать, германец пожаловал, - нахмурился Филимоныч. - Идем на пост, - старик одернул пиджак с крестами и зашагал ко входу. И деревянная нога его и клюка стучали решительно и грозно.
Флич побрел следом, даже себе не признаваясь, что он попросту боится остаться один.
Старик уселся на свою табуретку. Флич встал рядом.
Немцы ехали на мотоциклах медленно, выставив в стороны черные дула автоматов. Едко запахло бензином.
За мотоциклистами показались пешие. Они шли двумя редкими цепочками, по обеим сторонам улицы, прижимаясь к домам, заглядывая в подворотни и подъезды.
От ближайшей цепочки отделились двое, подошли к ограде.
Филимоныч встал, откинул крючок, открыл калитку, словно приглашая автоматчиков войти.
Немцы осмотрели внимательно старика с клюкой и другого, в мятой, несвежей рубашке, горбоносого.
Один солдат что-то сказал товарищу. Флич уловил только одно знакомое слово: "циркус". Оба засмеялись и побежали занимать свое место в цепочке.
Где-то грохнули одиночные выстрелы, прострекотал коротко автомат.
– Закроем хозяйство. Пойдем. От греха подальше, - сказал Филимоныч.
– Куда? - сокрушенно спросил Флич.
– Ко мне пойдем. В тесноте, да не в обиде. Вещи-то твои где?
– В Москву поехали.
– И то ладно… Немчура-то не на век. Немчуру побьют. А вещи отымут - не вернешь!…
Филимоныч повесил на калитку большой замок и повел Флича переулками.
Так и поселился Флич у старика. Кое-что из оставшихся в вагончике вещей перетащили домой. Филимоныч наводил справки, расспрашивал знакомых: не видал ли кто Павлика и Петю? Но никто мальчиков не видел.
Флич старался выходить на улицу как можно реже, потому что город был оклеен строгими приказами: регистрировали и переселяли в гетто евреев, регистрировали мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, регистрировали женщин того же возраста. Ввели комендантский час. За уклонение от регистрации - расстрел. За хранение оружия - расстрел. За укрытие коммунистов и евреев - расстрел.
Филимоныч упорно сторожил цирк. Жалованья ему никто не платил, и он решил пойти в горсовет, или как он там нынче называется, к начальству. Где это видано, чтобы служивому не платили!
Городская управа занимала часть бывшего здания горсовета. В другой его части располагалась немецкая комендатура. Туда не пускали. Там стояли автоматчики. И внизу, у общего входа, стояли автоматчики. Но эти вроде для виду. Внешняя охрана. Эти никого не задерживали, только оглядывали каждого входящего. Оглядели и Филимоныча. Но он на осмотр не обратил внимания и, расправив усы, храбро вошел в двери.
В вестибюле у столика сидел цивильный с белой повязкой на рукаве, спросил:
– Куда, дед?
– Ты мне дорогу не закудыкивай, - сердито сказал Филимоныч. - К председателю я.
Цивильный осклабился:
– Эвон, вспомнил! Председатели кончились.
– Это я понимаю, - согласился Филимоныч. - Как же теперь его чин?
– Господин бургомистр.
– Бургомистр так бургомистр, - миролюбиво согласился Филимоныч. - Имя-то хоть у него есть?
– Господин Прешинский.
– Прешинский… - Филимоныч посмотрел на потолок, пошевелил губами, не то вспоминая, не то стараясь запомнить. - Стало быть, я к господину Прешинскому.
– По какому ж делу?
– По службе. Насчет жалованья.
– Насчет жалованья, тогда в финансовый отдел.
– В финансовый так в финансовый, - опять согласился Филимоныч.
В коридоре, возле нужной двери, сидели две молчаливые личности. Одного Филимоныч сразу узнал: заведующий мастерской, той, что в их доме, в подвале.
Другой незнакомый.
– Здравия желаю, - вежливо поздоровался Филимоныч. Оба молча кивнули.
– Живая очередь? - поинтересовался старик.
Ему не ответили. Он сел на стул и стал ждать. Спешить было некуда.
Долго дверь не открывалась. За ней смутно слышались голоса, слов не разобрать. Потом в сопровождении лысого мужчины вышла женщина, шурша шелком платья. Филимоныч оторопел. Это была артистка Лужина.
Она шла по коридору ни на кого не глядя и так гордо держала голову, что казалась выше ростом.
На какое-то мгновение Филимоныч усомнился: она ли? Да нет, она! Точно она! Провалиться!…
Мужчина шел рядом и немножко отставая, склоняя голову, словно старался посветить ей лысиной.
В вестибюле Лужина остановилась, повернулась к мужчине, тот поклонился, произнес басом:
– Заходите, дорогая фрау, как появится надобность. Всегда к вашим услугам.
– Благодарю, герр Рюшин. Вы ошень любезный. Ауфвидерзеен. - Она кивнула и исчезла.
А лысый повернул назад и шел к своему кабинету, сохраняя на лице улыбку, словно ее приклеили. Открыл дверь и произнес:
– Прошу следующего, господа.
Заведующий мастерской поднялся и, одернув пиджак, скрылся за дверью вслед за лысым.
– Я - за вами. Я сейчас… - обратился Филимоныч к оставшемуся мужчине и торопливо застучал деревяшкой по коридору, через вестибюль, на улицу. Очень хотелось посмотреть, куда пошла артистка Лужина?
Но на улице Лужиной не было. Странно. Не крылья ж у нее!
Он постоял немного, почесал в затылке и вернулся в городскую управу. Ждать своей очереди.
Гертруда Иоганновна не выходила на улицу, поэтому Филимоныч и не смог проследить, куда она направится. Предъявив часовому пропуск, она поднялась на третий этаж немецкой комендатуры, где размещалось представительство рейхскомиссариата "Остланд".
Она остановилась перед дверью, к которой была прибита белая картонная табличка с надписью острым готическим шрифтом: "ДОКТОР ДЕР РЕХТЕ
[1]ЭРИХ-ИОГАНН ДОППЕЛЬ". Остановилась на мгновение, чтобы собраться, сосредоточиться. Так она останавливалась перед выходом на манеж.
Постучала.
Хриплый голос за дверью произнес:
– Войдите.
Гертруда Иоганновна вошла в тесную комнату, где, кроме стульев у стены, сейфа и письменного стола с двумя телефонами, ничего не было.
– Здравствуйте, Отто, - сказала она приветливо.
Сидевший за столом немолодой унтер-офицер с черными бухгалтерскими нарукавниками встал.
– Здравствуйте, фрау Копф. Шеф занят. Придется обождать. Присаживайтесь.
– Если я вам не помешаю.
– О, нисколько! - Отто сел, застучал по клавишам задребезжавшей пишущей машинки, посматривая на бумагу, лежащую перед ним.
Он работал молча, словно в комнате никого не было.
Гертруда Иоганновна смотрела на стену прямо перед собой. Низ стены был выкрашен коричневой масляной краской, а верх свежевыбелен, без единого пятнышка, глазу не за что зацепиться.
Когда ее впервые привели сюда, стены были обшарпаны, на них виднелись квадратные белые пятна, видимо раньше висели какие-то диаграммы или плакаты.
Накануне ее допрашивал офицер в кабинете начальника тюрьмы. У офицера были тонкие светлые усики и сонные навыкате глаза. Он то и дело вытирал ладони носовым платком.
Она сказала правду. Все, как было на самом деле. Она немка, родом из Берлина. В двадцать шестом году приехала на гастроли. Полюбила. Вышла замуж. Детей двое, эвакуированы. Куда, она не знает. Муж мобилизован в Красную Армию. А ее вот арестовали. Счастье еще, что пришли соотечественники. Могли и расстрелять. Хотя она была лояльна к Советской власти.
Офицер усмехнулся, усики его перекосились.
– Вот видите, фрау Лужина, к чему приводит безрассудная любовь. Истинная немка должна прежде всего любить фюрера и Германию.
– Ах, господин офицер, - вздохнула она. - В двадцать шестом еще не было фюрера. А я была девчонкой.
Ее увели обратно в камеру.
Потом уводили на допрос соседок. Старуха и Олена не возвратились.
Она сидела на нарах, безучастная ко всему, словно мертвая. Это внешне. Она ждала. Она понимала, что жизнь ее сейчас зависит от малости: одно неосторожное слово, взгляд - и фашисты насторожатся.
Потом ее вывели из тюрьмы. Желтое солнце уходило за крыши, небо было зеленоватым, неподвижная листва деревьев казалась нарисованной. Пахло пылью, полем. Она остановилась вдохнуть вольного воздуха. Солдат подтолкнул ее в спину.
Ей помогли забраться в крытый кузов машины. Щелкнула дверь. Стало черно, ни лучика не проникало вовнутрь. "Как в могиле", - подумала она и заплакала.
Машина дернулась.
Она протянула руки, чтобы не упасть, ударилась о стенку и опустилась прямо на пол.
Никогда, никогда она не забудет этих минут в кромешной тьме, ужаса, который охватил ее. Казалось, что волосы на голове шевелятся. Сердце сжалось в такой крохотный комочек, что в груди образовалась пустота. И туда, в эту пустоту ворвалась окружающая ее тьма. Она хотела крикнуть и не могла. Голос пропал.
Потом машина остановилась. Открылась дверь. В кузов влился вечерний розовый свет. Солдат приказал выходить. А она не могла, ноги не слушались, она продолжала сидеть на полу, возле скамейки, прижимая руки к груди.
Солдат посмотрел на нее и засмеялся, заржал громко, заливисто. Она поняла, что он смеется над ней, над ее беспомощностью, над одеревеневшими ее руками и ногами. Ему весело, жеребцу!
Смех словно ударил ее, расколдовал. Она снова ощутила свои руки и ноги, поднялась, легко спрыгнула на землю. Она бы ударила солдата, такая в ней появилась злость, но кто-то тронул ее за плечо.
– Не сердитесь, фрау Лужина, к сожалению, в моем распоряжении нет другого транспорта.
Она увидела рядом того самого офицера, который допрашивал ее в тюрьме. Он улыбался, и усики его растянулись над губой тонкой ехидной полоской.
Надо было что-то ответить, но голос еще не слушался.
– Прошу, - офицер широким жестом указал на двери, возле которых деревянно стояли два автоматчика.
Она пригладила ладонями юбку и поправила волосы. Подумала: "Это только начало. А надо пройти через все. Ради мальчиков, ради Ивана, ради земли, на которой я была счастлива…"
– Они дали вам кредиты?
– Что?… Простите, Отто, я задумалась. Вы что-то спросили?
– Я спросил, фрау Копф, открыли ли вам кредиты?
– Разумеется, - Гертруда Иоганновна улыбнулась. - В конце концов все здесь теперь наше.
– Русские этого никак не могут усвоить, - сказал Отто. - Ночью на станции снова сожгли три вагона хлеба. То, что осталось, абсолютно непригодно для отправки.
– Вам попадет? - сочувственно спросила Гертруда Иоганновна.
– Мне? - Отто пожал плечами. - Мое дело бумажное: планы да сводки. А господин доктор расстроен. Бои идут у самой Москвы. Неделя-другая и - конец. Солдат нужно кормить. А русские жгут хлеб, угоняют, прячут скот, все портят, все ломают. - Он поморщился недовольно. - В конце концов наши солдаты проливают кровь за их свободу. Странный народ эти русские. Не понимают простых вещей.
Отто снова занялся своими бумагами. А Гертруда Иоганновна подумала: "Как же их обрабатывали, этих Отто, если они видят черное белым?"
…Как сказал доктор Доппель при их первом разговоре?
"Вы - немка. Вы принадлежите к великой нации. Мы пришли на эту землю навечно, чтобы построить здесь новую жизнь без Советов, без коммунистов. Это - историческая миссия немецкого народа. А что может быть прекраснее для немецкой женщины, чем сознание, что и она, вместе с фюрером, творит историю?"
Он говорил долго и красиво, круглыми гладкими фразами, пересыпал речь латинскими изречениями. Она покорно слушала, изредка кивая. Порой ей казалось, что кто-то сидит в нем внутри и читает заранее приготовленную речь, а доктор Доппель только открывает рот. Она слышала, что была в древности статуя-оракул. В каком-то храме. Внутрь садился жрец и прорицал.
Возле стола в кресле сидел, развалясь, привезший ее офицер и, полуприкрыв глаза, тоже слушал. А когда доктор кончил говорить, несколько раз хлопнул в ладоши. И доктор склонил голову, благодаря публику за аплодисменты.
Потом уже она узнала, что Доппель был адвокатом и с успехом защищал проштрафившихся нацистов. Его заметили, его отличили, он завязал большие связи в Берлине. И здесь, в оккупированном "пространстве", с ним считались и даже немного побаивались.
Ее поселили в номере той самой гостиницы, где они жили во время гастролей. Только на втором этаже. Номер был небольшой, но с умывальником и телефоном. Какой-то солдат принес ее чемодан. Вещи были перерыты, помяты, но ничего не пропало.
Доктор Доппель позвонил по телефону, справился, как она устроилась. Унтер-офицер Отто Харке принес ей в гостиницу новенький немецкий паспорт на ее девичье имя. Она снова стала Гертрудой Копф. Еще он принес пропуск в комендатуру, деньги и бутылку французского коньяку. Сказал, что доктор Доппель велел отдыхать и набираться сил.
Она угостила унтер-офицера коньяком, поговорили о том о сем, и Отто ушел.
Неделю ее никто не тревожил. Трижды в день она спускалась в ресторан. Садилась за один и тот же столик в углу. Кормили неважно, на кухне орудовал повар-солдат. В ресторане было полно офицеров, они пялили на нее глаза, кое-кто пытался заговорить, но у нее было такое каменно-отчужденное лицо, такой надменно-независимый вид, что смельчаки быстро сникали и, вежливо поклонившись, отходили.
 Как-то она услышала несколько фраз, произнесенных вполголоса:
Как-то она услышала несколько фраз, произнесенных вполголоса:
– Кто эта женщина?
– Кажется, работает у Доппеля. Рейхскомиссариат "Остланд".
Что такое рейхскомиссариат "Остланд", она представления не имела. Но поняла, что учреждение Доппеля солидное.
На улицу она выходила редко, ранним утром или в сумерки. Шла привычной дорогой к цирку. Не доходя до ограды, останавливалась, смотрела сквозь листву деревьев на выгоревший под солнцем такой знакомый купол. Несколько раз видела сидящего на табурете одноногого сторожа. Подойти бы, заговорить!…
Город, будто больной, выходил из шокового состояния. Появились прохожие. С утра у булочных выстраивались длинные очереди, старики и женщины молчаливо жались к стенам, часами ждали, когда привезут хлеб. А привозили раз в день, в неопределенное время, и хлеба не хватало на всех.
Гертруда Иоганновна медленно шла обратно в гостиницу, ни на кого не глядя, но все подмечая.
Однажды на улице к ней подошел невзрачный мужчина в сером полосатом пиджаке и кепке блином, зыркнул взглядом по сторонам и сказал тихо:
– Товарищ Лужина, вас ждут сегодня на рынке в час дня.
И ушел.
Гертруда Иоганновна растерянно посмотрела ему вслед, поднялась в свой номер и минут пять сидела в кресле, опустив руки на колени.
Кто ждет? Может быть, дети? Может быть, весточка от Ивана? Или ее проверяют? Ведь Алексей Павлович предупреждал.
Идти или не идти? Как поступить?
Она долго смотрела на телефонный аппарат, словно в нем прятался ответ. Потом решительно сняла трубку и позвонила Доппелю. Отто ответил, что господина доктора нет на месте. Тогда она спросила, как позвонить штурмбанфюреру Гравесу, тому самому, с тонкими усиками.
– Что случилось? - спросил Отто.
– Ничего. Личное дело. Может быть, вы попросите его позвонить мне. Только немедленно.
– Хорошо.
Она сидела и смотрела на телефон, как завороженная, а когда он зазвонил, вздрогнула от неожиданности.
– Здравствуйте, фрау Копф, мне передали, что я вам нужен.
– О, господин штурмбанфюрер! У меня, кажется, начинаются приключения. Только что на улице ко мне подошел какой-то тип. Назвал меня "товарищ Лужина" и сказал, что меня ждут на рынке в час дня.
– О-о… - протянул Гравес. - Вы его знаете?
– Нет.
– И что же?
– Я думала, это вас заинтересует.
– Любопытно. Вы пойдете?
– Представления не имею, кто меня может ждать. Если это кто-нибудь из советских…
– Да-да, я слушаю…
– Может быть, меня заманивают, чтобы убить?
– За что?
– А за что они меня посадили в тюрьму?
Штурмбанфюрер подышал в трубку.
– Хорошо. Вы сходите на рынок. Мои люди за вами присмотрят. Не беспокойтесь. Служба имперской безопасности всегда начеку.
– Хорошо, господин Гравес.
Она пошла. На рынке было немного народу, не то что в мирное время. Продавали старые вещи, махорку, кусочки сахара, зажигалки.
Немецкие солдаты, горланя, выменивали сигареты на побрякушки, искали самогон.
Она несколько раз обошла рынок, присматриваясь, но не увидела ни одного знакомого лица, и никто к ней не подошел. Значит, проверяли… Значит, позвонив штурмбанфюреру, она поступила правильно.
…Дверь в кабинет Доппеля открылась. Отто вскочил ивытянулся. Через комнату прошел незнакомый офицер, мельком глянул на Гертруду Иоганновну. Потом в дверях появился Доппель.
– Гертруда, рад вас видеть! Проходите, садитесь.
Каждый раз кабинет Доппеля вызывал у нее воспоминание о русской бане у свекра в Березове. Так же влажно и душно.
На подоконниках, на маленьких столиках у стен и даже посередине комнаты стояли в глиняных горшочках и горшках множество кактусов. Зеленые и голубоватые, гладкие и шершавые, даже полосатые, покрытые множеством разнообразных колючек. И каждый горшочек аккуратно обернут белой витиевато вырезанной бумажной салфеткой. Их вырезал сам Доппель. И тонкошеей лейкой орудовал он сам. Отто каждый вечер только приносил воду, чтобы она отстоялась. Непонятно, кто больше не любил открытых окон, сам Доппель или его кактусы, только окна были всегда закрыты и в кабинете стояла влажная духота.
– Здравствуйте, господин доктор.
– Боже, как официально! Мы же с вами договорились, Гертруда. Итак, каковы наши успехи?
– Все оформлено. Гостиница вместе с рестораном передана нам в аренду на десять лет.
– Вам… - поправил Доппель.
– Но, Эрих!…
– Фирма "Фрау Копф и К°". Так вот я - всего-навсего "К°". - Он засмеялся. На одутловатом, когда-то красивом лице у глаз и губ собрались морщинки. - Дела наши на фронте идут великолепно. Не сегодня-завтра падет Ленинград. Два шага до Москвы. Вы обратили внимание на офицера, который вышел от меня?
– Нет.
– Напрасно. Это мой старый друг. Через несколько дней о нем заговорит мир! Он командует спецгруппой, которая выполнит особое поручение фюрера, взорвет Кремль!
У Гертруды Иоганновны перехватило дыхание. Она представила себе такую знакомую Спасскую башню падающей в туче розовой пыли, как стена дома напротив гостиницы во время первой бомбежки. С трудом сдержав крик, она выдавила из себя хриплое:
– Зачем?
– Все, что напоминает Восток, должно быть уничтожено. Мы построим новую жизнь на чистой земле! Но это будет завтра. А сегодня нашим офицерам нужен хороший уютный отдых, приличный стол, доступные развлечения. Надеюсь, ваши добрые, женские руки…
Над полками на стене висел портрет Ленина, вырезанный из какого-то журнала, но тоже в аккуратной деревянной рамке.
Дверь тихонько скрипнула. В комнату заглянул Пантелей Романович.
– Встали?
– Пантелей Романович, - начал было Павел, но старик сердито нахмурился. - Дедушка, Киню надо вывести.
– В сад выпусти. Не сбежит, чай… - Он подошел к полкам. - Это и есть мои сыны. Ваш родитель. Петя пойдет со мной на речку. За водой.
Они втроем вышли в сад. Киндер поднял ножку возле угла дома. Пантелей Романович поморщился, но ничего не сказал, загремел ведрами. И Петр взял ведро и пошел следом за стариком. А Павел остался на крылечке.
От забора к реке вела тропка. Впереди висела белая мгла. Она чуть приподнялась над водой. Вода была темной и тихо струилась.
Пантелей Романович хотел было зачерпнуть ведром, но какой-то предмет, плывший по реке, привлек его внимание. Он разглядел труп немца в мышином мундире. Река тихонько покачивала его.
Пантелей Романович плюнул, подхватил с земли пустые ведра и пошел обратно. Петр двинулся за ним и все оглядывался, словно немец мог вылезти из реки и зашагать следом.
– Запоганили реку, - сердито сказал Пантелей Романович. - До колонки дойду. А вы - марш в комнаты. И пса…
Братья послушно ушли в дом, позвав Киндера, обнюхивавшего углы сада.
А в это время на берегу появились парнишка с тощим рюкзаком за спиной и девочка с санитарной сумкой.
Если бы Петр и Павел выглянули в окошко, они бы узнали Ржавого и Злату. А может быть, и не узнали бы, потому что туман только начал отрываться от воды, солнце еще не пробилось сквозь него и видимость была плохая.
Василь и Злата торопливо разделись, положили одежду вместе с рюкзаком и сумкой на доску, найденную на берегу, бесшумно вошли в воду и поплыли к лесному берегу, толкая доску перед собой.
Город притаился и ждал.
Огненные столбы сникли, опустились, расползлись над городом едким дымом, от которого захотелось бы чихнуть, если бы кто-нибудь вышел на улицу. Но никто не выходил. Жители попрятались дома, выглядывали из-за штор и занавесок, просматривая пустые, мертвые улицы.
А гитлеровцы не торопились входить в город. Они знали, что город в кольце. Но боялись. Битые, они ждали подвоха. И только когда рассеялся над рекой туман и четко стал виден городской берег, они поняли, что окопы пусты, что полк Красной Армии, который они столько раз уничтожали, снова ускользнул.
Тогда в реку, ниже моста, осторожно сполз фашистский танк. И завяз на середине, уйдя в тину, в воду по самую башню.
Часть третья. РАЗЛУКИ И ВСТРЕЧИ.
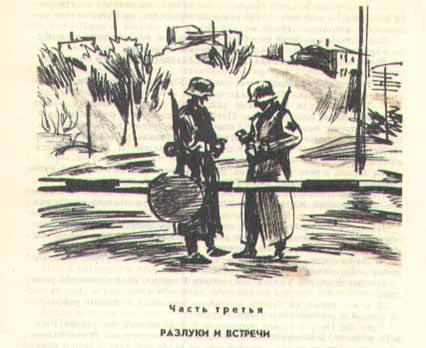
1
Осень подкрадывалась к городу незаметно, словно и ей грозила опасность в опустевших унылых улицах, и ее пугали шаги патрулей, и для нее воздвигали на площади, недалеко от потрепанного брезентового цирка, виселицы из новеньких бревен и аккуратно оструганных досок.
Мелкие капли дождя извилистыми струйками текли по оконному стеклу, шептались на ржавом подоконнике.
Фличу и в окошко смотреть не надо, чтобы узнать, какая на дворе погода, загодя заломило поясницу. Да и смотреть не на что, из окна ничего, кроме крыш, не видно. Комната под самым чердаком четырехэтажного дома, того самого, где в подвале мастерская по ремонту замков, примусов и велосипедов.
Здесь Флич живет уже третий месяц вместе с одноногим сторожем из цирка.
…Флич вошел в город с беженцами, не успевшими уйти по шоссе, которое перерезали немцы. Беженцы торопливо исчезали в переулках и дворах, словно испарялись под солнцем. А он брел по городу куда глаза глядят. Где искать мальчиков, куда они могли направиться, если добрались до города, он представления не имел. И не знал, что в то же время с другой стороны в город входили немцы.
Флич решил зайти в цирк. Ведь и мальчики могли найти приют в цирке! И потом, куда-то надо идти. Пугаясь тишины и настороженности улиц, Флич зашагал к центру. Иногда ему начинало казаться, что он в городе один, совершенно один. Он озирался затравленно и ускорял шаг.
Как же он обрадовался, когда увидел возле знакомого входа живую душу, старика сторожа! Тот сидел на табуретке в привычной позе, опираясь на крепкую клюку, и солнце играло на его солдатских "Георгиях".
Флич замахал ему рукой еще издали и почти побежал.
– Здравствуйте!
Сторож глянул на него из-под козырька красноармейской фуражки и, ничуть не удивившись, буркнул:
– Здравия желаю!
– Здравствуйте, дорогой друг, - с жаром повторил Флич и неловко пожал вместо его руки клюку. Появилось ощущение, что раз сторож на своем месте, значит, и все остальное на месте. Павел и Петр, верно, в своем вагончике, а под вагончиком - Киндер, он любит поваляться в тени.
Флич смотрел по сторонам посветлевшими глазами, все еще тряся дружелюбно клюку сторожа. И вдруг сообразил, что даже не знает, как старика зовут. Столько раз здоровался и прощался!… Нехорошо.
– Простите, как ваше имя, отчество?
– Филимоныч.
– Просто Филимоныч?
– Куды проще.
– Ну, хорошо… Филимоныч, - повторил Флич и спросил: - А где мальчики?
– Это какее-такее?
– Лужины, - пояснил Флич. - Павел и Петя.
Сторож глянул на Флича озадаченно.
– Вот-те… Вместе ж уехали!
– Да… Но они же сбежали обратно в город. Они должны быть здесь.
– Не видел, - задумчиво покачал головой старик.
– Странно. Может быть, они спят у себя в вагончике? Филимоныч, голубчик, пойдемте посмотрим.
Сторож молча поднялся, накинул на калитку крючок и пошел к цирку, постукивая деревянной ногой. Взволнованный Флич шел рядом, дергал головой, озираясь. Ни одной вещи не валялось на площадке. На вагончиках висели замки. Служебные ворота тоже на запоре. Словно в цирке выходной. А завтра с утра заснуют по цирковой улице артисты, униформисты, осветители и прочий трудовой люд, готовясь к представлению.
Флич остановился, сжалось сердце.
– У меня порядок. Имущество, оно казенное… - сказал сторож, постучав клюкой по стенке желтого вагончика Лужиных. - Нету тут твоих святых, Петра и Павла.
Они вошли под купол цирка. Вокруг большого серого пятна манежа толпились темные скамейки для зрителей.
– Петя… Павлик… - тихо позвал Флич.
– Нету. Я б увидал. У меня дальнозоркость, - сказал Филимоныч.
– Может, спят где? - Флич не хотел расставаться с надеждой.
Они обошли цирк. Заглянули под козлы, на которые был настелен пол. Зашли в конюшню. В осиротелых стойлах дрались воробьи.
Потом снова вышли к вагончикам, сощурились: солнце ударило в глаза.
– Теперь куда?… - участливо спросил Филимоныч.
– Не знаю.
Флич и в самом деле не знал. Идти было некуда. В это время на улице раздался треск мотоциклов.
– Что это? - спросил Флич.
– Видать, германец пожаловал, - нахмурился Филимоныч. - Идем на пост, - старик одернул пиджак с крестами и зашагал ко входу. И деревянная нога его и клюка стучали решительно и грозно.
Флич побрел следом, даже себе не признаваясь, что он попросту боится остаться один.
Старик уселся на свою табуретку. Флич встал рядом.
Немцы ехали на мотоциклах медленно, выставив в стороны черные дула автоматов. Едко запахло бензином.
За мотоциклистами показались пешие. Они шли двумя редкими цепочками, по обеим сторонам улицы, прижимаясь к домам, заглядывая в подворотни и подъезды.
От ближайшей цепочки отделились двое, подошли к ограде.
Филимоныч встал, откинул крючок, открыл калитку, словно приглашая автоматчиков войти.
Немцы осмотрели внимательно старика с клюкой и другого, в мятой, несвежей рубашке, горбоносого.
Один солдат что-то сказал товарищу. Флич уловил только одно знакомое слово: "циркус". Оба засмеялись и побежали занимать свое место в цепочке.
Где-то грохнули одиночные выстрелы, прострекотал коротко автомат.
– Закроем хозяйство. Пойдем. От греха подальше, - сказал Филимоныч.
– Куда? - сокрушенно спросил Флич.
– Ко мне пойдем. В тесноте, да не в обиде. Вещи-то твои где?
– В Москву поехали.
– И то ладно… Немчура-то не на век. Немчуру побьют. А вещи отымут - не вернешь!…
Филимоныч повесил на калитку большой замок и повел Флича переулками.
Так и поселился Флич у старика. Кое-что из оставшихся в вагончике вещей перетащили домой. Филимоныч наводил справки, расспрашивал знакомых: не видал ли кто Павлика и Петю? Но никто мальчиков не видел.
Флич старался выходить на улицу как можно реже, потому что город был оклеен строгими приказами: регистрировали и переселяли в гетто евреев, регистрировали мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, регистрировали женщин того же возраста. Ввели комендантский час. За уклонение от регистрации - расстрел. За хранение оружия - расстрел. За укрытие коммунистов и евреев - расстрел.
Филимоныч упорно сторожил цирк. Жалованья ему никто не платил, и он решил пойти в горсовет, или как он там нынче называется, к начальству. Где это видано, чтобы служивому не платили!
Городская управа занимала часть бывшего здания горсовета. В другой его части располагалась немецкая комендатура. Туда не пускали. Там стояли автоматчики. И внизу, у общего входа, стояли автоматчики. Но эти вроде для виду. Внешняя охрана. Эти никого не задерживали, только оглядывали каждого входящего. Оглядели и Филимоныча. Но он на осмотр не обратил внимания и, расправив усы, храбро вошел в двери.
В вестибюле у столика сидел цивильный с белой повязкой на рукаве, спросил:
– Куда, дед?
– Ты мне дорогу не закудыкивай, - сердито сказал Филимоныч. - К председателю я.
Цивильный осклабился:
– Эвон, вспомнил! Председатели кончились.
– Это я понимаю, - согласился Филимоныч. - Как же теперь его чин?
– Господин бургомистр.
– Бургомистр так бургомистр, - миролюбиво согласился Филимоныч. - Имя-то хоть у него есть?
– Господин Прешинский.
– Прешинский… - Филимоныч посмотрел на потолок, пошевелил губами, не то вспоминая, не то стараясь запомнить. - Стало быть, я к господину Прешинскому.
– По какому ж делу?
– По службе. Насчет жалованья.
– Насчет жалованья, тогда в финансовый отдел.
– В финансовый так в финансовый, - опять согласился Филимоныч.
В коридоре, возле нужной двери, сидели две молчаливые личности. Одного Филимоныч сразу узнал: заведующий мастерской, той, что в их доме, в подвале.
Другой незнакомый.
– Здравия желаю, - вежливо поздоровался Филимоныч. Оба молча кивнули.
– Живая очередь? - поинтересовался старик.
Ему не ответили. Он сел на стул и стал ждать. Спешить было некуда.
Долго дверь не открывалась. За ней смутно слышались голоса, слов не разобрать. Потом в сопровождении лысого мужчины вышла женщина, шурша шелком платья. Филимоныч оторопел. Это была артистка Лужина.
Она шла по коридору ни на кого не глядя и так гордо держала голову, что казалась выше ростом.
На какое-то мгновение Филимоныч усомнился: она ли? Да нет, она! Точно она! Провалиться!…
Мужчина шел рядом и немножко отставая, склоняя голову, словно старался посветить ей лысиной.
В вестибюле Лужина остановилась, повернулась к мужчине, тот поклонился, произнес басом:
– Заходите, дорогая фрау, как появится надобность. Всегда к вашим услугам.
– Благодарю, герр Рюшин. Вы ошень любезный. Ауфвидерзеен. - Она кивнула и исчезла.
А лысый повернул назад и шел к своему кабинету, сохраняя на лице улыбку, словно ее приклеили. Открыл дверь и произнес:
– Прошу следующего, господа.
Заведующий мастерской поднялся и, одернув пиджак, скрылся за дверью вслед за лысым.
– Я - за вами. Я сейчас… - обратился Филимоныч к оставшемуся мужчине и торопливо застучал деревяшкой по коридору, через вестибюль, на улицу. Очень хотелось посмотреть, куда пошла артистка Лужина?
Но на улице Лужиной не было. Странно. Не крылья ж у нее!
Он постоял немного, почесал в затылке и вернулся в городскую управу. Ждать своей очереди.
2
Гертруда Иоганновна не выходила на улицу, поэтому Филимоныч и не смог проследить, куда она направится. Предъявив часовому пропуск, она поднялась на третий этаж немецкой комендатуры, где размещалось представительство рейхскомиссариата "Остланд".
Она остановилась перед дверью, к которой была прибита белая картонная табличка с надписью острым готическим шрифтом: "ДОКТОР ДЕР РЕХТЕ
[1]ЭРИХ-ИОГАНН ДОППЕЛЬ". Остановилась на мгновение, чтобы собраться, сосредоточиться. Так она останавливалась перед выходом на манеж.
Постучала.
Хриплый голос за дверью произнес:
– Войдите.
Гертруда Иоганновна вошла в тесную комнату, где, кроме стульев у стены, сейфа и письменного стола с двумя телефонами, ничего не было.
– Здравствуйте, Отто, - сказала она приветливо.
Сидевший за столом немолодой унтер-офицер с черными бухгалтерскими нарукавниками встал.
– Здравствуйте, фрау Копф. Шеф занят. Придется обождать. Присаживайтесь.
– Если я вам не помешаю.
– О, нисколько! - Отто сел, застучал по клавишам задребезжавшей пишущей машинки, посматривая на бумагу, лежащую перед ним.
Он работал молча, словно в комнате никого не было.
Гертруда Иоганновна смотрела на стену прямо перед собой. Низ стены был выкрашен коричневой масляной краской, а верх свежевыбелен, без единого пятнышка, глазу не за что зацепиться.
Когда ее впервые привели сюда, стены были обшарпаны, на них виднелись квадратные белые пятна, видимо раньше висели какие-то диаграммы или плакаты.
Накануне ее допрашивал офицер в кабинете начальника тюрьмы. У офицера были тонкие светлые усики и сонные навыкате глаза. Он то и дело вытирал ладони носовым платком.
Она сказала правду. Все, как было на самом деле. Она немка, родом из Берлина. В двадцать шестом году приехала на гастроли. Полюбила. Вышла замуж. Детей двое, эвакуированы. Куда, она не знает. Муж мобилизован в Красную Армию. А ее вот арестовали. Счастье еще, что пришли соотечественники. Могли и расстрелять. Хотя она была лояльна к Советской власти.
Офицер усмехнулся, усики его перекосились.
– Вот видите, фрау Лужина, к чему приводит безрассудная любовь. Истинная немка должна прежде всего любить фюрера и Германию.
– Ах, господин офицер, - вздохнула она. - В двадцать шестом еще не было фюрера. А я была девчонкой.
Ее увели обратно в камеру.
Потом уводили на допрос соседок. Старуха и Олена не возвратились.
Она сидела на нарах, безучастная ко всему, словно мертвая. Это внешне. Она ждала. Она понимала, что жизнь ее сейчас зависит от малости: одно неосторожное слово, взгляд - и фашисты насторожатся.
Потом ее вывели из тюрьмы. Желтое солнце уходило за крыши, небо было зеленоватым, неподвижная листва деревьев казалась нарисованной. Пахло пылью, полем. Она остановилась вдохнуть вольного воздуха. Солдат подтолкнул ее в спину.
Ей помогли забраться в крытый кузов машины. Щелкнула дверь. Стало черно, ни лучика не проникало вовнутрь. "Как в могиле", - подумала она и заплакала.
Машина дернулась.
Она протянула руки, чтобы не упасть, ударилась о стенку и опустилась прямо на пол.
Никогда, никогда она не забудет этих минут в кромешной тьме, ужаса, который охватил ее. Казалось, что волосы на голове шевелятся. Сердце сжалось в такой крохотный комочек, что в груди образовалась пустота. И туда, в эту пустоту ворвалась окружающая ее тьма. Она хотела крикнуть и не могла. Голос пропал.
Потом машина остановилась. Открылась дверь. В кузов влился вечерний розовый свет. Солдат приказал выходить. А она не могла, ноги не слушались, она продолжала сидеть на полу, возле скамейки, прижимая руки к груди.
Солдат посмотрел на нее и засмеялся, заржал громко, заливисто. Она поняла, что он смеется над ней, над ее беспомощностью, над одеревеневшими ее руками и ногами. Ему весело, жеребцу!
Смех словно ударил ее, расколдовал. Она снова ощутила свои руки и ноги, поднялась, легко спрыгнула на землю. Она бы ударила солдата, такая в ней появилась злость, но кто-то тронул ее за плечо.
– Не сердитесь, фрау Лужина, к сожалению, в моем распоряжении нет другого транспорта.
Она увидела рядом того самого офицера, который допрашивал ее в тюрьме. Он улыбался, и усики его растянулись над губой тонкой ехидной полоской.
Надо было что-то ответить, но голос еще не слушался.
– Прошу, - офицер широким жестом указал на двери, возле которых деревянно стояли два автоматчика.
Она пригладила ладонями юбку и поправила волосы. Подумала: "Это только начало. А надо пройти через все. Ради мальчиков, ради Ивана, ради земли, на которой я была счастлива…"
– Они дали вам кредиты?
– Что?… Простите, Отто, я задумалась. Вы что-то спросили?
– Я спросил, фрау Копф, открыли ли вам кредиты?
– Разумеется, - Гертруда Иоганновна улыбнулась. - В конце концов все здесь теперь наше.
– Русские этого никак не могут усвоить, - сказал Отто. - Ночью на станции снова сожгли три вагона хлеба. То, что осталось, абсолютно непригодно для отправки.
– Вам попадет? - сочувственно спросила Гертруда Иоганновна.
– Мне? - Отто пожал плечами. - Мое дело бумажное: планы да сводки. А господин доктор расстроен. Бои идут у самой Москвы. Неделя-другая и - конец. Солдат нужно кормить. А русские жгут хлеб, угоняют, прячут скот, все портят, все ломают. - Он поморщился недовольно. - В конце концов наши солдаты проливают кровь за их свободу. Странный народ эти русские. Не понимают простых вещей.
Отто снова занялся своими бумагами. А Гертруда Иоганновна подумала: "Как же их обрабатывали, этих Отто, если они видят черное белым?"
…Как сказал доктор Доппель при их первом разговоре?
"Вы - немка. Вы принадлежите к великой нации. Мы пришли на эту землю навечно, чтобы построить здесь новую жизнь без Советов, без коммунистов. Это - историческая миссия немецкого народа. А что может быть прекраснее для немецкой женщины, чем сознание, что и она, вместе с фюрером, творит историю?"
Он говорил долго и красиво, круглыми гладкими фразами, пересыпал речь латинскими изречениями. Она покорно слушала, изредка кивая. Порой ей казалось, что кто-то сидит в нем внутри и читает заранее приготовленную речь, а доктор Доппель только открывает рот. Она слышала, что была в древности статуя-оракул. В каком-то храме. Внутрь садился жрец и прорицал.
Возле стола в кресле сидел, развалясь, привезший ее офицер и, полуприкрыв глаза, тоже слушал. А когда доктор кончил говорить, несколько раз хлопнул в ладоши. И доктор склонил голову, благодаря публику за аплодисменты.
Потом уже она узнала, что Доппель был адвокатом и с успехом защищал проштрафившихся нацистов. Его заметили, его отличили, он завязал большие связи в Берлине. И здесь, в оккупированном "пространстве", с ним считались и даже немного побаивались.
Ее поселили в номере той самой гостиницы, где они жили во время гастролей. Только на втором этаже. Номер был небольшой, но с умывальником и телефоном. Какой-то солдат принес ее чемодан. Вещи были перерыты, помяты, но ничего не пропало.
Доктор Доппель позвонил по телефону, справился, как она устроилась. Унтер-офицер Отто Харке принес ей в гостиницу новенький немецкий паспорт на ее девичье имя. Она снова стала Гертрудой Копф. Еще он принес пропуск в комендатуру, деньги и бутылку французского коньяку. Сказал, что доктор Доппель велел отдыхать и набираться сил.
Она угостила унтер-офицера коньяком, поговорили о том о сем, и Отто ушел.
Неделю ее никто не тревожил. Трижды в день она спускалась в ресторан. Садилась за один и тот же столик в углу. Кормили неважно, на кухне орудовал повар-солдат. В ресторане было полно офицеров, они пялили на нее глаза, кое-кто пытался заговорить, но у нее было такое каменно-отчужденное лицо, такой надменно-независимый вид, что смельчаки быстро сникали и, вежливо поклонившись, отходили.

– Кто эта женщина?
– Кажется, работает у Доппеля. Рейхскомиссариат "Остланд".
Что такое рейхскомиссариат "Остланд", она представления не имела. Но поняла, что учреждение Доппеля солидное.
На улицу она выходила редко, ранним утром или в сумерки. Шла привычной дорогой к цирку. Не доходя до ограды, останавливалась, смотрела сквозь листву деревьев на выгоревший под солнцем такой знакомый купол. Несколько раз видела сидящего на табурете одноногого сторожа. Подойти бы, заговорить!…
Город, будто больной, выходил из шокового состояния. Появились прохожие. С утра у булочных выстраивались длинные очереди, старики и женщины молчаливо жались к стенам, часами ждали, когда привезут хлеб. А привозили раз в день, в неопределенное время, и хлеба не хватало на всех.
Гертруда Иоганновна медленно шла обратно в гостиницу, ни на кого не глядя, но все подмечая.
Однажды на улице к ней подошел невзрачный мужчина в сером полосатом пиджаке и кепке блином, зыркнул взглядом по сторонам и сказал тихо:
– Товарищ Лужина, вас ждут сегодня на рынке в час дня.
И ушел.
Гертруда Иоганновна растерянно посмотрела ему вслед, поднялась в свой номер и минут пять сидела в кресле, опустив руки на колени.
Кто ждет? Может быть, дети? Может быть, весточка от Ивана? Или ее проверяют? Ведь Алексей Павлович предупреждал.
Идти или не идти? Как поступить?
Она долго смотрела на телефонный аппарат, словно в нем прятался ответ. Потом решительно сняла трубку и позвонила Доппелю. Отто ответил, что господина доктора нет на месте. Тогда она спросила, как позвонить штурмбанфюреру Гравесу, тому самому, с тонкими усиками.
– Что случилось? - спросил Отто.
– Ничего. Личное дело. Может быть, вы попросите его позвонить мне. Только немедленно.
– Хорошо.
Она сидела и смотрела на телефон, как завороженная, а когда он зазвонил, вздрогнула от неожиданности.
– Здравствуйте, фрау Копф, мне передали, что я вам нужен.
– О, господин штурмбанфюрер! У меня, кажется, начинаются приключения. Только что на улице ко мне подошел какой-то тип. Назвал меня "товарищ Лужина" и сказал, что меня ждут на рынке в час дня.
– О-о… - протянул Гравес. - Вы его знаете?
– Нет.
– И что же?
– Я думала, это вас заинтересует.
– Любопытно. Вы пойдете?
– Представления не имею, кто меня может ждать. Если это кто-нибудь из советских…
– Да-да, я слушаю…
– Может быть, меня заманивают, чтобы убить?
– За что?
– А за что они меня посадили в тюрьму?
Штурмбанфюрер подышал в трубку.
– Хорошо. Вы сходите на рынок. Мои люди за вами присмотрят. Не беспокойтесь. Служба имперской безопасности всегда начеку.
– Хорошо, господин Гравес.
Она пошла. На рынке было немного народу, не то что в мирное время. Продавали старые вещи, махорку, кусочки сахара, зажигалки.
Немецкие солдаты, горланя, выменивали сигареты на побрякушки, искали самогон.
Она несколько раз обошла рынок, присматриваясь, но не увидела ни одного знакомого лица, и никто к ней не подошел. Значит, проверяли… Значит, позвонив штурмбанфюреру, она поступила правильно.
…Дверь в кабинет Доппеля открылась. Отто вскочил ивытянулся. Через комнату прошел незнакомый офицер, мельком глянул на Гертруду Иоганновну. Потом в дверях появился Доппель.
– Гертруда, рад вас видеть! Проходите, садитесь.
Каждый раз кабинет Доппеля вызывал у нее воспоминание о русской бане у свекра в Березове. Так же влажно и душно.
На подоконниках, на маленьких столиках у стен и даже посередине комнаты стояли в глиняных горшочках и горшках множество кактусов. Зеленые и голубоватые, гладкие и шершавые, даже полосатые, покрытые множеством разнообразных колючек. И каждый горшочек аккуратно обернут белой витиевато вырезанной бумажной салфеткой. Их вырезал сам Доппель. И тонкошеей лейкой орудовал он сам. Отто каждый вечер только приносил воду, чтобы она отстоялась. Непонятно, кто больше не любил открытых окон, сам Доппель или его кактусы, только окна были всегда закрыты и в кабинете стояла влажная духота.
– Здравствуйте, господин доктор.
– Боже, как официально! Мы же с вами договорились, Гертруда. Итак, каковы наши успехи?
– Все оформлено. Гостиница вместе с рестораном передана нам в аренду на десять лет.
– Вам… - поправил Доппель.
– Но, Эрих!…
– Фирма "Фрау Копф и К°". Так вот я - всего-навсего "К°". - Он засмеялся. На одутловатом, когда-то красивом лице у глаз и губ собрались морщинки. - Дела наши на фронте идут великолепно. Не сегодня-завтра падет Ленинград. Два шага до Москвы. Вы обратили внимание на офицера, который вышел от меня?
– Нет.
– Напрасно. Это мой старый друг. Через несколько дней о нем заговорит мир! Он командует спецгруппой, которая выполнит особое поручение фюрера, взорвет Кремль!
У Гертруды Иоганновны перехватило дыхание. Она представила себе такую знакомую Спасскую башню падающей в туче розовой пыли, как стена дома напротив гостиницы во время первой бомбежки. С трудом сдержав крик, она выдавила из себя хриплое:
– Зачем?
– Все, что напоминает Восток, должно быть уничтожено. Мы построим новую жизнь на чистой земле! Но это будет завтра. А сегодня нашим офицерам нужен хороший уютный отдых, приличный стол, доступные развлечения. Надеюсь, ваши добрые, женские руки…
