Страница:
– Говорят, они ночью не летают, - успокоил его Григорий Евсеевич и заторопил: - Быстрее, товарищи, быстрее. Уведут вагон. Как пить дать, уведут.
Моника растворилась, исчезла в темноте. Только слышались еще ее тяжелые шаги.
Потом, не зажигая фар, медленно, словно на ощупь отыскивая дорогу, двинулся грузовик.
И только он выехал за ворота, возвратилась Гертруда Иоганновна.
– Мама, ты где была? - спросил Павел.
– Нигде… В гостиницу заходила. Завязали шемодан?
– Завязали. Зверей уже отправили.
– Хорошо. Тогда идемте домой. Надо хорошо выспаться.
Гертруда Иоганновна крепко взяла сыновей за руки и не отпускала до самой гостиницы. Флич и еще несколько артистов шли следом. Не было только дяди Миши.
Город лежал во тьме, таился, прятался. Пустые улицы стали настороженно-гулкими. Прохожих не было. Только дважды встретились патрули.
В гостиничном коридоре горела одна-единственная желтоватая лампочка. Окна были плотно зашторены.
– Идите в комнату, малтшики, - сказала Гертруда Иоганновна. - Я скажу два слова с Флишем.
Лицо ее казалось постаревшим, глаза красные и припухшие.
– Ты что, плакала? - спросил Павел.
Гертруда Иоганновна не смогла солгать.
– Немношко. Совсем немношко. Вспомнила папу… Идите.
Братья ушли в свою комнату. Гертруда Иоганновна порывисто схватила Флича за руку.
– Флиш! Милый Флиш!
– Что-нибудь случилось, Гертруда?
– Нет-нет… Нитшего… Для ровного тшета нитшего…
Флич вглядывался в ее бледное лицо. Что-то в нем появилось незнакомое, отчужденное. И глаза блестели встревоженно.
– У тебя температура?
– Нет-нет… Никакой температура, Флиш!… У меня плохое предшуствие… Что-то должен… должно слушится.
– Нервы, - ласково произнес Флич.
– Да… Конешно… Флиш… Если слушится, посмотри за малтшиками. Ты - друг!…
– Не беспокойся, Гертруда. Они для меня все равно что мои дети.
– Да-да… Знаю… Это война страшный… На жизнь. Нельзя стоять на стороне. Верно?
– Это ты про Мишу? - помрачнел Флич. - Может, одумается…
– Да-да…
– В вагончике остался ночевать… Хм… Ну, будем спать?
– Да. Надо хорошо спать.
– Спокойной ночи, Гертруда.
– Спокойной ночи, Флиш.
Когда утром все собрались в цирке, дяди Миши в вагончике не оказалось. Не было и его вещей. Никто не видел, когда он ушел.
Сергей Сергеевич с униформистами заканчивали сборку телег. Вот что за колеса и доски вчера сгружали!…
Из конюшни вывели лошадей, поставили их в оглобли, надели хомуты. Лошади вздрагивали, топтались, задирали головы, испуганно фыркали. Никак не могли понять, чего от них хотят.
– Война, - пояснил лошадям Сергей Сергеевич. - Привыкайте. Может, еще и не к такому привыкать придется.
Григорий Евсеевич встревоженно посматривал на небо и подгонял всех:
– Быстрее, быстрее…
Торопливо погрузили вещи на три телеги. Привязали к задкам телег свободных лошадей.
– Гурий, последи, чтобы не клали лишнего. Что за люди! Долбишь, долбишь… - Григорий Евсеевич был взвинчен, раскален. Казалось, еще мгновение, еще капля - и он взорвется.
Неподалеку понуро стоял сторож, поблескивали на пиджаке "георгии".
– Вот что, дед, - сказал Сергей Сергеевич. - Что тебе тут приглянется - забирай. Вон сколько добра бросаем.
– Цены нет, - промолвил сторож, поглядев на огромный шатер шапито, на веселые вагончики, на разные непонятные вещи, разбросанные там и сям.
Из-за брезентового цирка появились трое военных с красными петлицами на гимнастерках: старший лейтенант и бойцы. Винтовки - с примкнутыми штыками. На военных никто не обратил внимания.
А они деловито подошли к телегам.
– Кто здесь гражданка Лужина?
– Я, - откликнулась Гертруда Иоганновна, бледнея.
– Вы арестованы, - сухо произнес старший лейтенант.
И все вокруг замерли. Голоса смолкли. Даже лошади перестали вздрагивать.
В полной тишине мерно ударили кованые подметки солдатских сапог по асфальту. Бойцы подошли к Гертруде Иоганновне и встали справа и слева.
– Где ваши вещи? - спросил старший лейтенант.
– Но позвольте!… - бросился к военным Григорий Евсеевич.
– Отойдите в сторону, гражданин, - в голосе старшего лейтенанта прозвучал металл.
Григорий Евсеевич замер, опустив руки.
– Мама! - крикнул Павел.
Киндер яростно залаял на военных.
– Где ваши вещи? - снова спросил старший лейтенант.
– На телега, - тихо ответила Гертруда Иоганновна.
– Возьмите.
Она шагнула к телеге, дрожащими руками взяла перевязанный веревкой чемодан.
– Идемте.
Гертруда Иоганновна посмотрела на сыновей и в отчаянии, хрипло крикнула:
– Малтшики!…
Сыновья бросились к ней, она обняла их, прижала к себе…
– Это недоразумений… Все будет хорошо… Слушайтесь Флиш!
Ей всегда было трудно говорить по-русски, когда она волновалась. Слова куда-то пропадали, перемешивались, и никак не попадало на язык нужное. И впервые с начала войны она перешла на немецкий.
– Вы только верьте мне, верьте. И все будет хорошо. Ведь не все же немцы - фашисты! Верьте мне. Верьте.
– Что она сказала? - резко спросил старший лейтенант.
Петр повернул к нему мокрое от слез лицо и сказал зло:
– Язык надо было в школе учить!
– Ну, ты… - старший лейтенант сдержался, скомандовал: - Вперед.
Гертруда Иоганновна отстранила от себя сыновей, подняла с земли тяжелый чемодан и пошла, прихрамывая. По бокам шагали бойцы. На штыки накалывалось солнце. Позади шел сердитый старший лейтенант. Гертруда Иоганновна обернулась, отыскивая кого-то взглядом. Флич понял, что она ищет его, и поднял руку.
Гертруду Иоганновну повели посередине улицы, на виду у прохожих. Ее узнавали, многие побывали на представлении цирка.
Какая-то женщина сказала громко:
– Шпионку ведут.
– А притворялась артисткой, - откликнулся бас.
И кто-то бросил в спину:
– У-у, гадина!…
Она ничего не слышала и ничего не видела. Перед глазами ее стояли сыновья, их перепуганные, заплаканные лица. Она растила мужчин. Так пусть же они будут мужчинами!
Пригородное шоссе было забито. Отчаянно гудели грузовики, пробивая себе дорогу. Громыхали телеги. Шли люди с детьми, узлами, чемоданами, катили детские коляски, переполненные скарбом, навьюченные велосипеды. Пыль не успевала садиться на землю, висела над дорогой.
А навстречу шли молчаливые красноармейцы, синим дымом чихали грузовики, груженные зелеными ящиками. На конной тяге гремели маленькие "сорокапятки" - противотанковые пушки.
Иногда в небе появлялся самолет, раздавалась протяжная команда: "Во-о-зду-ух!…"
И вся масса людей останавливалась, раскалывалась надвое и бросалась в придорожные канавы, в кусты, под деревья, вжималась в землю, чтобы уцелеть, выжить, подняться и идти дальше.
Цирковые лошади смирились с хомутами. Скрипели перегруженные телеги. Примолкли уставшие люди. Даже Киндер брел понуро, вывесив розовый язык и не обращая внимания на кошку, которую несла в корзинке какая-то худенькая девочка.
Брели по шоссе уже второй день. Ели всухомятку, никто не догадался прихватить посуду, в которой можно было бы варить пищу.
Тягостную историю с арестом Гертруды не то чтобы забыли, а не вспоминали. И от тоскливо-напряженных взглядов Павла и Петра уклонялись, чувствовали себя неловко, словно сами были в чем-то виноваты.
А братья примолкли, не откликались на шутку, не бегали вперегонки с Киндером: повзрослели в одночасье, раздавленные горем.
Флич не пытался их расшевелить. Он понимал, как им плохо, трудно сейчас. Какими они, должно быть, чувствуют себя одинокими, потерянными! Но был убежден, что время и возраст возьмут свое. Ведь они, в сущности, еще дети! А дети не грустят долго. Детское горе горько, да не глубоко. А время - великий лекарь.
Флич шел по обочине, возле скрипящей телеги, изредка поглядывал на молчаливых братьев и на ходу гонял на ладошке монету. По привычке.
Вечером свернули в лес. Распрягли лошадей, напоили в ручье и пустили пастись. Присматривать за ними Григорий Евсеевич назначил двух "дежурных конюхов". Он поддерживал во всем строгий порядок. Что ж с того, что цирк встал на колеса. Он - директор и за все в ответе!
Ночью жара спадала, но было тепло. Спали под соснами, на земле, подстелив плащи, пальто, пиджаки - кто что. Только Флич, у которого частенько побаливала поясница, ломал для постели лапник. Братья помогали ему.
А утром, когда Григорий Евсеевич растолкал спящих, оказалось, что ни Петра, ни Павла нет на месте. Их кричали, звали. Никто не откликался. Не было и Киндера.
А когда стали запрягать лошадей, Флич обнаружил прикрепленную к его чемодану написанную химическим карандашом на клочке газеты записку:
Дорогой Флич!
Мы уходим обратно, выручать маму.
Иначе нельзя.
П. и П.
– Что там? - спросил подошедший Григорий Евсеевич.
Расстроенный Флич отдал ему записку. Григорий Евсеевич прочел и только вздохнул.
– Я догоню их. Они ж пропадут одни! - воскликнул Флич с отчаянием.
– Не догонишь, Яков. Может, они еще вчера вечером ушли.
– Все равно, Гриша. Я должен… Понимаешь? Я обещал Гертруде.
Григорий Евсеевич снова вздохнул горестно.
– Ну что ж, Яков…
– А вещи пусть едут, - сказал Флич. - Я - налегке.
Он крепко пожал руку Григорию Евсеевичу и пошел к шоссе. А оставшиеся смотрели ему вслед, пока он не скрылся за рыжими стволами сосен, начинавшими по-дневному раскаляться.
Часть вторая. ВЕЛИКИЕ ВОЖДИ.
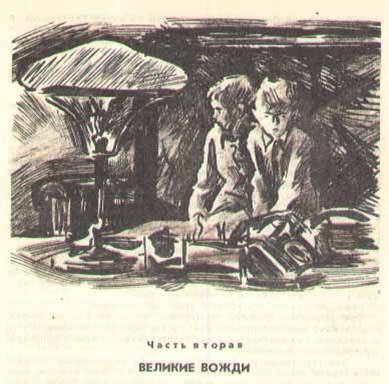
Пехотный полк Зайцева вышел к реке возле Гронска. Арьергард - рота стрелков и батарея "сорокапяток" - прикрывал отход.
Тяжело раненных на повозках перевезли через мост на тот берег и дальше в город, на станцию. Легко раненные шли сами. Те, что могли держать оружие, оставались в строю.
Подполковник Зайцев спустился к реке, стал стаскивать гимнастерку одной рукой, левая была перебинтована. Повязка стала серой от пыли, кровавое пятно на ней порыжело. Младший лейтенант Синица, не отходивший от командира ни на шаг, хотел помочь, но подполковник не позволил.
– Нет уж, Синичка, сам…
Он вошел в реку прямо в сапогах, зачерпнул горстью воду, плеснул себе в лицо. Ах, какое это счастье - вода в жару!
Федор Федорович Зайцев принял полк три месяца назад. Был он кадровым военным. После гражданской остался в армии. Дослужился до командира роты. Потом - академия. И вот - полк.
Федор Федорович был упрям, и все в нем выдавало эту упрямость. И широкая спина при небольшом росте, и косолапость, и тяжелый высокий лоб, нависающий над маленькими, словно вдавленными в глазницы, серыми глазками, и оттопыренные уши, и массивный подбородок. Только пухлые обветренные губы чуточку смягчали упрямость.
Подчиненные прозвали его "бычком".
Для Федора Федоровича война была работой. Он к ней готовился. Его одевали, обували, кормили, учили - все это, по его представлению, он получал в долг. А долг платежом красен.
С первого же дня, приняв полк, он не щадил себя и не щадил людей. Он был настырным и умел требовать.
После учебных марш-бросков по тревоге не один десяток бойцов спешил в санчасть с потертыми ногами. Зато стали наворачивать портянки аккуратно, как положено. Волка ноги кормят, а бойца - берегут.
Отрывая окопы, перелопатили не кубометры, а кубокилометры земли. Мозолей набили!… Зато пехотная лопатка потеряла вес, превратилась в продолжение руки. В считанные минуты полк мог зарыться в землю.
А как маскировались! А сколько на брюхе по-пластунски переползли! Если в одну линию вытянуть - поясок вокруг Земли. Не меньше.
Как-то на занятиях подполковник увидел командира взвода, стоящего во весь рост в мелком кустарнике в то время, когда его бойцы ползли. Он ничего не сказал комвзвода. А через день собрал командиров. Сел на открытой поляне. Поставил задачу: всем отойти на триста метров и окружать его. Да так, чтобы он ни одного не видел.
Командиры разошлись, кляня в душе подполковника.
Они подползали скрытно, маскируясь, используя каждый кустик, каждую ямку. А когда добрались до места, где сидел подполковник, - того не оказалось. Они поднялись с земли, отряхивая гимнастерки и шаровары, переглядываясь недоуменно.
– Вот так, товарищи командиры, - сказал подполковник, подымаясь из травы неподалеку. - А то я видел, кое-кто стоит столбом, пока его люди ползут. Негоже. Взвод лежит - и ты лежи, взвод бежит - и ты бежи!
– Правильней - беги, товарищ подполковник, - сказал военврач третьего ранга.
– Точно. Это я для складности. Как говорится, для рифмы. Дело наше трудное, солдатское. Себя беречь не приходится. В белых перчатках не повоюешь!
– На войне другое дело, - произнес тот самый незадачливый командир взвода.
– Нет, лейтенант. Если ты сейчас в яблочко не попадешь, на войне сам яблочком будешь! Прошу учесть, товарищи командиры: солдат должен брать пример с командира. Вот и подавайте. У меня все.
Полк тогда располагался в полусотне километров от границы, на маленькой станции с длинным названием.
В ночь на 22 июня полк был поднят по тревоге для передислокации в ближайший лес. Никто не знал тогда, что эта тревога - последняя учебная. Утром станцию бомбили. А вечером полк вошел в соприкосновение с противником.
Начались тяжелые бои. Только по ночам выпадали короткие передышки. Полк понес первые потери. Немецкое командование не жалело ни снарядов, ни патронов, ни собственных солдат. Это подполковник Зайцев понял в первый же день войны.
Немцы шли в атаку с засученными рукавами, пьяные, ведя бесприцельный огонь. Прижимали ложа автоматов к животам и поливали свинцом белый свет.
– И нам патронов не жалко, - сказал Зайцев, наблюдая за одной из таких атак. - Жалко пулю, которая врага не достанет.
Фашисты бросили против полка танки. Танки шли по шоссе. В лес не сворачивали, видно боялись застрять. Вид у них был грозный, жуткий.
Необстрелянные бойцы кое-где дрогнули, отошли. Танки прорвались в сторону Гронска, разрезали полк на две неравные части. Пропала связь с дивизией. Зайцев команды на отход не давал. Когда танки ушли в прорыв, он сомкнул полк. И снова немцев встретили дружным огнем.
Бой гремел дотемна. И опять Зайцев отметил, что противник не жалеет ни боеприпасов, ни людей.
– Прет, как разъяренный медведь, - неодобрительно отозвался о противнике Зайцев, когда они с начштаба ждали на командном пункте связи с дивизией. - А ежели он медведь - ты ему стань рогатиной: дери шкуру, выворачивай кишки!
Вернулись разведчики, посланные в штаб дивизии. Штаба на месте не нашли. Следов боя тоже не приметили. На обратном пути напоролись на немцев. Себя не выдали. Боя не завязывали.
– Сдрейфили?
– Никак нет, товарищ подполковник. Вы ж наказывали: нет команды - смекай сам, голова не только для фуражки. Ну, побили бы мы десяток-другой фрицев-гансов. Сами полегли б. А знать про штаб дивизии важней, - сказал старшина Линь, старший из разведчиков, и добавил: - На данном отрезке текущего момента.
Зайцев молчал, задумавшись. Старшина решил, что подполковник - недоволен.
– Да вы не сомневайтесь, товарищ подполковник, мы свой десяток-другой добьем. За нами не заржавеет!
– Не сомневаюсь, - улыбнулся Зайцев. Губы стягивала сухость, улыбаться было больно.
Вскоре добрался до полка офицер из штаба дивизии. Сообщил, что на флангах дивизии прорвались крупные колонны фашистских танков. Что сосед Зайцева слева отступил под натиском во много раз превосходящих сил противника. Сосед справа еще дерется, но у него большие потери. Комдив отдал ему свой резерв. Весь, без остатка. Даже штабные писаря ушли в строй. Так что Зайцеву на резерв рассчитывать не приходится. Надо обойтись своими силами. И отойти своевременно, иначе попадет в клещи.
Зайцев и сам понимал, что легче драться по фронту, чем на все четыре стороны. Полк и так несет потери: батальоны превращаются в роты, роты во взводы, а взводы…
Но немцев побито много больше. Много больше! Тут, как говорится, и логарифмическая линейка ни к чему, простой арифметики довольно.
К вечеру бой стал стихать. И вовсе утих. Только изредка одиноко ухали пушки. Одиноко рвались снаряды. Над шоссе, над вздыбленной щетиной леса повисали бледные ракеты, темноту секли светящиеся точки трассирующих пуль.
Дисциплинированные немцы ночью спали. Они все еще были уверены, что война ведется по их плану, по их правилам и распорядкам, с перерывом на обед и на сон.
Зайцев наблюдал за противником. Слов нет: силен, вооружен, подготовлен, нахален. Рвется вперед любой ценой!
Ладно. И мы не лыком шиты, не шилом бриты!
Он отдал приказ на отход. Молниеносный, бесшумный отход. Потому что ночь коротка. От каждого батальона оставить заслоны, по взводу. Рассредоточиться и постреливать. Пусть немцы думают, что, соблюдая их порядок, полк спит.
И, несмотря на страшную, нечеловеческую усталость, когда глаза закрываются сами, внезапно, и засыпаешь и просыпаешься, треснувшись лбом о дерево, несмотря на предосторожности - не греметь, не курить, не разговаривать, полк за короткую ночь сделал марш-бросок в тыл, вывез раненых, окопался, похоронил павших товарищей в братских могилах. Вечная им и нерушимая память!
В лесу задымили походные кухни.
Старшина Линь, облизав цветастую деревянную ложку, аккуратно завернул ее в чистую тряпочку, сунул за голенище.
– Ну, вот… братцы. Теперь можно и за немца браться.
Линь был старшиной разведвзвода. А сейчас, по сути, его командиром, так как командир разведчиков был в отпуску, когда началась война, и пока не возвратился.
Линь служил сверхсрочно, как многие старшины в полку. Крепко обжился здесь, знал все и всех. Не пропускал в станционном клубе танцев под патефонные пластинки и баян. Являлся туда вечерами по субботам и воскресеньям в ослепительно блестящих шевровых сапожках с чуть приспущенными голенищами, в темно-синих парадных шароварах, в гимнастерке первого срока, перетянутой широким офицерским ремнем с портупеей через плечо. К вороту подшит белоснежный подворотничок так, чтобы край торчал ровно на полмиллиметра. Щеки гладкие, тщательно выбритые, над верхней губой чуть топорщится светлая щеточка усов. Карие с искринками глаза глядят на окружающих доброжелательно, как бы приглашают ответить на улыбку - улыбкой, на любовь - любовью.
Линь танцевал со всеми девушками по очереди, никого особенно не отличая. И многие из них тайно вздыхали, "сохли" по красавцу старшине.
А когда пришла пора жениться, Линь взял отпуск и поехал в родное село, на Кубань. И оттуда привез свою Глафиру Семеновну, Глашу, Глашеньку - сочетание больших черных глаз, проворных рук и светлой улыбки.
Весь день Глафира Семеновна летала по комнате и коммунальной кухне: мыла, начищала, скребла, кипятила, стирала, сушила, гладила, гремела кастрюлями и сковородками и пела. У нее был тоненький звонкий голосок, который не смолкал с утра до самого возвращения Линя домой.
Приходил Линь, и Глафира Семеновна смолкала. Она немного побаивалась мужа, стеснялась, садилась на краешек стула возле стола, подпирала ладонью щеку и завороженно следила за тем, как он ест. И сердце замирало: вдруг не понравится мужу ее стряпня?
А Линь поедал все без разбору, даже не замечая, что на тарелке. Потому что видел только Глашеньку, Глашу, Глафиру Семеновну, свое маленькое чудо с большими черными глазами.
За две недели до начала войны он провожал ее на станции и все держал за руку, боялся, чтобы не споткнулась, не ушиблась, не затолкали. Она ехала домой, на Кубань, к матери, рожать. Может быть, уже родила дочку или сына… Сына… А может, дочку?…
Ну, фрицы!…
Утром гитлеровцы накрыли старые, брошенные окопы полка огневым шквалом. Мины, снаряды рвались густо, вздыбливали землю, перебрасывали ее из воронки в воронку. Сверху самолеты щедро сыпали бомбы. С треском рушились деревья. Все заволокло пылью и едким дымом. Через час, по предположению немецкого командования, на русском рубеже не должно было оставаться ничего живого.
Немец-радист в штабе торопливо отстукивал в ставку донесение: "Полк Красной Армии, пытавшийся оказать сопротивление доблестным войскам фюрера, полностью уничтожен. Наступление развивается".
А в полдень гитлеровцев на марше встретил перекрестный огонь уже похороненного полка. И снова перед русскими, бог весть откуда взявшимися, окопами легли груды трупов в серых мундирах.
Прорвавшиеся на участке зайцевского полка танки оказались одни. А их задача - поддержка пехоты. Где-то там, севернее и южнее, идут танковые группы прорыва. А здесь и маневрировать негде - кругом лес. Пришлось разворачиваться на шоссе и греметь гусеницами в обратную сторону.
Помня о прорвавшихся в тыл танках, подполковник Зайцев приказал эвакуировать раненых лесными дорогами, на шоссе не высовываться. А старшину Линя с несколькими разведчиками выбросил на штабной "эмке" в свой тыл, "приглядеть" за танками. Вслед разведчикам послал три "сорокапятки" - все, что смог оторвать от себя, уж больно фашисты наседали.
Линь и его товарищи лежали за деревьями. С шоссе и не приметишь! Сквозь раскаты боя пробивался одинокий птичий свист. Поет себе птаха!
Потом к свисту прибавился лязг и скрежет. Танки выползли из-за поворота. Они шли колонной, соблюдая дистанцию. Командиры свечками торчали над башнями.
Линь приказал целиться аккуратно, брать на мушку командиров впереди идущих танков не торопясь. И не мазать. Самим под пули не лезть. Тотчас отходить лесом вдоль шоссе к "сорокапяткам". Стрелять разом, как взрыв грохнет.
А сам, прихватив четыре гранаты, связанные ремешком портупеи, сполз в канаву. Канава была довольно глубокой. Пекло солнце.
Старшина прижался щекой к теплой земле. Пахло пылью и сухой травой. Линь подумал о Глаше. Так бы лежать и лежать. Смотреть в голубое жаркое небо. Перебирать пальцами мягкие Глашины волосы, от которых пахнет солнцем. Еще Линь подумал, что надо будет сразу прижаться к внутреннему скату канавы, чтоб не побило осколками.
Танки гремели рядом.
Пора…
Линь привстал на колено, сорвал предохранительное кольцо, бросил связку гранат под гусеницу. Упал в канаву.
Грохнуло. Осколки вздыбили рядом облачка пыли. Пронесло. Линь вскочил и, пригибаясь, бросился к деревьям. Оглянулся. Немецкий танк крутился на одной гусенице. Другая полосой лежала поперек шоссе. Командир повис на броне, снятый меткой пулей.
И пока разведчики отходили лесом, танки открыли огонь по кустам, по деревьям. Немцы палили просто так, не видя цели, то ли от страха, то ли от злости, - поди разберись!
А когда наконец умолкли орудия, снова послышался одинокий птичий свист. Жива пичуга! Выстояла!
В полк прибыло пополнение. Свежие бойцы были одеты в новенькую форму "хабэ" и легкие брезентовые сапоги, вооружены новенькими винтовками и полуавтоматами, на поясных ремнях висели новенькие каски, и тощие "сидоры" у них тоже были новенькими.
Они прибыли с ближайшей станции на грузовиках, которые тотчас отправились обратно за боеприпасами. А прибывших построили у придорожных берез. И там они стояли в ожидании начальства, озираясь по сторонам, прислушиваясь к недалекой артиллерийской канонаде и тихо переговариваясь.
Одним из первых о пополнении пронюхал старшина Линь. На то он и разведчик! В разведвзводе людей не хватало, как и во всем полку. Но разведчиком, по глубокому убеждению старшины, не может стать любой. Нужен талант, призвание. Как скрипачу или художнику.
Уж очень много должен уметь разведчик! Метко стрелять из любого оружия и в любом положении, хоть подвесь его вниз головой на веревке. Внезапно появляться и исчезать, подобно змее. Видеть не только глазами, но и затылком. Лазать по деревьям не хуже обезьян и закапываться в землю, как крот. Уметь молчать. Мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться. А также быстро и с аппетитом есть. Да если к тому же он веселый парень, значит, место его в разведвзводе.
Старшина попросил у подполковника разрешение отобрать хоть десяток настоящих парней, а остальных он возьмет, каких дадут.
Зайцев усмехнулся.
– Отберите пятерых, товарищ старшина. И все. Всех дыр одной заплатой не прикроешь.
Линь поспешил к пополнению, прошелся вдоль строя раз, другой, внимательно всматриваясь в лица. Это только так кажется, что в строю все одинаковые. А ежели глаз на людей наметан!…
– Вы что, старшина, словно лошадей на ярмарке торгуете? - спросил капитан, сопровождавший пополнение. Он был очень худым, и большой острый кадык его на тонкой длинной шее все время двигался, будто капитан что-то силился проглотить и никак не мог.
– Кабы лошадей, товарищ капитан, - ответил Линь, притворно вздыхая. - Глянул в зубы, глянул под хвост - и концы. А тут - разведчики!…
Он остановился возле высокого плотного парня.
– Раньше служили?
Так точно, товарищ старшина, - у парня был густой раскатистый голос. - У нас тут все служившие. Кто не служил, тех в другую команду определили.
Линь поджал губы: говорит много.
– В фуражку попадете?
– Как это?
– А вот я подброшу, а вы - палите.
Старшина снял с головы фуражку и запустил ее к солнцу. Она взлетела, замерла меж верхушек берез и упала на землю. Парень только стволом успел повести в ее сторону.
– Что? - спросил Линь. - Винтовка не заряжена?
– Почему? Заряжена. Полная обойма, - ответил обиженно парень
Моника растворилась, исчезла в темноте. Только слышались еще ее тяжелые шаги.
Потом, не зажигая фар, медленно, словно на ощупь отыскивая дорогу, двинулся грузовик.
И только он выехал за ворота, возвратилась Гертруда Иоганновна.
– Мама, ты где была? - спросил Павел.
– Нигде… В гостиницу заходила. Завязали шемодан?
– Завязали. Зверей уже отправили.
– Хорошо. Тогда идемте домой. Надо хорошо выспаться.
Гертруда Иоганновна крепко взяла сыновей за руки и не отпускала до самой гостиницы. Флич и еще несколько артистов шли следом. Не было только дяди Миши.
Город лежал во тьме, таился, прятался. Пустые улицы стали настороженно-гулкими. Прохожих не было. Только дважды встретились патрули.
В гостиничном коридоре горела одна-единственная желтоватая лампочка. Окна были плотно зашторены.
– Идите в комнату, малтшики, - сказала Гертруда Иоганновна. - Я скажу два слова с Флишем.
Лицо ее казалось постаревшим, глаза красные и припухшие.
– Ты что, плакала? - спросил Павел.
Гертруда Иоганновна не смогла солгать.
– Немношко. Совсем немношко. Вспомнила папу… Идите.
Братья ушли в свою комнату. Гертруда Иоганновна порывисто схватила Флича за руку.
– Флиш! Милый Флиш!
– Что-нибудь случилось, Гертруда?
– Нет-нет… Нитшего… Для ровного тшета нитшего…
Флич вглядывался в ее бледное лицо. Что-то в нем появилось незнакомое, отчужденное. И глаза блестели встревоженно.
– У тебя температура?
– Нет-нет… Никакой температура, Флиш!… У меня плохое предшуствие… Что-то должен… должно слушится.
– Нервы, - ласково произнес Флич.
– Да… Конешно… Флиш… Если слушится, посмотри за малтшиками. Ты - друг!…
– Не беспокойся, Гертруда. Они для меня все равно что мои дети.
– Да-да… Знаю… Это война страшный… На жизнь. Нельзя стоять на стороне. Верно?
– Это ты про Мишу? - помрачнел Флич. - Может, одумается…
– Да-да…
– В вагончике остался ночевать… Хм… Ну, будем спать?
– Да. Надо хорошо спать.
– Спокойной ночи, Гертруда.
– Спокойной ночи, Флиш.
Когда утром все собрались в цирке, дяди Миши в вагончике не оказалось. Не было и его вещей. Никто не видел, когда он ушел.
Сергей Сергеевич с униформистами заканчивали сборку телег. Вот что за колеса и доски вчера сгружали!…
Из конюшни вывели лошадей, поставили их в оглобли, надели хомуты. Лошади вздрагивали, топтались, задирали головы, испуганно фыркали. Никак не могли понять, чего от них хотят.
– Война, - пояснил лошадям Сергей Сергеевич. - Привыкайте. Может, еще и не к такому привыкать придется.
Григорий Евсеевич встревоженно посматривал на небо и подгонял всех:
– Быстрее, быстрее…
Торопливо погрузили вещи на три телеги. Привязали к задкам телег свободных лошадей.
– Гурий, последи, чтобы не клали лишнего. Что за люди! Долбишь, долбишь… - Григорий Евсеевич был взвинчен, раскален. Казалось, еще мгновение, еще капля - и он взорвется.
Неподалеку понуро стоял сторож, поблескивали на пиджаке "георгии".
– Вот что, дед, - сказал Сергей Сергеевич. - Что тебе тут приглянется - забирай. Вон сколько добра бросаем.
– Цены нет, - промолвил сторож, поглядев на огромный шатер шапито, на веселые вагончики, на разные непонятные вещи, разбросанные там и сям.
Из-за брезентового цирка появились трое военных с красными петлицами на гимнастерках: старший лейтенант и бойцы. Винтовки - с примкнутыми штыками. На военных никто не обратил внимания.
А они деловито подошли к телегам.
– Кто здесь гражданка Лужина?
– Я, - откликнулась Гертруда Иоганновна, бледнея.
– Вы арестованы, - сухо произнес старший лейтенант.
И все вокруг замерли. Голоса смолкли. Даже лошади перестали вздрагивать.
В полной тишине мерно ударили кованые подметки солдатских сапог по асфальту. Бойцы подошли к Гертруде Иоганновне и встали справа и слева.
– Где ваши вещи? - спросил старший лейтенант.
– Но позвольте!… - бросился к военным Григорий Евсеевич.
– Отойдите в сторону, гражданин, - в голосе старшего лейтенанта прозвучал металл.
Григорий Евсеевич замер, опустив руки.
– Мама! - крикнул Павел.
Киндер яростно залаял на военных.
– Где ваши вещи? - снова спросил старший лейтенант.
– На телега, - тихо ответила Гертруда Иоганновна.
– Возьмите.
Она шагнула к телеге, дрожащими руками взяла перевязанный веревкой чемодан.
– Идемте.
Гертруда Иоганновна посмотрела на сыновей и в отчаянии, хрипло крикнула:
– Малтшики!…
Сыновья бросились к ней, она обняла их, прижала к себе…
– Это недоразумений… Все будет хорошо… Слушайтесь Флиш!
Ей всегда было трудно говорить по-русски, когда она волновалась. Слова куда-то пропадали, перемешивались, и никак не попадало на язык нужное. И впервые с начала войны она перешла на немецкий.
– Вы только верьте мне, верьте. И все будет хорошо. Ведь не все же немцы - фашисты! Верьте мне. Верьте.
– Что она сказала? - резко спросил старший лейтенант.
Петр повернул к нему мокрое от слез лицо и сказал зло:
– Язык надо было в школе учить!
– Ну, ты… - старший лейтенант сдержался, скомандовал: - Вперед.
Гертруда Иоганновна отстранила от себя сыновей, подняла с земли тяжелый чемодан и пошла, прихрамывая. По бокам шагали бойцы. На штыки накалывалось солнце. Позади шел сердитый старший лейтенант. Гертруда Иоганновна обернулась, отыскивая кого-то взглядом. Флич понял, что она ищет его, и поднял руку.
Гертруду Иоганновну повели посередине улицы, на виду у прохожих. Ее узнавали, многие побывали на представлении цирка.
Какая-то женщина сказала громко:
– Шпионку ведут.
– А притворялась артисткой, - откликнулся бас.
И кто-то бросил в спину:
– У-у, гадина!…
Она ничего не слышала и ничего не видела. Перед глазами ее стояли сыновья, их перепуганные, заплаканные лица. Она растила мужчин. Так пусть же они будут мужчинами!
13
Пригородное шоссе было забито. Отчаянно гудели грузовики, пробивая себе дорогу. Громыхали телеги. Шли люди с детьми, узлами, чемоданами, катили детские коляски, переполненные скарбом, навьюченные велосипеды. Пыль не успевала садиться на землю, висела над дорогой.
А навстречу шли молчаливые красноармейцы, синим дымом чихали грузовики, груженные зелеными ящиками. На конной тяге гремели маленькие "сорокапятки" - противотанковые пушки.
Иногда в небе появлялся самолет, раздавалась протяжная команда: "Во-о-зду-ух!…"
И вся масса людей останавливалась, раскалывалась надвое и бросалась в придорожные канавы, в кусты, под деревья, вжималась в землю, чтобы уцелеть, выжить, подняться и идти дальше.
Цирковые лошади смирились с хомутами. Скрипели перегруженные телеги. Примолкли уставшие люди. Даже Киндер брел понуро, вывесив розовый язык и не обращая внимания на кошку, которую несла в корзинке какая-то худенькая девочка.
Брели по шоссе уже второй день. Ели всухомятку, никто не догадался прихватить посуду, в которой можно было бы варить пищу.
Тягостную историю с арестом Гертруды не то чтобы забыли, а не вспоминали. И от тоскливо-напряженных взглядов Павла и Петра уклонялись, чувствовали себя неловко, словно сами были в чем-то виноваты.
А братья примолкли, не откликались на шутку, не бегали вперегонки с Киндером: повзрослели в одночасье, раздавленные горем.
Флич не пытался их расшевелить. Он понимал, как им плохо, трудно сейчас. Какими они, должно быть, чувствуют себя одинокими, потерянными! Но был убежден, что время и возраст возьмут свое. Ведь они, в сущности, еще дети! А дети не грустят долго. Детское горе горько, да не глубоко. А время - великий лекарь.
Флич шел по обочине, возле скрипящей телеги, изредка поглядывал на молчаливых братьев и на ходу гонял на ладошке монету. По привычке.
Вечером свернули в лес. Распрягли лошадей, напоили в ручье и пустили пастись. Присматривать за ними Григорий Евсеевич назначил двух "дежурных конюхов". Он поддерживал во всем строгий порядок. Что ж с того, что цирк встал на колеса. Он - директор и за все в ответе!
Ночью жара спадала, но было тепло. Спали под соснами, на земле, подстелив плащи, пальто, пиджаки - кто что. Только Флич, у которого частенько побаливала поясница, ломал для постели лапник. Братья помогали ему.
А утром, когда Григорий Евсеевич растолкал спящих, оказалось, что ни Петра, ни Павла нет на месте. Их кричали, звали. Никто не откликался. Не было и Киндера.
А когда стали запрягать лошадей, Флич обнаружил прикрепленную к его чемодану написанную химическим карандашом на клочке газеты записку:
Дорогой Флич!
Мы уходим обратно, выручать маму.
Иначе нельзя.
П. и П.
– Что там? - спросил подошедший Григорий Евсеевич.
Расстроенный Флич отдал ему записку. Григорий Евсеевич прочел и только вздохнул.
– Я догоню их. Они ж пропадут одни! - воскликнул Флич с отчаянием.
– Не догонишь, Яков. Может, они еще вчера вечером ушли.
– Все равно, Гриша. Я должен… Понимаешь? Я обещал Гертруде.
Григорий Евсеевич снова вздохнул горестно.
– Ну что ж, Яков…
– А вещи пусть едут, - сказал Флич. - Я - налегке.
Он крепко пожал руку Григорию Евсеевичу и пошел к шоссе. А оставшиеся смотрели ему вслед, пока он не скрылся за рыжими стволами сосен, начинавшими по-дневному раскаляться.
Часть вторая. ВЕЛИКИЕ ВОЖДИ.
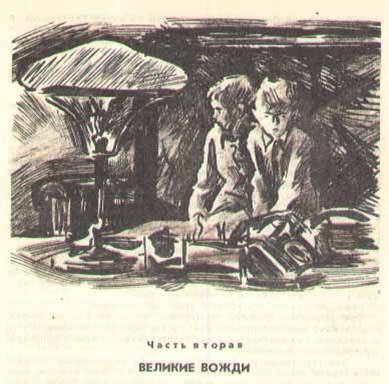
1
Пехотный полк Зайцева вышел к реке возле Гронска. Арьергард - рота стрелков и батарея "сорокапяток" - прикрывал отход.
Тяжело раненных на повозках перевезли через мост на тот берег и дальше в город, на станцию. Легко раненные шли сами. Те, что могли держать оружие, оставались в строю.
Подполковник Зайцев спустился к реке, стал стаскивать гимнастерку одной рукой, левая была перебинтована. Повязка стала серой от пыли, кровавое пятно на ней порыжело. Младший лейтенант Синица, не отходивший от командира ни на шаг, хотел помочь, но подполковник не позволил.
– Нет уж, Синичка, сам…
Он вошел в реку прямо в сапогах, зачерпнул горстью воду, плеснул себе в лицо. Ах, какое это счастье - вода в жару!
Федор Федорович Зайцев принял полк три месяца назад. Был он кадровым военным. После гражданской остался в армии. Дослужился до командира роты. Потом - академия. И вот - полк.
Федор Федорович был упрям, и все в нем выдавало эту упрямость. И широкая спина при небольшом росте, и косолапость, и тяжелый высокий лоб, нависающий над маленькими, словно вдавленными в глазницы, серыми глазками, и оттопыренные уши, и массивный подбородок. Только пухлые обветренные губы чуточку смягчали упрямость.
Подчиненные прозвали его "бычком".
Для Федора Федоровича война была работой. Он к ней готовился. Его одевали, обували, кормили, учили - все это, по его представлению, он получал в долг. А долг платежом красен.
С первого же дня, приняв полк, он не щадил себя и не щадил людей. Он был настырным и умел требовать.
После учебных марш-бросков по тревоге не один десяток бойцов спешил в санчасть с потертыми ногами. Зато стали наворачивать портянки аккуратно, как положено. Волка ноги кормят, а бойца - берегут.
Отрывая окопы, перелопатили не кубометры, а кубокилометры земли. Мозолей набили!… Зато пехотная лопатка потеряла вес, превратилась в продолжение руки. В считанные минуты полк мог зарыться в землю.
А как маскировались! А сколько на брюхе по-пластунски переползли! Если в одну линию вытянуть - поясок вокруг Земли. Не меньше.
Как-то на занятиях подполковник увидел командира взвода, стоящего во весь рост в мелком кустарнике в то время, когда его бойцы ползли. Он ничего не сказал комвзвода. А через день собрал командиров. Сел на открытой поляне. Поставил задачу: всем отойти на триста метров и окружать его. Да так, чтобы он ни одного не видел.
Командиры разошлись, кляня в душе подполковника.
Они подползали скрытно, маскируясь, используя каждый кустик, каждую ямку. А когда добрались до места, где сидел подполковник, - того не оказалось. Они поднялись с земли, отряхивая гимнастерки и шаровары, переглядываясь недоуменно.
– Вот так, товарищи командиры, - сказал подполковник, подымаясь из травы неподалеку. - А то я видел, кое-кто стоит столбом, пока его люди ползут. Негоже. Взвод лежит - и ты лежи, взвод бежит - и ты бежи!
– Правильней - беги, товарищ подполковник, - сказал военврач третьего ранга.
– Точно. Это я для складности. Как говорится, для рифмы. Дело наше трудное, солдатское. Себя беречь не приходится. В белых перчатках не повоюешь!
– На войне другое дело, - произнес тот самый незадачливый командир взвода.
– Нет, лейтенант. Если ты сейчас в яблочко не попадешь, на войне сам яблочком будешь! Прошу учесть, товарищи командиры: солдат должен брать пример с командира. Вот и подавайте. У меня все.
Полк тогда располагался в полусотне километров от границы, на маленькой станции с длинным названием.
В ночь на 22 июня полк был поднят по тревоге для передислокации в ближайший лес. Никто не знал тогда, что эта тревога - последняя учебная. Утром станцию бомбили. А вечером полк вошел в соприкосновение с противником.
Начались тяжелые бои. Только по ночам выпадали короткие передышки. Полк понес первые потери. Немецкое командование не жалело ни снарядов, ни патронов, ни собственных солдат. Это подполковник Зайцев понял в первый же день войны.
Немцы шли в атаку с засученными рукавами, пьяные, ведя бесприцельный огонь. Прижимали ложа автоматов к животам и поливали свинцом белый свет.
– И нам патронов не жалко, - сказал Зайцев, наблюдая за одной из таких атак. - Жалко пулю, которая врага не достанет.
Фашисты бросили против полка танки. Танки шли по шоссе. В лес не сворачивали, видно боялись застрять. Вид у них был грозный, жуткий.
Необстрелянные бойцы кое-где дрогнули, отошли. Танки прорвались в сторону Гронска, разрезали полк на две неравные части. Пропала связь с дивизией. Зайцев команды на отход не давал. Когда танки ушли в прорыв, он сомкнул полк. И снова немцев встретили дружным огнем.
Бой гремел дотемна. И опять Зайцев отметил, что противник не жалеет ни боеприпасов, ни людей.
– Прет, как разъяренный медведь, - неодобрительно отозвался о противнике Зайцев, когда они с начштаба ждали на командном пункте связи с дивизией. - А ежели он медведь - ты ему стань рогатиной: дери шкуру, выворачивай кишки!
Вернулись разведчики, посланные в штаб дивизии. Штаба на месте не нашли. Следов боя тоже не приметили. На обратном пути напоролись на немцев. Себя не выдали. Боя не завязывали.
– Сдрейфили?
– Никак нет, товарищ подполковник. Вы ж наказывали: нет команды - смекай сам, голова не только для фуражки. Ну, побили бы мы десяток-другой фрицев-гансов. Сами полегли б. А знать про штаб дивизии важней, - сказал старшина Линь, старший из разведчиков, и добавил: - На данном отрезке текущего момента.
Зайцев молчал, задумавшись. Старшина решил, что подполковник - недоволен.
– Да вы не сомневайтесь, товарищ подполковник, мы свой десяток-другой добьем. За нами не заржавеет!
– Не сомневаюсь, - улыбнулся Зайцев. Губы стягивала сухость, улыбаться было больно.
Вскоре добрался до полка офицер из штаба дивизии. Сообщил, что на флангах дивизии прорвались крупные колонны фашистских танков. Что сосед Зайцева слева отступил под натиском во много раз превосходящих сил противника. Сосед справа еще дерется, но у него большие потери. Комдив отдал ему свой резерв. Весь, без остатка. Даже штабные писаря ушли в строй. Так что Зайцеву на резерв рассчитывать не приходится. Надо обойтись своими силами. И отойти своевременно, иначе попадет в клещи.
Зайцев и сам понимал, что легче драться по фронту, чем на все четыре стороны. Полк и так несет потери: батальоны превращаются в роты, роты во взводы, а взводы…
Но немцев побито много больше. Много больше! Тут, как говорится, и логарифмическая линейка ни к чему, простой арифметики довольно.
К вечеру бой стал стихать. И вовсе утих. Только изредка одиноко ухали пушки. Одиноко рвались снаряды. Над шоссе, над вздыбленной щетиной леса повисали бледные ракеты, темноту секли светящиеся точки трассирующих пуль.
Дисциплинированные немцы ночью спали. Они все еще были уверены, что война ведется по их плану, по их правилам и распорядкам, с перерывом на обед и на сон.
Зайцев наблюдал за противником. Слов нет: силен, вооружен, подготовлен, нахален. Рвется вперед любой ценой!
Ладно. И мы не лыком шиты, не шилом бриты!
Он отдал приказ на отход. Молниеносный, бесшумный отход. Потому что ночь коротка. От каждого батальона оставить заслоны, по взводу. Рассредоточиться и постреливать. Пусть немцы думают, что, соблюдая их порядок, полк спит.
И, несмотря на страшную, нечеловеческую усталость, когда глаза закрываются сами, внезапно, и засыпаешь и просыпаешься, треснувшись лбом о дерево, несмотря на предосторожности - не греметь, не курить, не разговаривать, полк за короткую ночь сделал марш-бросок в тыл, вывез раненых, окопался, похоронил павших товарищей в братских могилах. Вечная им и нерушимая память!
В лесу задымили походные кухни.
Старшина Линь, облизав цветастую деревянную ложку, аккуратно завернул ее в чистую тряпочку, сунул за голенище.
– Ну, вот… братцы. Теперь можно и за немца браться.
Линь был старшиной разведвзвода. А сейчас, по сути, его командиром, так как командир разведчиков был в отпуску, когда началась война, и пока не возвратился.
Линь служил сверхсрочно, как многие старшины в полку. Крепко обжился здесь, знал все и всех. Не пропускал в станционном клубе танцев под патефонные пластинки и баян. Являлся туда вечерами по субботам и воскресеньям в ослепительно блестящих шевровых сапожках с чуть приспущенными голенищами, в темно-синих парадных шароварах, в гимнастерке первого срока, перетянутой широким офицерским ремнем с портупеей через плечо. К вороту подшит белоснежный подворотничок так, чтобы край торчал ровно на полмиллиметра. Щеки гладкие, тщательно выбритые, над верхней губой чуть топорщится светлая щеточка усов. Карие с искринками глаза глядят на окружающих доброжелательно, как бы приглашают ответить на улыбку - улыбкой, на любовь - любовью.
Линь танцевал со всеми девушками по очереди, никого особенно не отличая. И многие из них тайно вздыхали, "сохли" по красавцу старшине.
А когда пришла пора жениться, Линь взял отпуск и поехал в родное село, на Кубань. И оттуда привез свою Глафиру Семеновну, Глашу, Глашеньку - сочетание больших черных глаз, проворных рук и светлой улыбки.
Весь день Глафира Семеновна летала по комнате и коммунальной кухне: мыла, начищала, скребла, кипятила, стирала, сушила, гладила, гремела кастрюлями и сковородками и пела. У нее был тоненький звонкий голосок, который не смолкал с утра до самого возвращения Линя домой.
Приходил Линь, и Глафира Семеновна смолкала. Она немного побаивалась мужа, стеснялась, садилась на краешек стула возле стола, подпирала ладонью щеку и завороженно следила за тем, как он ест. И сердце замирало: вдруг не понравится мужу ее стряпня?
А Линь поедал все без разбору, даже не замечая, что на тарелке. Потому что видел только Глашеньку, Глашу, Глафиру Семеновну, свое маленькое чудо с большими черными глазами.
За две недели до начала войны он провожал ее на станции и все держал за руку, боялся, чтобы не споткнулась, не ушиблась, не затолкали. Она ехала домой, на Кубань, к матери, рожать. Может быть, уже родила дочку или сына… Сына… А может, дочку?…
Ну, фрицы!…
Утром гитлеровцы накрыли старые, брошенные окопы полка огневым шквалом. Мины, снаряды рвались густо, вздыбливали землю, перебрасывали ее из воронки в воронку. Сверху самолеты щедро сыпали бомбы. С треском рушились деревья. Все заволокло пылью и едким дымом. Через час, по предположению немецкого командования, на русском рубеже не должно было оставаться ничего живого.
Немец-радист в штабе торопливо отстукивал в ставку донесение: "Полк Красной Армии, пытавшийся оказать сопротивление доблестным войскам фюрера, полностью уничтожен. Наступление развивается".
А в полдень гитлеровцев на марше встретил перекрестный огонь уже похороненного полка. И снова перед русскими, бог весть откуда взявшимися, окопами легли груды трупов в серых мундирах.
Прорвавшиеся на участке зайцевского полка танки оказались одни. А их задача - поддержка пехоты. Где-то там, севернее и южнее, идут танковые группы прорыва. А здесь и маневрировать негде - кругом лес. Пришлось разворачиваться на шоссе и греметь гусеницами в обратную сторону.
Помня о прорвавшихся в тыл танках, подполковник Зайцев приказал эвакуировать раненых лесными дорогами, на шоссе не высовываться. А старшину Линя с несколькими разведчиками выбросил на штабной "эмке" в свой тыл, "приглядеть" за танками. Вслед разведчикам послал три "сорокапятки" - все, что смог оторвать от себя, уж больно фашисты наседали.
Линь и его товарищи лежали за деревьями. С шоссе и не приметишь! Сквозь раскаты боя пробивался одинокий птичий свист. Поет себе птаха!
Потом к свисту прибавился лязг и скрежет. Танки выползли из-за поворота. Они шли колонной, соблюдая дистанцию. Командиры свечками торчали над башнями.
Линь приказал целиться аккуратно, брать на мушку командиров впереди идущих танков не торопясь. И не мазать. Самим под пули не лезть. Тотчас отходить лесом вдоль шоссе к "сорокапяткам". Стрелять разом, как взрыв грохнет.
А сам, прихватив четыре гранаты, связанные ремешком портупеи, сполз в канаву. Канава была довольно глубокой. Пекло солнце.
Старшина прижался щекой к теплой земле. Пахло пылью и сухой травой. Линь подумал о Глаше. Так бы лежать и лежать. Смотреть в голубое жаркое небо. Перебирать пальцами мягкие Глашины волосы, от которых пахнет солнцем. Еще Линь подумал, что надо будет сразу прижаться к внутреннему скату канавы, чтоб не побило осколками.
Танки гремели рядом.
Пора…
Линь привстал на колено, сорвал предохранительное кольцо, бросил связку гранат под гусеницу. Упал в канаву.
Грохнуло. Осколки вздыбили рядом облачка пыли. Пронесло. Линь вскочил и, пригибаясь, бросился к деревьям. Оглянулся. Немецкий танк крутился на одной гусенице. Другая полосой лежала поперек шоссе. Командир повис на броне, снятый меткой пулей.
И пока разведчики отходили лесом, танки открыли огонь по кустам, по деревьям. Немцы палили просто так, не видя цели, то ли от страха, то ли от злости, - поди разберись!
А когда наконец умолкли орудия, снова послышался одинокий птичий свист. Жива пичуга! Выстояла!
В полк прибыло пополнение. Свежие бойцы были одеты в новенькую форму "хабэ" и легкие брезентовые сапоги, вооружены новенькими винтовками и полуавтоматами, на поясных ремнях висели новенькие каски, и тощие "сидоры" у них тоже были новенькими.
Они прибыли с ближайшей станции на грузовиках, которые тотчас отправились обратно за боеприпасами. А прибывших построили у придорожных берез. И там они стояли в ожидании начальства, озираясь по сторонам, прислушиваясь к недалекой артиллерийской канонаде и тихо переговариваясь.
Одним из первых о пополнении пронюхал старшина Линь. На то он и разведчик! В разведвзводе людей не хватало, как и во всем полку. Но разведчиком, по глубокому убеждению старшины, не может стать любой. Нужен талант, призвание. Как скрипачу или художнику.
Уж очень много должен уметь разведчик! Метко стрелять из любого оружия и в любом положении, хоть подвесь его вниз головой на веревке. Внезапно появляться и исчезать, подобно змее. Видеть не только глазами, но и затылком. Лазать по деревьям не хуже обезьян и закапываться в землю, как крот. Уметь молчать. Мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться. А также быстро и с аппетитом есть. Да если к тому же он веселый парень, значит, место его в разведвзводе.
Старшина попросил у подполковника разрешение отобрать хоть десяток настоящих парней, а остальных он возьмет, каких дадут.
Зайцев усмехнулся.
– Отберите пятерых, товарищ старшина. И все. Всех дыр одной заплатой не прикроешь.
Линь поспешил к пополнению, прошелся вдоль строя раз, другой, внимательно всматриваясь в лица. Это только так кажется, что в строю все одинаковые. А ежели глаз на людей наметан!…
– Вы что, старшина, словно лошадей на ярмарке торгуете? - спросил капитан, сопровождавший пополнение. Он был очень худым, и большой острый кадык его на тонкой длинной шее все время двигался, будто капитан что-то силился проглотить и никак не мог.
– Кабы лошадей, товарищ капитан, - ответил Линь, притворно вздыхая. - Глянул в зубы, глянул под хвост - и концы. А тут - разведчики!…
Он остановился возле высокого плотного парня.
– Раньше служили?
Так точно, товарищ старшина, - у парня был густой раскатистый голос. - У нас тут все служившие. Кто не служил, тех в другую команду определили.
Линь поджал губы: говорит много.
– В фуражку попадете?
– Как это?
– А вот я подброшу, а вы - палите.
Старшина снял с головы фуражку и запустил ее к солнцу. Она взлетела, замерла меж верхушек берез и упала на землю. Парень только стволом успел повести в ее сторону.
– Что? - спросил Линь. - Винтовка не заряжена?
– Почему? Заряжена. Полная обойма, - ответил обиженно парень
