Тогда Цицианов решился на крайнюю меру. Он приказал генералу Шепелеву осуществить набег на те селения, через которые чеченцы везли Дельпоццо в Герменчук и произвести захват скота. Захваченный скот был затем продан за 10 тысяч рублей все тем же чеченцам. Из этой суммы 8400 рублей были предложены чеченцам в качестве выкупа за генерала. Это было в два раза больше, чем по договору, и захватчики не устояли. И.П. Дельпоццо был освобожден, по сути дела, за чеченские деньги.
После возвращения из плена И.П. Дельпоццо был восстановлен на службе и назначен приставом кабардинского народа. На этом посту он проявил недюжий талант администратора. Отказавшись от ранее практиковавшейся политики натравливания князей и уорков друг на друга, он предложил всем сторонам строить жизнь на условиях мирного сосуществования и экономической выгоды. Современник писал: «Родовые суды, составлявшие предмет постоянного неудовольствия кабардинцев, были уничтожены, и власть их вручена почетным ахунам и кадиям. Земли, на которых стояли русские укрепления, были разграничены, и гарнизоны, получив определенное число десятин, обязались под строгой ответственностью наблюдать, чтобы скот их не заходил на смежные дачи кабардинцев. Торговля развивалась потому, что каждый кабардинец свободно являлся на линию для сбыта своих произведений, а в Константиногорске и в Георгиевске с этой целью построены были мечети и при них богатые караван-сараи. Но главным образом Дельпоццо обратил внимание на воспитание молодого поколения – в двух наиболее важных пунктах, Георгиевске и Екатеринограде, устроил школы, в которые поступали дети кабардинских владельцев и князей; по окончании здесь курса их предполагалось отправлять в кадетские корпуса и выпускать офицерами в армию».
По сути дела генерал И.П. Дельпоццо разработал и начал осуществлять комплексную программу преобразования края. Но кабардинцы оказались морально не подготовленными к жизни в новых условиях. С уничтожением родовых судов постоянными стали случаи подкупа духовенства при рассмотрении спорных вопросов, которое, к тому же, всегда стремилось вести дело не в интересах улучшения отношений аборигенов с Россией, а на благо единоверной Турции. Это нередко приводило к тому, что виновный выигрывал судебное дело лишь потому, что не дружил с русскими гяурами. Разграничение земель вызывало постоянные споры на линии. Мечети и караван-сараи, стоившие казне больших денег, зачастую пустовали. Князья и старшины присылали детей в русские школы, но весьма неохотно затем направляли их в кадетские корпуса. Рядовые кабардинцы, широко пользуясь торговыми льготами и свободой перемещения на линии, не упускали возможности ограбить русских. Они угоняли скот, захватывали пленных, которых затем продавали в рабство в горные аулы.
Полным провалом завершилась попытка Дельпоццо использовать кабардинцев для борьбы с чеченцами на стороне русского командования. Соблазнившись деньгами и возможной добычей, некоторые князья и уорки собрали для похода отряды. Он они дошли только до Сунжи, а дальше идти отказались. Русское командование должно было отказаться от помощи горцев и распустить их ополчение по домам. По этому поводу Гудович писал Дельпоццо: «Крайне сожалею, что кабардинцев не удалось употребить в настоящее дело с чеченцами, ибо вся цель моя была та, чтобы поссорить эти два народа между собой, поселить между ними вражду и этим самим со временем их ослабить».
Потерпев фиаско в устройстве Кабарды, в 1810 году Дельпоццо стал комендантом Владикавказской крепости, где занялся налаживанием российско-ингушских отношений. В этом деле ему удалось добиться определенных успехов, но уже не только мирными средствами.
До этого времени ингуши, обитавшие в верховьях Сунжи, не признавали над собой власть России и враждовали с осетинами, многие из которых состояли на российской службе. Этой враждой умело пользовались чеченцы, которые проходили через ингушские земли и разоряли окрестности Владикавказа. В 1810 году произошел очередной опустошительный набег, но русским и осетинам удалось не только удержать Владикавказ, но и нанести чеченцам поражение под его стенами. Хищники, обремененные добычей, начали медленно уходить на восток через ингушские земли.
Дельпоццо решил воспользоваться ситуацией и обратился за помощью к ингушам, пообещав им богатую добычу. Соблазнившись, те ударили чеченцам в тыл, в результате чего разбойники были почти полностью уничтожены. Правда, после этого отношения между чеченцами и ингушами испортились. Появилась угроза нападения воинственных горцев на Назрань и другие села. Для их защиты Дельпоццо предложил разместить в Назрани русский гарнизон, что было ингушами с благодарностью принято. Это был большой успех, учитывая близость ингушей к Военно-Грузинской дороге.
Чеченцы, населявшие равнинную часть, также со временем начали сотрудничать с российскими властями. Нередко к такому сотрудничеству удавалось склонить и некоторых вождей горных чеченцев. Так, известный Шали Бей-Булат Таймиев 6 сентября 1807 года вместе со своим товарищем сдался русским властям. Он был пожалован чином поручика с годовым окладом в 250 рублей. Некоторое время этот человек в форме русского офицера гордо разъезжал по Тифлису, но в начале следующего года за организацию нападений на казацкие станицы он был лишен чина и жалованья. После этого он стал главным организатором набегов чеченцев на русскую линию.
31 мая 1811 года Шали Бей-Булат Таймиев возвратился на русскую службу, но спустя некоторое время, захватив в заложники майора Швецова, вновь ушел в горы и затребовал за пленного крупный выкуп. И снова ему удалось получить деньги и начать с русским командованием двойную игру.
Новый главнокомандующий генерал Ртищев поручил И.П. Дельпоццо командование 19-й пехотной дивизией, части которой составляли основную военную силу на Кавказской линии. Однако в этой должности старый генерал ничем себя не проявил и в 1816 году был переведен комендантом в Астрахань. Там он и умер 12 февраля 1821 года на 83-м году жизни.
Глава 5
Кавказский край в 1816 году
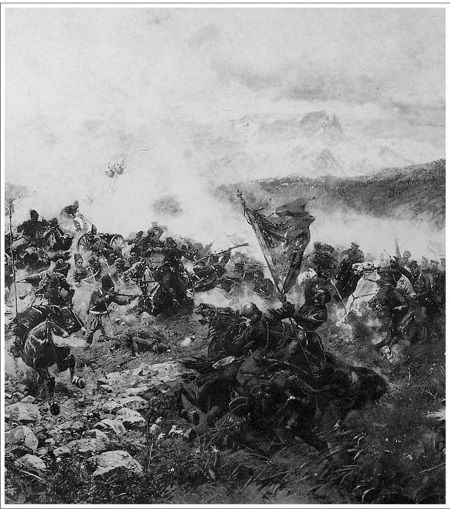
Кавказский край, который постоянно раздирали внутренние распри, периодически захватывали турецкие, персидские и русские войска, постоянно менялся. Возникали одни государственные образования и исчезали другие, постоянно сменялись правители этих образований, перемешивались народы. В то же время каждый из народов максимально стремился соблюсти свою территорию, язык, веру и обычаи. В результате этого возникали войны, которые зачастую приобретали характер затяжного вооруженного конфликта. С появлением на Кавказе русских войск и администрации эти войны и конфликты стали более редкими, что привело к стабилизации обстановки на Кавказе настолько, что появилась возможность составить более или менее полное описание этого края.
Это и сделал в своих Записках А.П. Ермолов, который в 1816 году был назначен командиром Кавказского корпуса, а значит, и наместником Российского императора в Кавказском крае. Обладая наблюдательностью исследователя и немалым писательским талантом, Алексей Петрович достаточно ярко и красочно описал все кавказские земли и дал меткие характеристики их правителям. Позже ермоловские Записки были опубликованы, благодаря чему потомки получили возможность взглянуть на Кавказ глазами крупного российского администратора первой четверти XIX века.
Безусловно, А.П. Ермолов был не только человеком своего времени, но и крупным военачальником. Его литературный язык пестрит словами и эпитетами, которые могут «резать» слух человека XXI века. Поэтому мы решили позволить себе некоторые объяснения и отступления от текста автора. Также надо понимать, что как военачальник Алексей Петрович смотрит на Кавказ как на поле предстоящей битвы, не вдаваясь в особенности религии, культуры и обычаев его народов. Это большой минус, с которым можно смириться только ввиду отсутствия других источников.
И все же, только благодаря обстоятельным Запискам А.П. Ермолова можно достаточно ясно представить себе положение почти всех административных единиц Кавказского края по состоянию на 1816 год, получить сведения об их населении и правителях. Поэтому мы берем на себя смелость с небольшими исправлениями и дополнениями практически процитировать раздел Записок А.П. Ермолова, касающихся устройства Кавказского края:
«Грузия постоянно занята нашими войсками и в ней вводится постепенно наш образ управления при действии собственных законов, составленных царем Вахтангом, коим сохранена прежняя сила.
Грузию собственно составляют: Карталиния, округ чрезвычайно хлебородный; Кахетия, разделенная на Телавский и Сигнахский уезды, из коих первый изобилует прекраснейшими виноградниками; последний, не столько много занимаясь разведением садов, имеет довольно обширное хлебопашество. Карталинии принадлежит часть осетин, живущих в горах. В недавнем времени они начали принимать христианскую веру. Успехи оной, хотя еще очень ничтожные, но можно надеяться, что, получив более доверенности к правительству, ибо приемлющим крещение оказывается особое внимание, они переменят зверские свои обычаи и наклонности к воровству.
Кахетия разоряема была многолюдными толпами сходящих с гор лезгин. На Карталинию нападали соседние с ней осетины и лезгины, которых содержал у себя ахалцыхский паша, не взирая на существующий мир между Россиею и Портой.
С Кахетиею смежны небольшие земли, в коих живут народы, именуемые пшавцы и тушинцы, издавна покорствовавшие грузинским царям. Они имеют богатое весьма скотоводство, наклонностей воинственных, верны правительству. Над ними от начальства поставлен пристав из грузин, ибо необходимо знать язык. Не всегда же повинуются они надлежащим образом и доселе почти в диком состоянии.
Сомхетия, войнами опустошенная, почти никакого населения не имеет. Бамбаки и Шурагель, малые весьма округа, в последнюю с Персией войну разоренные, в коих и доселе мало жителей. Дистанции татарские: Барчалинская, Казахская и Шамшадильская, довольно населенные, имеющие хорошее хлебопашество и богатое весьма скотоводство.
К Грузии присоединен Елисаветпольский округ – бывшее ханство Ганжинское… Округ сей богат скотоводством, производит лучшую пшеницу в здешней стране, имеет посевы сарачинского пшена и шелковичные сады. Доходы казне приносит более, нежели прочие округа Грузии».
Говоря о состоянии грузинского общества А.П. Ермолов пишет о том, что обстановка в нем в то время во многом зависела от интриг, которые плелись руками беглого грузинского царевича Александра – сына покойного Ираклия, имевшего покровителей в Персии. Время от времени Александр появлялся в Грузии «сопровождаемый большим числом лезгин, и склонное к измене грузинское дворянство» тут же переходило на его сторону, «увлекая за собой добрый и простодушный черный народ». В результате этих набегов «лезгины, грабежом ненасытные, обогащались добычей, а грузины на глазах подлого беглеца-царевича толпами угонялись в плен и продавались в рабство». За такую поддержку «царевич содействующему ему дворянству раздавал грамоты на имения тех, которые, оставаясь верными правительству, ему противились». При этом отмечалось, что при встрече с русскими войсками лезгины и царевич Александр «знаменитый своей трусостью» всегда обращались в бегство.
Невысокого мнения был А.П. Ермолов и о грузинском дворянстве. Он писал, это сословие в Грузии весьма многочисленное, а «князей столько же… как графов в Польше». При этом ни князья, ни обычные дворяне, как правило, не в состоянии документами подтвердить их права. Большим влиянием пользовались семьи, состоявшие в родстве с царским домом, но предпочтение всегда отдавалось силе и богатству. Поэтому «богатейшим из князей, которые могли поставлять большее число воинов, оказываемо было предпочтение, прощались вины и преступления. Они привыкли к своевольству, и оное нередко переходило в непослушание против царей и даже измены. В Грузии почти нет княжеской фамилии, из которой бы не было несколько изменников в бегах в Персии или Турции».
А.П. Ермолов пишет, что в Имеретии, независимой от Грузии, было учреждено временное правление. Он отмечает, что «бедная сия земля, бывшая до 1810 года особенным царством, заключает в себе пять округов» но ее население «жестокою моровою язвою уменьшено более, нежели наполовину».
Со стороны Черного моря беспокоили Грузию «никакой властью не обуздываемые народы, известные под именем ачарцев и кобулет», а на Абхазию нападали жители гор, которые считали себя подданными Турции.
В южной части Кавказского края находилось ханство Карабахское, которым управлял хан Мехти, имевший чин генерал-майора русской армии. Но отец этого правителя был убит за связь с персами, которых он неоднократно приглашал на свои земли для совместной борьбы с русскими. Сестра хана была замужем за шахом персидским, и брат постоянно общался с ней. Поэтому верность России со стороны карабахского хана была более чем сомнительной.
В то же время Алексей Петрович отмечал, что ханство Карабахское «в 1805 году покорилось первое власти государя. Хан в ознаменование зависимости платил дани восемь тысяч червонцев. С того самого времени войска наши имели пребывание в ханстве, и персияне смотрели с завистью на богатейшую землю сию, доставшуюся в руки наши».
Говоря о состоянии Карабахаского ханства, А.П. Ермолов писал, что его население насчитывает всего около 24 тысяч семейств, так как другая половина либо угнана в плен персами, либо, оставив родную землю, «разошлась по разным местам». Селения Карабаха практически не отстраиваются, «повсюду видны развалины городов и больших деревень, остатки обширных шелковичных садов и земледелия, свидетельствующие о богатом некогда земельном состоянии» края.
«Нынешний хан, не радеющий о благоустройстве земли, доверчивый к окружающим его чиновникам, которые его обманывают, проводит время в распутстве, ничем более не занимаясь, как охотою с собаками или ястребами».
Карабахское ханство граничило с Ширвинским ханством, которым управлял хан Мустафа, имевший чин генерал-лейтенанта русской службы. Этот человек долгое время откровенно враждовал с русскими, а в 1796 году во время прихода в его ханство войск генерала В.А. Зубова, бежал в Турцию. Но когда войска графа Зубова были отозваны в Россию, он вернулся обратно, изгнал поставленного русскими правителя и продолжил правление ханством. До 1806 года Мустафа-хан не признавал над собой власти России, но затем, «видя пример взятия оружием Ганджинского ханства и вошедшего в подданство России ханства Карабахского, он поверг себя в покровительство императора и в знак подданства обязался платить восемь тысяч червонцев дани. Но с переменою состояния своего не переменил он своих свойств…»
В то же время А.П. Ермолов был вынужден признать, что «Мустафа-хан управлял ханством лучше прочих владетелей. Народ им собственно не был отягощен. Но если и терпел некоторое утеснение, то единственно от предоставленной им власти бекам (род дворянства), между коими сделал он многих себе приверженцев. В земле была полиция, нередко наказывалось воровство, с исправностью собирались доходы. Хан жил довольно великолепно и служивших ему нередко награждал щедро».
Со стороны Российского правительства при ширвантском хане находился пристав из офицеров. Но Мустафа-хан, «умел так отделять его, что тот ничего не знал о его связях и поведении, и только собирал некоторые сведения от приверженных нам армян, живущих в Ширване».
Население Ширванского ханства составляло около 20 тысяч семейств. При этом указывалось, что часть населения в летнее время «по причине чрезвычайного зноя удаляется в горы и потому прочной оседлости не имеет. Ханство изобилует шелком, сарачинским пшеном, всякого рода хлебом, имеет на реке Куре богатейшие рыбные ловли и многочисленное скотоводство. Есть там конские заводы, но с кабардинскими не могут сравниться…»
Ширванское ханство граничило со Щекинским ханством, которым управлял хан Измаил, имевший чин генерал-майора русской службы. А.П. Ермолов увидел в нем «человека весьма молодого, наклонностей развратных, в управлении подвластными неправосудного, в наказаниях не только не умеренного, но жестокого, кровожадного». В Тифлис поступало на Измаил-хана множество жалоб. Но хан смог богатыми подарками купить расположение к себе генерала Ртищева и его чиновников, в результате чего вел себя откровенно вызывающе.
Далее шло Талышинское ханство, которое ввиду его разорения персиянами, по словам А.П. Ермолова, «имеет малое народонаселение, доходы весьма скудные, которыми пользуется хан, не платя в казну никакой дани».
Еще одно – недавно образованное Куринское ханство – находилось в управлении полковника хана Аслана, который был ставленником Российского правительства. Незначительное население этого ханства было чрезмерно обременено налогами, которые «чрезвычайно их разоряли».
Далее следовало Казикумыхское ханство, которое находилось во владении Сулхай-хана, «человека самого коварного, готового на всякие злодеяния». Этот хан по древности своего происхождения был весьма уважаемым среди правителей горских народов. Он сразу же выступил против России и участвовал во всех операциях, направленных против русских войск. За это по приказу русского командования Сулхай-хана лишили части его земель, образовав из них Куринское ханство. Сулхай-хан, потерпев поражение, бежал в Турцию. Но затем во времена командования Кавказским корпусом генералом Ртищевым, вернулся на родину и силой оружия изгнал русского ставленника. После этого Сулхай-хан, собрав своих сторонников, укрылся в горах, спускаясь в селения только для сбора дани. Само Казикумыхское ханство, «по словам людей, хорошо его знающих, имеет жителей до 15 тысяч семейств. Хан никакой дани России не платит».
Определенный интерес представляют рассуждения А.П. Ермолова об Аварском ханстве. По его словам это ханство «лежит в середине гор Кавказских, отовсюду почти неприступных, и никогда русские в нем не бывали. Жители оного бедны, ведут жизнь самую суровую, наклонностей воинственных».
Прежний владелец Аварского ханства Умай-хан «был знаменит в здешних странах военными своими подвигами. Не раз он делал удачные на Грузию нападения, разорил серебряные и медные ее заводы…» Неудивительно, что военные удачи Умай-хана «привязали» к нему многие горские народы, которые всегда были алчными до добычи. Поэтому в своих набегах он появлялся, сопровождаемым большими силами. Именно Умай-хан, по мнению Ермолова, приучил аварцев к грабежам, «и Грузия, можно сказать, почти беззащитная, внутренними раздорами истребляемая, удовлетворяла их алчность…
Теперешний Агмед-хан, генерал-майор русской службы, не знаю почему, получает жалованья по пять тысяч рублей серебром, уверяя, что он нам приносит пользу влиянием своим на горские народы Дагестана, которые будь то воздерживает от нападений на Грузию. Хан сей дани никакой не платит, никаких обязанностей на себя не принимал. В Тифлисе содержится от него аманат на казенном иждивении».
Другой дагестанский правитель – умцей Каракайдацкий (провинция соседствующая с Дербентом), хотя и признавал власть России, но всегда поддерживал связь с враждебными ей народами. Имеет зависимость от России, но всегда в связи с народами, нам не благоприятствующими. Время от времени в его землях вспыхивали волнения, но умцей всегда докладывал, что усмирял их собственными силами. В результате этого официальная власть не вмешивалась в дела Каракайдацкой провинции, правитель которой «дани в казну не платит, никаких обязанностей не имеет, за безопасность проезжающих через его владения не ответствует».
Через Каракайдацкие земли даже представители официальной власти «иначе, как с благонадежным конвоем, проезжать не могут». Для нормализации отношений представители русских властей в свое время предлагали правителям каракайдацкому и казикумыхскому «чин генерал-майора с двумя тысячами рублей серебром жалованья». Но они отвергли эти предложения на том основании, что не хотят быть ниже шамхала Тарковского, «который имеет чин генерал-лейтенанта и шесть тысяч рублей ежегодно».
Далее следовали «народы небольшой земли, называемой Табассарань», которые находились в подданстве России, но «по чрезвычайной бедности никакой пользы правительству не приносили».
В то время российское управление также распространялось и на Кубинскую провинцию, к которой были присоединены города Дербента и Баку. На этой территории действовали основные российские законы, «но суд отправлялся по закону и обычаям земли», то есть по местным законам. И хотя жители данной провинции стремились доказывать свою лояльность по отношению к России, но они постоянно находились под угрозой нападения со стороны их бывшего правителя Шах-Али-хан, который скрывался в горах Дагестана и при помощи горцев «нередко с многочисленными толпами нападал на провинцию, все разоряя на своем пути».
Ермолов упоминает также елисеуйского правителя полковника Агмат-бека, во власти которого находилась часть лезгин, спустившихся с гор на равнину. Его власть распространялась на две с половиной тысячи семей.
И, наконец, он пишет о неком Чарском обществе, которое признает зависимость от России. Но присяга на подданство жителями этого общества была неоднократно нарушена. Причина кроется в том, что Чарское общество, которое «управляется избранными старейшинами, худо им повинуется». В обществе сем два класса людей. Высший класс составляют «пришедшие с гор лезгины», которые безраздельно господствуют над остальными. Низший – коренные жители этих земель, которые угнетаются лезгинами.
Особым разделом «Записок» А.П. Ермолова стало описание земель и народов Северного Кавказа, «против Кавказской линии обитающих», в число которых он включил закубанцев, кабардинцев, осетин.
Закубанцы в то время проживали на территории нынешнего Краснодарского края, от вершин по левому берегу реки Кубани. Они считались подвластными Турции и отличались своей воинственностью по отношению к соседям.
Далее следовала Кабарда, «некогда многолюдная, коей жители, почитаемые храбрейшими между горцами». Но кабардинцы, которые одни из первых были приведены к присяге русскому царю, в последующем неоднократно поднимали против него оружие. Это привело к тому, что русские войска время от времени совершали на территорию Кабарды карательные экспедиции, истребляя ее жителей и разоряя селения.
Причиной такого состояния дел А.П. Ермолов видел в том, что «кабардинцы менее чем сто лет назад были идолопоклонниками. Но затем правительство допустило водворение там мусульманской веры. Корыстолюбивые священнослужители приняли на себя разбирательство дел и вскоре все попало под власть их. Князья и лучшие кабардинские фамилии, потеряв всякое влияние, лишились уважения в народе», и Россия уже не имела внутри Кабарды влиятельной силы, на которую могла бы опереться. «Молодые люди знатнейшего происхождения вдались в грабежи и разбои, и между ними отличался тот, кто более мог наносить вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказской линии и отгоняя табуны».
Так Кабарда, некогда союзная России, превратилась в одного из ее злейших врагов. Но на помощь русским пришла моровая язва, которая в короткий срок «уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и произведя опустошение в Большой Кабарде, до того их ослабила, что они не могли уже, как прежде, собираться большими силами». В то же время кабардинцы, не отказавшись от борьбы с русскими, продолжали совершать набеги на Кавказскую линию «малыми партиями», постоянно нанося ей немалый материальный и моральный ущерб.
Рядом с кабардинцами, ближе к Большому Кавказскому хребту, проживали осетины. «Некоторая часть оных в совершенной покорности у кабардинцев… Некоторые из осетин вышли на равнину и заводят селения в окрестностях Владикавказа. Там же, в вершинах реки Сунжи, расположились выселившиеся из гор ингуши, народ воинственный, приведенный в покорность крутыми мерами…»
На Военной дороге, которая вела от Моздока в Грузию, проживали тугарцы – народность, которая признавала власть России.
Далее А.П. Ермолов достаточно подробно описал чеченцев. Это описание настолько точно и красочно, что предлагаем вам его практически без существенных исправлений и дополнений. Итак, Алексей Петрович пишет:
«Ниже по течению Терека живут чеченцы – самые злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или мстить за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников.
Управление оной разделено из рода в род между несколькими фамилиями, кои почитаются старшинами. Имеющие сильные связи и люди богатые более уважаемые. По делам общественным, но более в случаях подготовки нападения или воровства, собираются вместе на совет. Но как все они почитают себя равными, то несколько противных голосов уничтожают предприятия, хотя бы и могли они быть полезными обществу, особенно если голоса сии поданы кем-нибудь из сильных людей.
После возвращения из плена И.П. Дельпоццо был восстановлен на службе и назначен приставом кабардинского народа. На этом посту он проявил недюжий талант администратора. Отказавшись от ранее практиковавшейся политики натравливания князей и уорков друг на друга, он предложил всем сторонам строить жизнь на условиях мирного сосуществования и экономической выгоды. Современник писал: «Родовые суды, составлявшие предмет постоянного неудовольствия кабардинцев, были уничтожены, и власть их вручена почетным ахунам и кадиям. Земли, на которых стояли русские укрепления, были разграничены, и гарнизоны, получив определенное число десятин, обязались под строгой ответственностью наблюдать, чтобы скот их не заходил на смежные дачи кабардинцев. Торговля развивалась потому, что каждый кабардинец свободно являлся на линию для сбыта своих произведений, а в Константиногорске и в Георгиевске с этой целью построены были мечети и при них богатые караван-сараи. Но главным образом Дельпоццо обратил внимание на воспитание молодого поколения – в двух наиболее важных пунктах, Георгиевске и Екатеринограде, устроил школы, в которые поступали дети кабардинских владельцев и князей; по окончании здесь курса их предполагалось отправлять в кадетские корпуса и выпускать офицерами в армию».
По сути дела генерал И.П. Дельпоццо разработал и начал осуществлять комплексную программу преобразования края. Но кабардинцы оказались морально не подготовленными к жизни в новых условиях. С уничтожением родовых судов постоянными стали случаи подкупа духовенства при рассмотрении спорных вопросов, которое, к тому же, всегда стремилось вести дело не в интересах улучшения отношений аборигенов с Россией, а на благо единоверной Турции. Это нередко приводило к тому, что виновный выигрывал судебное дело лишь потому, что не дружил с русскими гяурами. Разграничение земель вызывало постоянные споры на линии. Мечети и караван-сараи, стоившие казне больших денег, зачастую пустовали. Князья и старшины присылали детей в русские школы, но весьма неохотно затем направляли их в кадетские корпуса. Рядовые кабардинцы, широко пользуясь торговыми льготами и свободой перемещения на линии, не упускали возможности ограбить русских. Они угоняли скот, захватывали пленных, которых затем продавали в рабство в горные аулы.
Полным провалом завершилась попытка Дельпоццо использовать кабардинцев для борьбы с чеченцами на стороне русского командования. Соблазнившись деньгами и возможной добычей, некоторые князья и уорки собрали для похода отряды. Он они дошли только до Сунжи, а дальше идти отказались. Русское командование должно было отказаться от помощи горцев и распустить их ополчение по домам. По этому поводу Гудович писал Дельпоццо: «Крайне сожалею, что кабардинцев не удалось употребить в настоящее дело с чеченцами, ибо вся цель моя была та, чтобы поссорить эти два народа между собой, поселить между ними вражду и этим самим со временем их ослабить».
Потерпев фиаско в устройстве Кабарды, в 1810 году Дельпоццо стал комендантом Владикавказской крепости, где занялся налаживанием российско-ингушских отношений. В этом деле ему удалось добиться определенных успехов, но уже не только мирными средствами.
До этого времени ингуши, обитавшие в верховьях Сунжи, не признавали над собой власть России и враждовали с осетинами, многие из которых состояли на российской службе. Этой враждой умело пользовались чеченцы, которые проходили через ингушские земли и разоряли окрестности Владикавказа. В 1810 году произошел очередной опустошительный набег, но русским и осетинам удалось не только удержать Владикавказ, но и нанести чеченцам поражение под его стенами. Хищники, обремененные добычей, начали медленно уходить на восток через ингушские земли.
Дельпоццо решил воспользоваться ситуацией и обратился за помощью к ингушам, пообещав им богатую добычу. Соблазнившись, те ударили чеченцам в тыл, в результате чего разбойники были почти полностью уничтожены. Правда, после этого отношения между чеченцами и ингушами испортились. Появилась угроза нападения воинственных горцев на Назрань и другие села. Для их защиты Дельпоццо предложил разместить в Назрани русский гарнизон, что было ингушами с благодарностью принято. Это был большой успех, учитывая близость ингушей к Военно-Грузинской дороге.
Чеченцы, населявшие равнинную часть, также со временем начали сотрудничать с российскими властями. Нередко к такому сотрудничеству удавалось склонить и некоторых вождей горных чеченцев. Так, известный Шали Бей-Булат Таймиев 6 сентября 1807 года вместе со своим товарищем сдался русским властям. Он был пожалован чином поручика с годовым окладом в 250 рублей. Некоторое время этот человек в форме русского офицера гордо разъезжал по Тифлису, но в начале следующего года за организацию нападений на казацкие станицы он был лишен чина и жалованья. После этого он стал главным организатором набегов чеченцев на русскую линию.
31 мая 1811 года Шали Бей-Булат Таймиев возвратился на русскую службу, но спустя некоторое время, захватив в заложники майора Швецова, вновь ушел в горы и затребовал за пленного крупный выкуп. И снова ему удалось получить деньги и начать с русским командованием двойную игру.
Новый главнокомандующий генерал Ртищев поручил И.П. Дельпоццо командование 19-й пехотной дивизией, части которой составляли основную военную силу на Кавказской линии. Однако в этой должности старый генерал ничем себя не проявил и в 1816 году был переведен комендантом в Астрахань. Там он и умер 12 февраля 1821 года на 83-м году жизни.
Глава 5
Эпоха Ермолова
Кавказский край в 1816 году
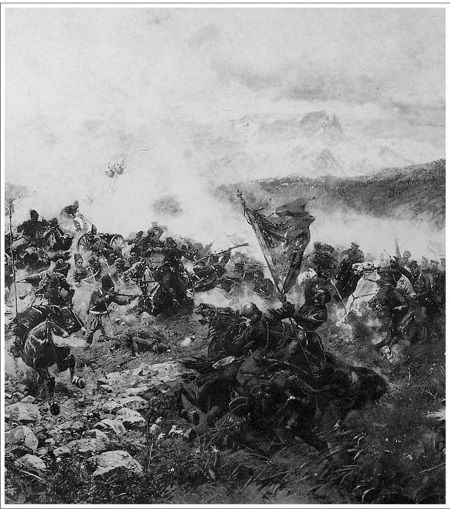
Кавказский край, который постоянно раздирали внутренние распри, периодически захватывали турецкие, персидские и русские войска, постоянно менялся. Возникали одни государственные образования и исчезали другие, постоянно сменялись правители этих образований, перемешивались народы. В то же время каждый из народов максимально стремился соблюсти свою территорию, язык, веру и обычаи. В результате этого возникали войны, которые зачастую приобретали характер затяжного вооруженного конфликта. С появлением на Кавказе русских войск и администрации эти войны и конфликты стали более редкими, что привело к стабилизации обстановки на Кавказе настолько, что появилась возможность составить более или менее полное описание этого края.
Это и сделал в своих Записках А.П. Ермолов, который в 1816 году был назначен командиром Кавказского корпуса, а значит, и наместником Российского императора в Кавказском крае. Обладая наблюдательностью исследователя и немалым писательским талантом, Алексей Петрович достаточно ярко и красочно описал все кавказские земли и дал меткие характеристики их правителям. Позже ермоловские Записки были опубликованы, благодаря чему потомки получили возможность взглянуть на Кавказ глазами крупного российского администратора первой четверти XIX века.
Безусловно, А.П. Ермолов был не только человеком своего времени, но и крупным военачальником. Его литературный язык пестрит словами и эпитетами, которые могут «резать» слух человека XXI века. Поэтому мы решили позволить себе некоторые объяснения и отступления от текста автора. Также надо понимать, что как военачальник Алексей Петрович смотрит на Кавказ как на поле предстоящей битвы, не вдаваясь в особенности религии, культуры и обычаев его народов. Это большой минус, с которым можно смириться только ввиду отсутствия других источников.
И все же, только благодаря обстоятельным Запискам А.П. Ермолова можно достаточно ясно представить себе положение почти всех административных единиц Кавказского края по состоянию на 1816 год, получить сведения об их населении и правителях. Поэтому мы берем на себя смелость с небольшими исправлениями и дополнениями практически процитировать раздел Записок А.П. Ермолова, касающихся устройства Кавказского края:
«Грузия постоянно занята нашими войсками и в ней вводится постепенно наш образ управления при действии собственных законов, составленных царем Вахтангом, коим сохранена прежняя сила.
Грузию собственно составляют: Карталиния, округ чрезвычайно хлебородный; Кахетия, разделенная на Телавский и Сигнахский уезды, из коих первый изобилует прекраснейшими виноградниками; последний, не столько много занимаясь разведением садов, имеет довольно обширное хлебопашество. Карталинии принадлежит часть осетин, живущих в горах. В недавнем времени они начали принимать христианскую веру. Успехи оной, хотя еще очень ничтожные, но можно надеяться, что, получив более доверенности к правительству, ибо приемлющим крещение оказывается особое внимание, они переменят зверские свои обычаи и наклонности к воровству.
Кахетия разоряема была многолюдными толпами сходящих с гор лезгин. На Карталинию нападали соседние с ней осетины и лезгины, которых содержал у себя ахалцыхский паша, не взирая на существующий мир между Россиею и Портой.
С Кахетиею смежны небольшие земли, в коих живут народы, именуемые пшавцы и тушинцы, издавна покорствовавшие грузинским царям. Они имеют богатое весьма скотоводство, наклонностей воинственных, верны правительству. Над ними от начальства поставлен пристав из грузин, ибо необходимо знать язык. Не всегда же повинуются они надлежащим образом и доселе почти в диком состоянии.
Сомхетия, войнами опустошенная, почти никакого населения не имеет. Бамбаки и Шурагель, малые весьма округа, в последнюю с Персией войну разоренные, в коих и доселе мало жителей. Дистанции татарские: Барчалинская, Казахская и Шамшадильская, довольно населенные, имеющие хорошее хлебопашество и богатое весьма скотоводство.
К Грузии присоединен Елисаветпольский округ – бывшее ханство Ганжинское… Округ сей богат скотоводством, производит лучшую пшеницу в здешней стране, имеет посевы сарачинского пшена и шелковичные сады. Доходы казне приносит более, нежели прочие округа Грузии».
Говоря о состоянии грузинского общества А.П. Ермолов пишет о том, что обстановка в нем в то время во многом зависела от интриг, которые плелись руками беглого грузинского царевича Александра – сына покойного Ираклия, имевшего покровителей в Персии. Время от времени Александр появлялся в Грузии «сопровождаемый большим числом лезгин, и склонное к измене грузинское дворянство» тут же переходило на его сторону, «увлекая за собой добрый и простодушный черный народ». В результате этих набегов «лезгины, грабежом ненасытные, обогащались добычей, а грузины на глазах подлого беглеца-царевича толпами угонялись в плен и продавались в рабство». За такую поддержку «царевич содействующему ему дворянству раздавал грамоты на имения тех, которые, оставаясь верными правительству, ему противились». При этом отмечалось, что при встрече с русскими войсками лезгины и царевич Александр «знаменитый своей трусостью» всегда обращались в бегство.
Невысокого мнения был А.П. Ермолов и о грузинском дворянстве. Он писал, это сословие в Грузии весьма многочисленное, а «князей столько же… как графов в Польше». При этом ни князья, ни обычные дворяне, как правило, не в состоянии документами подтвердить их права. Большим влиянием пользовались семьи, состоявшие в родстве с царским домом, но предпочтение всегда отдавалось силе и богатству. Поэтому «богатейшим из князей, которые могли поставлять большее число воинов, оказываемо было предпочтение, прощались вины и преступления. Они привыкли к своевольству, и оное нередко переходило в непослушание против царей и даже измены. В Грузии почти нет княжеской фамилии, из которой бы не было несколько изменников в бегах в Персии или Турции».
А.П. Ермолов пишет, что в Имеретии, независимой от Грузии, было учреждено временное правление. Он отмечает, что «бедная сия земля, бывшая до 1810 года особенным царством, заключает в себе пять округов» но ее население «жестокою моровою язвою уменьшено более, нежели наполовину».
Со стороны Черного моря беспокоили Грузию «никакой властью не обуздываемые народы, известные под именем ачарцев и кобулет», а на Абхазию нападали жители гор, которые считали себя подданными Турции.
В южной части Кавказского края находилось ханство Карабахское, которым управлял хан Мехти, имевший чин генерал-майора русской армии. Но отец этого правителя был убит за связь с персами, которых он неоднократно приглашал на свои земли для совместной борьбы с русскими. Сестра хана была замужем за шахом персидским, и брат постоянно общался с ней. Поэтому верность России со стороны карабахского хана была более чем сомнительной.
В то же время Алексей Петрович отмечал, что ханство Карабахское «в 1805 году покорилось первое власти государя. Хан в ознаменование зависимости платил дани восемь тысяч червонцев. С того самого времени войска наши имели пребывание в ханстве, и персияне смотрели с завистью на богатейшую землю сию, доставшуюся в руки наши».
Говоря о состоянии Карабахаского ханства, А.П. Ермолов писал, что его население насчитывает всего около 24 тысяч семейств, так как другая половина либо угнана в плен персами, либо, оставив родную землю, «разошлась по разным местам». Селения Карабаха практически не отстраиваются, «повсюду видны развалины городов и больших деревень, остатки обширных шелковичных садов и земледелия, свидетельствующие о богатом некогда земельном состоянии» края.
«Нынешний хан, не радеющий о благоустройстве земли, доверчивый к окружающим его чиновникам, которые его обманывают, проводит время в распутстве, ничем более не занимаясь, как охотою с собаками или ястребами».
Карабахское ханство граничило с Ширвинским ханством, которым управлял хан Мустафа, имевший чин генерал-лейтенанта русской службы. Этот человек долгое время откровенно враждовал с русскими, а в 1796 году во время прихода в его ханство войск генерала В.А. Зубова, бежал в Турцию. Но когда войска графа Зубова были отозваны в Россию, он вернулся обратно, изгнал поставленного русскими правителя и продолжил правление ханством. До 1806 года Мустафа-хан не признавал над собой власти России, но затем, «видя пример взятия оружием Ганджинского ханства и вошедшего в подданство России ханства Карабахского, он поверг себя в покровительство императора и в знак подданства обязался платить восемь тысяч червонцев дани. Но с переменою состояния своего не переменил он своих свойств…»
В то же время А.П. Ермолов был вынужден признать, что «Мустафа-хан управлял ханством лучше прочих владетелей. Народ им собственно не был отягощен. Но если и терпел некоторое утеснение, то единственно от предоставленной им власти бекам (род дворянства), между коими сделал он многих себе приверженцев. В земле была полиция, нередко наказывалось воровство, с исправностью собирались доходы. Хан жил довольно великолепно и служивших ему нередко награждал щедро».
Со стороны Российского правительства при ширвантском хане находился пристав из офицеров. Но Мустафа-хан, «умел так отделять его, что тот ничего не знал о его связях и поведении, и только собирал некоторые сведения от приверженных нам армян, живущих в Ширване».
Население Ширванского ханства составляло около 20 тысяч семейств. При этом указывалось, что часть населения в летнее время «по причине чрезвычайного зноя удаляется в горы и потому прочной оседлости не имеет. Ханство изобилует шелком, сарачинским пшеном, всякого рода хлебом, имеет на реке Куре богатейшие рыбные ловли и многочисленное скотоводство. Есть там конские заводы, но с кабардинскими не могут сравниться…»
Ширванское ханство граничило со Щекинским ханством, которым управлял хан Измаил, имевший чин генерал-майора русской службы. А.П. Ермолов увидел в нем «человека весьма молодого, наклонностей развратных, в управлении подвластными неправосудного, в наказаниях не только не умеренного, но жестокого, кровожадного». В Тифлис поступало на Измаил-хана множество жалоб. Но хан смог богатыми подарками купить расположение к себе генерала Ртищева и его чиновников, в результате чего вел себя откровенно вызывающе.
Далее шло Талышинское ханство, которое ввиду его разорения персиянами, по словам А.П. Ермолова, «имеет малое народонаселение, доходы весьма скудные, которыми пользуется хан, не платя в казну никакой дани».
Еще одно – недавно образованное Куринское ханство – находилось в управлении полковника хана Аслана, который был ставленником Российского правительства. Незначительное население этого ханства было чрезмерно обременено налогами, которые «чрезвычайно их разоряли».
Далее следовало Казикумыхское ханство, которое находилось во владении Сулхай-хана, «человека самого коварного, готового на всякие злодеяния». Этот хан по древности своего происхождения был весьма уважаемым среди правителей горских народов. Он сразу же выступил против России и участвовал во всех операциях, направленных против русских войск. За это по приказу русского командования Сулхай-хана лишили части его земель, образовав из них Куринское ханство. Сулхай-хан, потерпев поражение, бежал в Турцию. Но затем во времена командования Кавказским корпусом генералом Ртищевым, вернулся на родину и силой оружия изгнал русского ставленника. После этого Сулхай-хан, собрав своих сторонников, укрылся в горах, спускаясь в селения только для сбора дани. Само Казикумыхское ханство, «по словам людей, хорошо его знающих, имеет жителей до 15 тысяч семейств. Хан никакой дани России не платит».
Определенный интерес представляют рассуждения А.П. Ермолова об Аварском ханстве. По его словам это ханство «лежит в середине гор Кавказских, отовсюду почти неприступных, и никогда русские в нем не бывали. Жители оного бедны, ведут жизнь самую суровую, наклонностей воинственных».
Прежний владелец Аварского ханства Умай-хан «был знаменит в здешних странах военными своими подвигами. Не раз он делал удачные на Грузию нападения, разорил серебряные и медные ее заводы…» Неудивительно, что военные удачи Умай-хана «привязали» к нему многие горские народы, которые всегда были алчными до добычи. Поэтому в своих набегах он появлялся, сопровождаемым большими силами. Именно Умай-хан, по мнению Ермолова, приучил аварцев к грабежам, «и Грузия, можно сказать, почти беззащитная, внутренними раздорами истребляемая, удовлетворяла их алчность…
Теперешний Агмед-хан, генерал-майор русской службы, не знаю почему, получает жалованья по пять тысяч рублей серебром, уверяя, что он нам приносит пользу влиянием своим на горские народы Дагестана, которые будь то воздерживает от нападений на Грузию. Хан сей дани никакой не платит, никаких обязанностей на себя не принимал. В Тифлисе содержится от него аманат на казенном иждивении».
Другой дагестанский правитель – умцей Каракайдацкий (провинция соседствующая с Дербентом), хотя и признавал власть России, но всегда поддерживал связь с враждебными ей народами. Имеет зависимость от России, но всегда в связи с народами, нам не благоприятствующими. Время от времени в его землях вспыхивали волнения, но умцей всегда докладывал, что усмирял их собственными силами. В результате этого официальная власть не вмешивалась в дела Каракайдацкой провинции, правитель которой «дани в казну не платит, никаких обязанностей не имеет, за безопасность проезжающих через его владения не ответствует».
Через Каракайдацкие земли даже представители официальной власти «иначе, как с благонадежным конвоем, проезжать не могут». Для нормализации отношений представители русских властей в свое время предлагали правителям каракайдацкому и казикумыхскому «чин генерал-майора с двумя тысячами рублей серебром жалованья». Но они отвергли эти предложения на том основании, что не хотят быть ниже шамхала Тарковского, «который имеет чин генерал-лейтенанта и шесть тысяч рублей ежегодно».
Далее следовали «народы небольшой земли, называемой Табассарань», которые находились в подданстве России, но «по чрезвычайной бедности никакой пользы правительству не приносили».
В то время российское управление также распространялось и на Кубинскую провинцию, к которой были присоединены города Дербента и Баку. На этой территории действовали основные российские законы, «но суд отправлялся по закону и обычаям земли», то есть по местным законам. И хотя жители данной провинции стремились доказывать свою лояльность по отношению к России, но они постоянно находились под угрозой нападения со стороны их бывшего правителя Шах-Али-хан, который скрывался в горах Дагестана и при помощи горцев «нередко с многочисленными толпами нападал на провинцию, все разоряя на своем пути».
Ермолов упоминает также елисеуйского правителя полковника Агмат-бека, во власти которого находилась часть лезгин, спустившихся с гор на равнину. Его власть распространялась на две с половиной тысячи семей.
И, наконец, он пишет о неком Чарском обществе, которое признает зависимость от России. Но присяга на подданство жителями этого общества была неоднократно нарушена. Причина кроется в том, что Чарское общество, которое «управляется избранными старейшинами, худо им повинуется». В обществе сем два класса людей. Высший класс составляют «пришедшие с гор лезгины», которые безраздельно господствуют над остальными. Низший – коренные жители этих земель, которые угнетаются лезгинами.
Особым разделом «Записок» А.П. Ермолова стало описание земель и народов Северного Кавказа, «против Кавказской линии обитающих», в число которых он включил закубанцев, кабардинцев, осетин.
Закубанцы в то время проживали на территории нынешнего Краснодарского края, от вершин по левому берегу реки Кубани. Они считались подвластными Турции и отличались своей воинственностью по отношению к соседям.
Далее следовала Кабарда, «некогда многолюдная, коей жители, почитаемые храбрейшими между горцами». Но кабардинцы, которые одни из первых были приведены к присяге русскому царю, в последующем неоднократно поднимали против него оружие. Это привело к тому, что русские войска время от времени совершали на территорию Кабарды карательные экспедиции, истребляя ее жителей и разоряя селения.
Причиной такого состояния дел А.П. Ермолов видел в том, что «кабардинцы менее чем сто лет назад были идолопоклонниками. Но затем правительство допустило водворение там мусульманской веры. Корыстолюбивые священнослужители приняли на себя разбирательство дел и вскоре все попало под власть их. Князья и лучшие кабардинские фамилии, потеряв всякое влияние, лишились уважения в народе», и Россия уже не имела внутри Кабарды влиятельной силы, на которую могла бы опереться. «Молодые люди знатнейшего происхождения вдались в грабежи и разбои, и между ними отличался тот, кто более мог наносить вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказской линии и отгоняя табуны».
Так Кабарда, некогда союзная России, превратилась в одного из ее злейших врагов. Но на помощь русским пришла моровая язва, которая в короткий срок «уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и произведя опустошение в Большой Кабарде, до того их ослабила, что они не могли уже, как прежде, собираться большими силами». В то же время кабардинцы, не отказавшись от борьбы с русскими, продолжали совершать набеги на Кавказскую линию «малыми партиями», постоянно нанося ей немалый материальный и моральный ущерб.
Рядом с кабардинцами, ближе к Большому Кавказскому хребту, проживали осетины. «Некоторая часть оных в совершенной покорности у кабардинцев… Некоторые из осетин вышли на равнину и заводят селения в окрестностях Владикавказа. Там же, в вершинах реки Сунжи, расположились выселившиеся из гор ингуши, народ воинственный, приведенный в покорность крутыми мерами…»
На Военной дороге, которая вела от Моздока в Грузию, проживали тугарцы – народность, которая признавала власть России.
Далее А.П. Ермолов достаточно подробно описал чеченцев. Это описание настолько точно и красочно, что предлагаем вам его практически без существенных исправлений и дополнений. Итак, Алексей Петрович пишет:
«Ниже по течению Терека живут чеченцы – самые злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или мстить за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников.
Управление оной разделено из рода в род между несколькими фамилиями, кои почитаются старшинами. Имеющие сильные связи и люди богатые более уважаемые. По делам общественным, но более в случаях подготовки нападения или воровства, собираются вместе на совет. Но как все они почитают себя равными, то несколько противных голосов уничтожают предприятия, хотя бы и могли они быть полезными обществу, особенно если голоса сии поданы кем-нибудь из сильных людей.
