Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стапи, находящейся на южном берегу полуострова Снайфедльснее, у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около двадцати двух миль пути, которые дядюшка рассчитывал пройти в два дня.
Но когда он узнал, что речь идет о датских милях, в двадцать четыре тысячи футов каждая, пришлось отказаться от своей мысли и, считаясь с неудовлетворительным состоянием дорог, примириться с переходом в семь или восемь дней.
Пришлось достать четырех лошадей – двух верховых, для дяди и для меня, и двух для нашего багажа. Ганс, по привычке, отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь.
С нашим прибытием в Стапи его служебные обязанности не кончались; он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в три рейхсталера. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается нашему проводнику раз в неделю, в субботу вечером.
Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику до пешего хождения, но он отказался взять деньги вперед.
– Efter, – сказал он.
– После, – перевел мне профессор.
Когда договор был заключен, Ганс удалился.
– Превосходный человек! – воскликнул дядя. – Но он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть.
– Стало быть, он будет сопровождать нас до…
– Да, Аксель, до самого центра Земли.
До отъезда оставалось еще двое суток. К моему большому огорчению, их пришлось употребить на сборы. Все силы нашего ума были направлены к тому, чтобы разместить вещи как можно удобнее: приборы в одно место, оружие в другое, инструменты – в этот тюк, съестные припасы – в тот. В общем получились четыре группы предметов. В числе приборов находились:
1) Стоградусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что мы тогда все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи.
2) Манометр для измерения атмосферного давления, который мог указывать давление, превышающее давление атмосферы на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска под поверхность Земли.
3) Женевский хронометр Буассона младшего, выверенный по гамбургскому времени.
4) Два компаса для определения склонения и наклонения.
5) Ночная подзорная труба.
6) Два аппарата Румкорфа, которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места.
Оружие состояло из двух карабинов системы «Пердли Мор и Кo» и двух револьверов Кольта. Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего было бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядюшка, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее, чем приборами, в особенности порядочным запасом пироксилина, не подверженного влиянию сырости и разрушительная сила которого гораздо значительнее, чем сила обыкновенного пороха.
Инструменты состояли из двух мотыг, двух кирок, веревочной шелковой лестницы, трех железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных веревок с узлами. Все это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в триста футов длиной.
Наконец, были еще и съестные припасы: небольшой, но утешительный мешок содержал шестимесячный запас концентрированного мяса и сухарей; можжевеловая водка была единственным напитком, а воды совершенно не было, но у нас имелись тыквенные фляжки, и дядя рассчитывал наполнять их из источников. Возражения, которые я приводил относительно состава этих последних, температуры и даже их существования, были оставлены без внимания.
Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей тупоносые ножницы, лубки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и компрессы, пластырь, таз для кровопускания – одним словом, страшные вещи; множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран, свинцовой примочкой, эфиром, уксусом и нашатырем, – лекарства малоуспокоительного свойства; и, наконец, вещества, необходимые для аппаратов Румкорфа.
Дядюшка не забыл также табак, порох и трут, а равным образом и кожаный пояс, который он носил вокруг бедер, с достаточным запасом золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находились также шесть пар крепких башмаков, непромокаемых благодаря прекрасной, прочной резиновой подошве.
– С таким снаряжением и запасами, – сказал дядя, – нам нечего бояться далекого путешествия.
Весь день 14 июня был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампе, в обществе бургомистра Рейкьявика и доктора Хуальталина, главного врача страны. Г-на Фридриксона не было среди гостей; впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишен возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине. Я заметил только, что дядюшка говорил не умолкая.
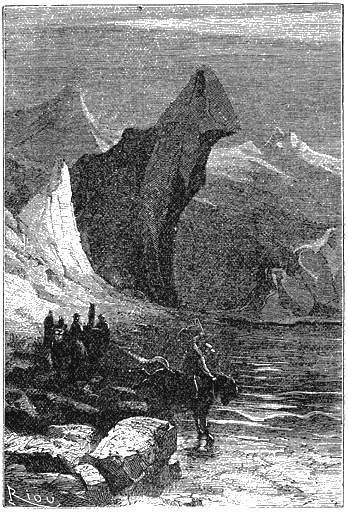 На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсеном, в масштабе 1:480 000, и изданную исландским Литературным обществом на основании геодезических работ Шееля Фризака и топографических съемок Бьерна Гумлаугсона. Для минералога это был драгоценный документ.
На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсеном, в масштабе 1:480 000, и изданную исландским Литературным обществом на основании геодезических работ Шееля Фризака и топографических съемок Бьерна Гумлаугсона. Для минералога это был драгоценный документ.
Последний вечер был проведен в дружеской беседе с г-ном Фридриксоном, к которому я чувствовал живейшую симпатию; за этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере для меня.
В пять часов утра меня разбудило ржание целой четверки лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания.
К шести часам все было готово. Г-н Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес по-латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие; потом мы сели на лошадей, и г-н Фридриксон крикнул нам вслед, на прощание, стих Виргилия:
Но когда он узнал, что речь идет о датских милях, в двадцать четыре тысячи футов каждая, пришлось отказаться от своей мысли и, считаясь с неудовлетворительным состоянием дорог, примириться с переходом в семь или восемь дней.
Пришлось достать четырех лошадей – двух верховых, для дяди и для меня, и двух для нашего багажа. Ганс, по привычке, отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь.
С нашим прибытием в Стапи его служебные обязанности не кончались; он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в три рейхсталера. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается нашему проводнику раз в неделю, в субботу вечером.
Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику до пешего хождения, но он отказался взять деньги вперед.
– Efter, – сказал он.
– После, – перевел мне профессор.
Когда договор был заключен, Ганс удалился.
– Превосходный человек! – воскликнул дядя. – Но он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть.
– Стало быть, он будет сопровождать нас до…
– Да, Аксель, до самого центра Земли.
До отъезда оставалось еще двое суток. К моему большому огорчению, их пришлось употребить на сборы. Все силы нашего ума были направлены к тому, чтобы разместить вещи как можно удобнее: приборы в одно место, оружие в другое, инструменты – в этот тюк, съестные припасы – в тот. В общем получились четыре группы предметов. В числе приборов находились:
1) Стоградусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что мы тогда все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи.
2) Манометр для измерения атмосферного давления, который мог указывать давление, превышающее давление атмосферы на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска под поверхность Земли.
3) Женевский хронометр Буассона младшего, выверенный по гамбургскому времени.
4) Два компаса для определения склонения и наклонения.
5) Ночная подзорная труба.
6) Два аппарата Румкорфа, которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места.
Оружие состояло из двух карабинов системы «Пердли Мор и Кo» и двух револьверов Кольта. Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего было бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядюшка, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее, чем приборами, в особенности порядочным запасом пироксилина, не подверженного влиянию сырости и разрушительная сила которого гораздо значительнее, чем сила обыкновенного пороха.
Инструменты состояли из двух мотыг, двух кирок, веревочной шелковой лестницы, трех железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных веревок с узлами. Все это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в триста футов длиной.
Наконец, были еще и съестные припасы: небольшой, но утешительный мешок содержал шестимесячный запас концентрированного мяса и сухарей; можжевеловая водка была единственным напитком, а воды совершенно не было, но у нас имелись тыквенные фляжки, и дядя рассчитывал наполнять их из источников. Возражения, которые я приводил относительно состава этих последних, температуры и даже их существования, были оставлены без внимания.
Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей тупоносые ножницы, лубки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и компрессы, пластырь, таз для кровопускания – одним словом, страшные вещи; множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран, свинцовой примочкой, эфиром, уксусом и нашатырем, – лекарства малоуспокоительного свойства; и, наконец, вещества, необходимые для аппаратов Румкорфа.
Дядюшка не забыл также табак, порох и трут, а равным образом и кожаный пояс, который он носил вокруг бедер, с достаточным запасом золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находились также шесть пар крепких башмаков, непромокаемых благодаря прекрасной, прочной резиновой подошве.
– С таким снаряжением и запасами, – сказал дядя, – нам нечего бояться далекого путешествия.
Весь день 14 июня был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампе, в обществе бургомистра Рейкьявика и доктора Хуальталина, главного врача страны. Г-на Фридриксона не было среди гостей; впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишен возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине. Я заметил только, что дядюшка говорил не умолкая.
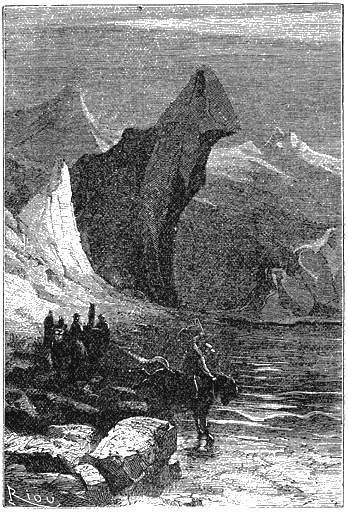
Последний вечер был проведен в дружеской беседе с г-ном Фридриксоном, к которому я чувствовал живейшую симпатию; за этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере для меня.
В пять часов утра меня разбудило ржание целой четверки лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания.
К шести часам все было готово. Г-н Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес по-латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие; потом мы сели на лошадей, и г-н Фридриксон крикнул нам вслед, на прощание, стих Виргилия:
«Et quacumque viam dederit fortuna sequamur!»[7]
12
Когда мы выехали, небо было пасмурно, но барометр стоял без перемен. Поэтому не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туриста!
Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи.
«В самом деле, – рассуждал я, – чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае – спуск в ее потухший кратер! Очевидно, что Сакнуссем ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который вел к центру Земли, – это сущая фантазия! Полнейшая бессмыслица! Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном».
Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика.
Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом; за ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и, право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище.
Исландия – один из крупнейших островов Европы. При поверхности в тысячу четыреста квадратных миль[8] она насчитывает только шестьдесят тысяч жителей. Географы делят ее на четыре» части; и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров»: «Sud-vestr Fjordungr».
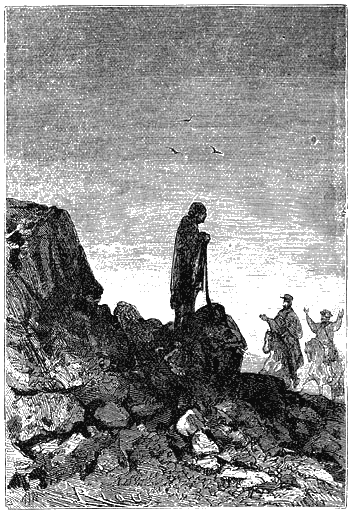 По выходе из Рейкьявика Ганс взял направление вдоль морского берега. Мы ехали среди безлюдных тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Холмистые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты туманной дымкой; то тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, слепящие глаз при рассеянном свете туманного утра. То тут, то там смело вздымались ввысь горные шпили, прорезая насквозь свинцовые тучи и вновь возникая над этими плавучими массами пара.
По выходе из Рейкьявика Ганс взял направление вдоль морского берега. Мы ехали среди безлюдных тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Холмистые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты туманной дымкой; то тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, слепящие глаз при рассеянном свете туманного утра. То тут, то там смело вздымались ввысь горные шпили, прорезая насквозь свинцовые тучи и вновь возникая над этими плавучими массами пара.
Часто эти цепи голых скал заполняли равнину, преграждая путь к морю, но и тогда оставалось еще достаточно места для проезда. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали более удобные места, не замедляя притом шага. Дядюшке так и не пришлось ни разу подогнать свою лошадь окриком или хлыстом: у него не было повода выказывать свое нетерпение. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него: он быт слишком велик для своей лошадки, его длинные ноги почти волочились по земле, и он походил на какого-то шестиногого кентавра.
– Славная скотинка, славная скотинка! – говорил он. – Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает: ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники; она смела, осторожна, надежна; никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь, в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега! Но не будем ее подгонять, предоставим ее самой себе, и мы пройдем в среднем по десяти лье в день.
– Мы, пожалуй, – отвечал я, – а проводник?
– О нем-то я не беспокоюсь! Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает так автоматически, что ничуть не устанет. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь; меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах.
Между тем мы быстро шли к цели. Местность стала уже несколько более пустынной. Изредка встречалась уединенная ферма, какой-нибудь boer[9], построенный из дерева, земли, кусков лавы, – словно нищий у края дороги! Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих, и, верно, брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как бы ни жалка была растительность, все же она скоро заглушала следы редких путешественников.
И, однако, эта часть провинции, находящаяся совсем рядом со столицей, принадлежала к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой местности, еще более пустынные, чем эта пустыня? Мы прошли уже полмили и не видели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стадо, не менее дикое, чем он сам; только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою местности, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям?
Нам предстояло познакомиться с ними позже; но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивалась преимущественно внутренней частью острова; там именно находятся те горизонтально наваленные друг на друга скалы, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из покровов трахита, базальта, вулканических туфов, потоков лавы и расплавленного порфира, которые придают острову его сверхъестественный, страшный вид. Я не подозревал еще тогда, какое зрелище ожидает нас на Снайфедльском полуострове, где эти опустошения бушующей природы создают зловещий хаос.
Через два часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого «Aoalkirkja», или «Главная церковь». Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии эти городские здания едва составили бы деревушку.
Тут Ганс сделал получасовую остановку; он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать:
– Гардар, – сказал он коротко.
Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хваль-фьорда, в четырех милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на это дядюшке, он сказал:
– Только четыре мили! Четыре мили из двадцати двух! Всего только порядочная прогулка.
Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди своих лошадей.
Три часа спустя, проезжая по-прежнему среди тех же пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Коллафьорд; окольный путь был более короток и легок, чем переправа через залив. Мы прибыли в «pingstaoer», местечко Эюльберг, резиденцию окружного суда, когда на колокольне пробило бы двенадцать, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств для того, чтобы купить башенный часы. Впрочем, прихожане тоже не носят часов, потому что не имеют их.
Здесь лошади были накормлены; дальше мы проехали по узкой прибрежной дороге, между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской «Главной церкви» и еще на милю дальше, до Заурбоерской «Annexia», заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хваль-фьорда.
Было четыре часа. Мы прошли всего четыре мили.
В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили; морские волны разбивались с шумом о крутые, остроконечные скалы: залив лежал среди отвесных скалистых стен, поднимавшихся на высоту трех тысяч футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались с красноватыми пластами туфа. Как ни смышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал в том случае, если бы мы попытались переправиться через этот пролив на спинах четвероногих.
– Если они умны, – сказал я, – они и не будут пытаться переправиться. Во всяком случае, я попробую быть благоразумнее их.
Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуяв близость воды, остановилось; но дядюшка, полагаясь на собственный инстинкт, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только лягалась, намереваясь, по-видимому, сбросить своего всадника. Наконец, она подогнула ноги и проскользнула между длинными ногами профессора, поэтому он остался стоять на двух обломках скалы, подобно Колоссу Родосскому.
– Ах ты проклятое животное! – вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
– Farja, – оказал проводник, тронув его за плечо.
– Как, паром?
– Der[10], – ответил Ганс, указывая на плот.
– Конечно! – воскликнул я. – Вот там паром!
– Надо было об этом раньше сказать! Ну, ладно, в путь!
– Tidvatten, – продолжал проводник.
– Что он говорит?
– Он говорит – прилив, – отвечал дядя, переводя мне датское слово.
– Во всяком случае, нам придется дождаться прилива.
– Farbida?[11] – спросил дядя.
– Ja[12], – отвечал Ганс.
Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Мне было вполне понятно, что, для того чтобы переправиться через фьорд, необходимо выждать минуту, пока вода дойдет до наибольшей высоты и не будет уже ни подниматься, ни опускаться, потому что тогда нет течения ни в том, ни в другом направлении и паром не подвергается опасности быть унесенным или вглубь залива, или в открытый океан.
Этот благоприятный момент наступил лишь в шесть часов вечера. Мой дядюшка, я сам, наш проводник, два паромщика и четыре лошади поместились на довольно утлой плоской барке. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников казались мне жалким орудием. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы все-таки благополучно переправились.
Через полчаса мы прибыли в «Aoalkirkja» Гардара.
Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи.
«В самом деле, – рассуждал я, – чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае – спуск в ее потухший кратер! Очевидно, что Сакнуссем ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который вел к центру Земли, – это сущая фантазия! Полнейшая бессмыслица! Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном».
Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика.
Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом; за ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и, право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище.
Исландия – один из крупнейших островов Европы. При поверхности в тысячу четыреста квадратных миль[8] она насчитывает только шестьдесят тысяч жителей. Географы делят ее на четыре» части; и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров»: «Sud-vestr Fjordungr».
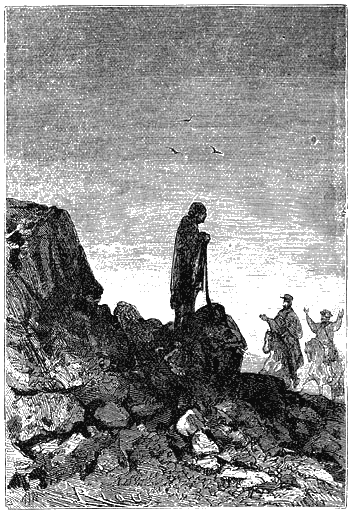
Часто эти цепи голых скал заполняли равнину, преграждая путь к морю, но и тогда оставалось еще достаточно места для проезда. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали более удобные места, не замедляя притом шага. Дядюшке так и не пришлось ни разу подогнать свою лошадь окриком или хлыстом: у него не было повода выказывать свое нетерпение. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него: он быт слишком велик для своей лошадки, его длинные ноги почти волочились по земле, и он походил на какого-то шестиногого кентавра.
– Славная скотинка, славная скотинка! – говорил он. – Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает: ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники; она смела, осторожна, надежна; никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь, в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега! Но не будем ее подгонять, предоставим ее самой себе, и мы пройдем в среднем по десяти лье в день.
– Мы, пожалуй, – отвечал я, – а проводник?
– О нем-то я не беспокоюсь! Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает так автоматически, что ничуть не устанет. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь; меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах.
Между тем мы быстро шли к цели. Местность стала уже несколько более пустынной. Изредка встречалась уединенная ферма, какой-нибудь boer[9], построенный из дерева, земли, кусков лавы, – словно нищий у края дороги! Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих, и, верно, брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как бы ни жалка была растительность, все же она скоро заглушала следы редких путешественников.
И, однако, эта часть провинции, находящаяся совсем рядом со столицей, принадлежала к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой местности, еще более пустынные, чем эта пустыня? Мы прошли уже полмили и не видели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стадо, не менее дикое, чем он сам; только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою местности, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям?
Нам предстояло познакомиться с ними позже; но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивалась преимущественно внутренней частью острова; там именно находятся те горизонтально наваленные друг на друга скалы, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из покровов трахита, базальта, вулканических туфов, потоков лавы и расплавленного порфира, которые придают острову его сверхъестественный, страшный вид. Я не подозревал еще тогда, какое зрелище ожидает нас на Снайфедльском полуострове, где эти опустошения бушующей природы создают зловещий хаос.
Через два часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого «Aoalkirkja», или «Главная церковь». Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии эти городские здания едва составили бы деревушку.
Тут Ганс сделал получасовую остановку; он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать:
– Гардар, – сказал он коротко.
Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хваль-фьорда, в четырех милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на это дядюшке, он сказал:
– Только четыре мили! Четыре мили из двадцати двух! Всего только порядочная прогулка.
Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди своих лошадей.
Три часа спустя, проезжая по-прежнему среди тех же пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Коллафьорд; окольный путь был более короток и легок, чем переправа через залив. Мы прибыли в «pingstaoer», местечко Эюльберг, резиденцию окружного суда, когда на колокольне пробило бы двенадцать, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств для того, чтобы купить башенный часы. Впрочем, прихожане тоже не носят часов, потому что не имеют их.
Здесь лошади были накормлены; дальше мы проехали по узкой прибрежной дороге, между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской «Главной церкви» и еще на милю дальше, до Заурбоерской «Annexia», заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хваль-фьорда.
Было четыре часа. Мы прошли всего четыре мили.
В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили; морские волны разбивались с шумом о крутые, остроконечные скалы: залив лежал среди отвесных скалистых стен, поднимавшихся на высоту трех тысяч футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались с красноватыми пластами туфа. Как ни смышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал в том случае, если бы мы попытались переправиться через этот пролив на спинах четвероногих.
– Если они умны, – сказал я, – они и не будут пытаться переправиться. Во всяком случае, я попробую быть благоразумнее их.
Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуяв близость воды, остановилось; но дядюшка, полагаясь на собственный инстинкт, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только лягалась, намереваясь, по-видимому, сбросить своего всадника. Наконец, она подогнула ноги и проскользнула между длинными ногами профессора, поэтому он остался стоять на двух обломках скалы, подобно Колоссу Родосскому.
– Ах ты проклятое животное! – вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
– Farja, – оказал проводник, тронув его за плечо.
– Как, паром?
– Der[10], – ответил Ганс, указывая на плот.
– Конечно! – воскликнул я. – Вот там паром!
– Надо было об этом раньше сказать! Ну, ладно, в путь!
– Tidvatten, – продолжал проводник.
– Что он говорит?
– Он говорит – прилив, – отвечал дядя, переводя мне датское слово.
– Во всяком случае, нам придется дождаться прилива.
– Farbida?[11] – спросил дядя.
– Ja[12], – отвечал Ганс.
Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Мне было вполне понятно, что, для того чтобы переправиться через фьорд, необходимо выждать минуту, пока вода дойдет до наибольшей высоты и не будет уже ни подниматься, ни опускаться, потому что тогда нет течения ни в том, ни в другом направлении и паром не подвергается опасности быть унесенным или вглубь залива, или в открытый океан.
Этот благоприятный момент наступил лишь в шесть часов вечера. Мой дядюшка, я сам, наш проводник, два паромщика и четыре лошади поместились на довольно утлой плоской барке. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников казались мне жалким орудием. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы все-таки благополучно переправились.
Через полчаса мы прибыли в «Aoalkirkja» Гардара.
13
Настал час, когда должно было бы стемнеть, но под шестьдесят пятым градусом широты светлые ночи не могли меня удивить, в июне и июле солнце в Исландии не заходит.
Однако температура понизилась. Я озяб и еще больше проголодался. И как же я обрадовался, когда нашелся «boer», где нас приветливо приняли.
То был крестьянский дом, но радушие его обитателей не уступало гостеприимству короля. Когда мы подъехали, хозяин подал нам руку и предложил без дальнейших церемоний следовать за ним.
Буквально следовать, ибо идти рядом с ним было невозможно. Длинный, узкий, темный проход вел в жилище, построенное из плохо обтесанных бревен, и из него попадали прямо в комнаты; их было четыре: кухня, ткацкая, спальня семьи и комната для гостей, самая лучшая из всех. При постройке дома не подумали о росте моего дядюшки, и он несколько раз стукнулся головой о потолок.
Нас ввели в большую комнату, некое подобие залы, с утоптанным земляным полом и одним окном, в которое вместо стекол был вставлен тусклый бараний пузырь. Постель состояла из жесткой соломы, брошенной между двумя деревянными перегородками, выкрашенными в красный цвет и расписанными исландскими поговорками. Такого комфорта я не ожидал; но по всему дому распространялся терпкий запах сушеной рыбы, соленого мяса и кислого молока, не доставлявший моему обонянию особенного удовольствия.
Когда мы сняли наши дорожные доспехи, хозяин дома пригласил нас пройти в кухню, единственное даже в большие холода помещение, где топили печь.
Дядюшка поспешил последовать любезному приглашению. Я присоединился к нему.
Кухонный очаг был устроен по-первобытному: повреди комнаты лежал камень, игравший роль очага, а в крыше над ним было сделано отверстие, заменявшее дымовую трубу. Эта кухня служила также и столовой.
При нашем появлении хозяин приветствовал нас, как будто он нас раньше не видел, словами «saellvertu», что означает «будьте счастливы», и облобызал нас в обе щеки.
Вслед за ним жена его произнесла те же самые слова, с той же церемонией; затем, приложив правую руку к сердцу, они отдали нам глубокий поклон.
Спешу сказать, что исландка была матерью девятнадцати детей, которые все, от мала до велика, копошились среди дыма и чада, поднимавшегося с очага и наполнявшего комнату. Ежеминутно то одна, то другая белокурая мечтательная головка выступала из этого облака. Этих ребят можно было принять за группу неумытых ангелов.
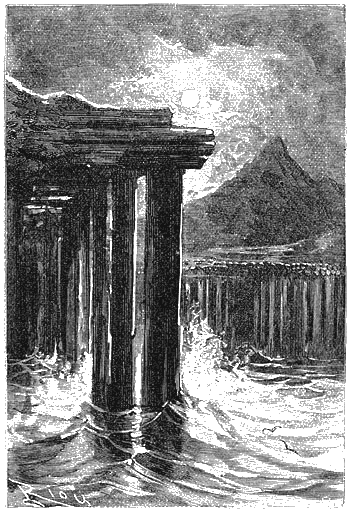 Мы обошлись очень ласково с этим «выводком», и вскоре трое или четверо из этих мартышек забрались к нам на плечи, столько же на наши колени, остальные путались между наших ног. Те, которые могли говорить, повторяли «saellvertu» на всевозможные лады, те, что не умели говорить, кричали еще больше.
Мы обошлись очень ласково с этим «выводком», и вскоре трое или четверо из этих мартышек забрались к нам на плечи, столько же на наши колени, остальные путались между наших ног. Те, которые могли говорить, повторяли «saellvertu» на всевозможные лады, те, что не умели говорить, кричали еще больше.
Концерт был прерван приглашением обедать. В эту минуту вошел наш проводник, который позаботился о том, чтобы накормить лошадей, говоря попросту, разнуздал их и ради экономии пустил пастись в поле; бедные животные должны были довольствоваться скудным мхом, растущим на скалах, и тощими приморскими травами, а на следующее утро вернуться восвояси и опять подставить свою спину под седло.
– Saellvertu! – сказал Ганс, входя.
Затем последовала та же спокойная, автоматическая, – один поцелуй был не жарче другого, – сцена приветствия со стороны хозяина, хозяйки и девятнадцати малышей.
Когда церемония закончилась, сели за стол, ровным счетом двадцать четыре человека, и, следовательно, друг на друге в буквальном смысле этого слова. У кого на коленях примостилось двое ребят, тот еще хорошо отделался!
Впрочем, при появлении на столе супа весь этот народец затих, воцарилась тишина, непривычная для исландских мальчишек. Хозяин подал нам довольно вкусный суп из знаменитого исландского мха, затем изрядную порцию сушеной рыбы в масле, которое прогоркло лет двадцать назад и, следовательно, по исландским понятиям, было гораздо лучше свежего. К этому подавали «skyr», что-то вроде простокваши с сухарями и подливкой из можжевеловых ягод. Наконец, какой-то напиток из сыворотки, разбавленной водой, так называемая «blanda». Хороша ли была эта неведомая пища, или нет, я не могу судить. Я проголодался и вместо сладкого проглотил до последней крупинки крутую гречневую кашу.
После обеда детишки разбежались; взрослые сели вокруг очага, в котором горел торф, хворост, коровий помет и кости сушеных рыб. Потом, обогревшись таким образом, все разошлись по своим комнатам. Хозяйка, согласно обычаю, хотела снять с нас чулки и штаны, но, получив вежливый отказ, не настаивала, и я мог, наконец, прикорнуть на своем соломенном ложе.
На следующее утро, в пять часов, мы распростились с исландским крестьянином; дядюшка с трудом уговорил его принять приличное вознаграждение, и затем Ганс дал сигнал к отъезду.
Шагах в ста от Гардара характер местности начал меняться: почва становилась болотистой и менее удобной для езды. Направо тянулась до бесконечности цепь гор, точно возведенный самой природой ряд грозных крепостей; часто встречались потоки, которые приходилось переходить вброд, однако не очень подмочив багаж.
Окрестность делалась все пустыннее. Порою, впрочем, казалось, что вдали мелькает человеческая фигура. И когда на поворотах дороги мы внезапно оказывались лицом к лицу с одним из этих призраков, меня невольно охватывало отвращение при виде вспухшей головы без волос, с лоснящейся кожей, в отвратительных ранах, которые проступали под жалкими лохмотьями.
Несчастное создание не протягивало руку для приветствия, напротив, оно убегало так быстро, что Ганс не успевал крикнуть ему своего обычного «saellvertu».
– Spetelsk, – говорил он.
– Прокаженный, – повторял дядюшка.
Уже одно это слово вызывало чувство отвращения. Эта ужасная болезнь весьма распространена в Исландии; она незаразительна, но передается по наследству, почему этим несчастным воспрещен брак.
Эти призрака были не такого свойства, чтобы оживить печальный ландшафт. Последние травы увядали у нас под ногами: не было видно ни одного деревца, кроме зарослей карликовых берез, ни единого животного, кроме нескольких лошадей, которые бродили по унылым равнинам, так как хозяева не могли их прокормить. Порою парил в серых тучах сокол, холодный ветер гнал птицу на юг. Я заражался грустью этой дикой природы, и воспоминания уносили меня в родные края.
Вскоре нам пришлось снова переправляться через несколько небольших фьордов и, наконец, через настоящий залив; на море как раз был штиль, и мы поэтому могли продолжать путь, не мешкая, и вскоре добрались до деревушки Альфтанес, расположенной на расстоянии мили оттуда.
Перейдя вброд две речки, Алфа и Хета, кишевшие форелями и щуками, мы провели ночь в покинутом, ветхом домишке, достойном служить обиталищем всех озорных кобольдов, скандинавской мифологии; во всяком случае, злобный дух холода чувствовал себя здесь, как дома, и он терзал нас в течение всей ночи.
Следующий день не принес нам новых впечатлений. Все та же болотистая почва, то же однообразие, тот же печальный пейзаж. К вечеру мы прошли половину пути и переночевали в «annexia» Крезольбт.
Девятнадцатого июня, на протяжении приблизительно одной мили, мы шли по голым полям лавы – «hraun» по-местному. Лавовые поля, образовавшиеся из трещинных излияний, напоминали какие-то склады якорных канатов, то вытянутых в длину, то скатанных в рулон. Лава, излившись из разломов земной коры, растекалась, подобно потоку, по склонам гор и, застывая, все же свидетельствовала о бурных извержениях ныне потухших вулканов. Однако местами сквозь лавовый покров пробивались пары горячих подземных источников. Вскоре под ногами наших лошадей снова оказалась болотистая топь, чередовавшаяся с мелкими озерами. Наш путь лежал на запад; и когда мы обогнули большой залив Факсафлоуи, раздвоенная снежная вершина Снайфедльс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли хорошим шагом, невзирая на плохую дорогу; что касается меня, то я начинал чувствовать себя сильно утомленным, между тем дядюшка крепко так прямо держался в седле, как и в первый день; я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путешествие, как на простую прогулку.
В субботу, двадцатого июня, в шесть часов вечера мы прибыли в Будир, маленькое селение, расположенное на берегу моря, и тут проводник потребовал договоренную плату. Дядюшка рассчитался с ним. Семья нашего Ганса, короче говоря, его дяди и двоюродные братья, оказала нам гостеприимство; мы были приняты радушно, и я охотно отдохнул бы у этих славных людей после утомительного переезда, не боясь злоупотребить их добротой. Но дядюшка, не нуждавшийся в отдыхе, смотрел на дело иначе, и на следующее утро пришлось снова сесть в седло. Почва носила уже следы близости гор, скалистые отроги выступали из-под земли, точно корни старого дуба. Мы огибали подножие вулкана. Профессор не спускал глаз с его конусообразной вершины; он размахивал руками, словно бросая вулкану вызов я как бы восклицая: «Вот исполин, которого я одолею!»
Однако температура понизилась. Я озяб и еще больше проголодался. И как же я обрадовался, когда нашелся «boer», где нас приветливо приняли.
То был крестьянский дом, но радушие его обитателей не уступало гостеприимству короля. Когда мы подъехали, хозяин подал нам руку и предложил без дальнейших церемоний следовать за ним.
Буквально следовать, ибо идти рядом с ним было невозможно. Длинный, узкий, темный проход вел в жилище, построенное из плохо обтесанных бревен, и из него попадали прямо в комнаты; их было четыре: кухня, ткацкая, спальня семьи и комната для гостей, самая лучшая из всех. При постройке дома не подумали о росте моего дядюшки, и он несколько раз стукнулся головой о потолок.
Нас ввели в большую комнату, некое подобие залы, с утоптанным земляным полом и одним окном, в которое вместо стекол был вставлен тусклый бараний пузырь. Постель состояла из жесткой соломы, брошенной между двумя деревянными перегородками, выкрашенными в красный цвет и расписанными исландскими поговорками. Такого комфорта я не ожидал; но по всему дому распространялся терпкий запах сушеной рыбы, соленого мяса и кислого молока, не доставлявший моему обонянию особенного удовольствия.
Когда мы сняли наши дорожные доспехи, хозяин дома пригласил нас пройти в кухню, единственное даже в большие холода помещение, где топили печь.
Дядюшка поспешил последовать любезному приглашению. Я присоединился к нему.
Кухонный очаг был устроен по-первобытному: повреди комнаты лежал камень, игравший роль очага, а в крыше над ним было сделано отверстие, заменявшее дымовую трубу. Эта кухня служила также и столовой.
При нашем появлении хозяин приветствовал нас, как будто он нас раньше не видел, словами «saellvertu», что означает «будьте счастливы», и облобызал нас в обе щеки.
Вслед за ним жена его произнесла те же самые слова, с той же церемонией; затем, приложив правую руку к сердцу, они отдали нам глубокий поклон.
Спешу сказать, что исландка была матерью девятнадцати детей, которые все, от мала до велика, копошились среди дыма и чада, поднимавшегося с очага и наполнявшего комнату. Ежеминутно то одна, то другая белокурая мечтательная головка выступала из этого облака. Этих ребят можно было принять за группу неумытых ангелов.
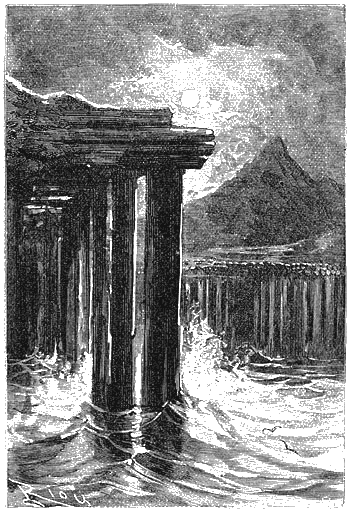
Концерт был прерван приглашением обедать. В эту минуту вошел наш проводник, который позаботился о том, чтобы накормить лошадей, говоря попросту, разнуздал их и ради экономии пустил пастись в поле; бедные животные должны были довольствоваться скудным мхом, растущим на скалах, и тощими приморскими травами, а на следующее утро вернуться восвояси и опять подставить свою спину под седло.
– Saellvertu! – сказал Ганс, входя.
Затем последовала та же спокойная, автоматическая, – один поцелуй был не жарче другого, – сцена приветствия со стороны хозяина, хозяйки и девятнадцати малышей.
Когда церемония закончилась, сели за стол, ровным счетом двадцать четыре человека, и, следовательно, друг на друге в буквальном смысле этого слова. У кого на коленях примостилось двое ребят, тот еще хорошо отделался!
Впрочем, при появлении на столе супа весь этот народец затих, воцарилась тишина, непривычная для исландских мальчишек. Хозяин подал нам довольно вкусный суп из знаменитого исландского мха, затем изрядную порцию сушеной рыбы в масле, которое прогоркло лет двадцать назад и, следовательно, по исландским понятиям, было гораздо лучше свежего. К этому подавали «skyr», что-то вроде простокваши с сухарями и подливкой из можжевеловых ягод. Наконец, какой-то напиток из сыворотки, разбавленной водой, так называемая «blanda». Хороша ли была эта неведомая пища, или нет, я не могу судить. Я проголодался и вместо сладкого проглотил до последней крупинки крутую гречневую кашу.
После обеда детишки разбежались; взрослые сели вокруг очага, в котором горел торф, хворост, коровий помет и кости сушеных рыб. Потом, обогревшись таким образом, все разошлись по своим комнатам. Хозяйка, согласно обычаю, хотела снять с нас чулки и штаны, но, получив вежливый отказ, не настаивала, и я мог, наконец, прикорнуть на своем соломенном ложе.
На следующее утро, в пять часов, мы распростились с исландским крестьянином; дядюшка с трудом уговорил его принять приличное вознаграждение, и затем Ганс дал сигнал к отъезду.
Шагах в ста от Гардара характер местности начал меняться: почва становилась болотистой и менее удобной для езды. Направо тянулась до бесконечности цепь гор, точно возведенный самой природой ряд грозных крепостей; часто встречались потоки, которые приходилось переходить вброд, однако не очень подмочив багаж.
Окрестность делалась все пустыннее. Порою, впрочем, казалось, что вдали мелькает человеческая фигура. И когда на поворотах дороги мы внезапно оказывались лицом к лицу с одним из этих призраков, меня невольно охватывало отвращение при виде вспухшей головы без волос, с лоснящейся кожей, в отвратительных ранах, которые проступали под жалкими лохмотьями.
Несчастное создание не протягивало руку для приветствия, напротив, оно убегало так быстро, что Ганс не успевал крикнуть ему своего обычного «saellvertu».
– Spetelsk, – говорил он.
– Прокаженный, – повторял дядюшка.
Уже одно это слово вызывало чувство отвращения. Эта ужасная болезнь весьма распространена в Исландии; она незаразительна, но передается по наследству, почему этим несчастным воспрещен брак.
Эти призрака были не такого свойства, чтобы оживить печальный ландшафт. Последние травы увядали у нас под ногами: не было видно ни одного деревца, кроме зарослей карликовых берез, ни единого животного, кроме нескольких лошадей, которые бродили по унылым равнинам, так как хозяева не могли их прокормить. Порою парил в серых тучах сокол, холодный ветер гнал птицу на юг. Я заражался грустью этой дикой природы, и воспоминания уносили меня в родные края.
Вскоре нам пришлось снова переправляться через несколько небольших фьордов и, наконец, через настоящий залив; на море как раз был штиль, и мы поэтому могли продолжать путь, не мешкая, и вскоре добрались до деревушки Альфтанес, расположенной на расстоянии мили оттуда.
Перейдя вброд две речки, Алфа и Хета, кишевшие форелями и щуками, мы провели ночь в покинутом, ветхом домишке, достойном служить обиталищем всех озорных кобольдов, скандинавской мифологии; во всяком случае, злобный дух холода чувствовал себя здесь, как дома, и он терзал нас в течение всей ночи.
Следующий день не принес нам новых впечатлений. Все та же болотистая почва, то же однообразие, тот же печальный пейзаж. К вечеру мы прошли половину пути и переночевали в «annexia» Крезольбт.
Девятнадцатого июня, на протяжении приблизительно одной мили, мы шли по голым полям лавы – «hraun» по-местному. Лавовые поля, образовавшиеся из трещинных излияний, напоминали какие-то склады якорных канатов, то вытянутых в длину, то скатанных в рулон. Лава, излившись из разломов земной коры, растекалась, подобно потоку, по склонам гор и, застывая, все же свидетельствовала о бурных извержениях ныне потухших вулканов. Однако местами сквозь лавовый покров пробивались пары горячих подземных источников. Вскоре под ногами наших лошадей снова оказалась болотистая топь, чередовавшаяся с мелкими озерами. Наш путь лежал на запад; и когда мы обогнули большой залив Факсафлоуи, раздвоенная снежная вершина Снайфедльс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли хорошим шагом, невзирая на плохую дорогу; что касается меня, то я начинал чувствовать себя сильно утомленным, между тем дядюшка крепко так прямо держался в седле, как и в первый день; я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путешествие, как на простую прогулку.
В субботу, двадцатого июня, в шесть часов вечера мы прибыли в Будир, маленькое селение, расположенное на берегу моря, и тут проводник потребовал договоренную плату. Дядюшка рассчитался с ним. Семья нашего Ганса, короче говоря, его дяди и двоюродные братья, оказала нам гостеприимство; мы были приняты радушно, и я охотно отдохнул бы у этих славных людей после утомительного переезда, не боясь злоупотребить их добротой. Но дядюшка, не нуждавшийся в отдыхе, смотрел на дело иначе, и на следующее утро пришлось снова сесть в седло. Почва носила уже следы близости гор, скалистые отроги выступали из-под земли, точно корни старого дуба. Мы огибали подножие вулкана. Профессор не спускал глаз с его конусообразной вершины; он размахивал руками, словно бросая вулкану вызов я как бы восклицая: «Вот исполин, которого я одолею!»
