А что вышло из этого? Хоть и не стал Антон козленком, а вором сделался. А это еще хуже!..
Сказка идет дальше. И вот уже гибнет сестрица Аленушка, лежит на дне озера, и «шелкова трава ноги спутала, желты пески на грудь легли…» А бедный козленочек бегает по берегу, зовет свою старшую сестру, просит, чтобы она выплыла, потому что козленочка хотят зарезать и защитить его некому!
– Ой, Аленушка! – вдруг всхлипнула Полянка. – Ой, выплыви!
Антон молчал и крепился. Но слезы уже подступили к его глазам. Почему-то не Аленушку он видел на дне озера с желтым песком на груди, это его сестра Зина лежала там!
Он отвел глаза от экрана и поглядел на Зину. Нет, вот она, его старшая сестра! Она живая, она стоит здесь и показывает им сказку. Она здесь, она возле него. Она никому не даст его в обиду. Только слушаться ее надо и не пить никогда из козьего копытца!
Зина почувствовала его взгляд и улыбнулась ему, ободряюще кивнув головой. Это успокоило, снова стало свободно дышать.
Яшка словно исчез. Пускай он сидит здесь, пускай щурится на Антона, Антон больше не боится его!
Сказка кончилась. Над воротами загорелся круглый белый фонарь.
Зрители расходились с негромким говором, все очень довольные. Антон пытался помочь Зине уложить пленку. Подбежала Полянка и прижалась к Зине:
– Сестрица Аленушка!
Зина засмеялась. Но Антон сурово отстранил Полянку:
– Это моя сестра.
– И моя! – закричала Полянка.
Антон возмутился:
– Нет, не твоя. Это моя старшая сестра.
– И моя!
– Антон, не толкайся, – сказала Зина. – Полянка права. Вы оба октябрята. А я комсомолка. Значит, я обоим вам старшая сестра. Понятно?
– А все-таки мне сестрее! – возразил Антон.
Яшка встал, лениво потянувшись. Он с интересом смотрел сказку, но сейчас принял небрежный вид:
– Уа-уа! – и зевнул.
Но, когда увидел, что Кондрат полез снимать полотно, вскочил и оттолкнул его:
– Ну-ка вы, малявки! Давай я сниму. – И он, ловко выдернув гвозди, снял простыню.
– Если умеешь – сложи, – сказала Зина, убирая аллоскоп.
Яшка не умел складывать простыни, он никогда не убирал постели. Смутившись, он бросил полотно на скамейку:
– Сами сложите!
И, сунув руки в карман, засвистал песенку и пошел с площадки. Антон с облегчением глядел ему вслед: вот уходит и ничего не может сделать Антону. Пускай только уходит поскорее!
Но вдруг Зина остановила Яшку. Зачем?
– Яша, – сказала она, – если найдешь время, заходи завтра. У нас будет урок фотографии. Кондратов отец, Иван Кузьмич, принесет фотоаппарат, будет показывать, как снимать. Все старшие ребята придут. Может, тебе интересно? Приходи тоже.
Яшка был польщен. Он едва смог скрыть самодовольную улыбку.
– Ладно. – Яшка небрежно пожал плечами: – Может, приду. – И тут же показал шик – плюнул сквозь зубы.
Но Зина уже знала, что сегодня она победила.
А дома ее снова ждало письмо:
«Дорогая наша Зиночка, ты так и не приехала! А мы тебя ждали в Костроме, выходили к поезду и даже чуть не плакали. А потом получили твое письмо. Ну и не везет же тебе!..»
«Неправда, – мысленно возразила Зина, – вот уж и неправда, мне везет. А если бы я уехала, а Изюмка заболела без меня? А если бы что случилось – как бы тогда мне жить на свете? Как хорошо, как хорошо, что я не уехала, ой, как это хорошо!»
«Мы целый день пробыли в Костроме. Ходили на льняной комбинат имени Зворыкина. Какой же огромный этот комбинат! Там всё – и обрабатывают лен, и прядут, и ткут, и красят полотно. В цехах светло, окна большие, воздуха много, только очень шумно от станков. Станки работают изо всех сил, ну знаешь, будто с цепи сорвались, так яростно работают. А работницы ходят около них тихо и только очень внимательно смотрят, чтобы не оборвалась нитка. Я бы, наверное, не смогла быть такой внимательной целый день. И у меня появились мысли. Ведь каждую вещь делает какой-нибудь человек, и так внимательно ее делает и отдает этой вещи свое время, свои силы и очень много своей жизни. А мы другой раз этого не понимаем и совсем не думаем об этом и портим разные вещи. Как один раз я посадила березку в школе у ворот – помнишь, может быть? Все поливала ее, чтобы прижилась. А когда прижилась, какой-то идиот ее сломал. А я столько труда положила!..»
Зина читала и старалась все это представить себе. И бешено гудящие станки, и пар в красильной над широкими чанами, и бегущее для просушки высоко вверх, под потолок, выкрашенное розовое полотно, и тяжелые катки, через которые это полотно проходит и укладывается, уже ровное и проглаженное, в тюки…
Фатьме нравилась Кострома. Она с удовольствием описывала тихие, приветливые улочки, в конце которых светилась волжская синева, небольшие дома с пышно цветущими геранями в окнах, торговые ряды, где продается это красивое костромское полотно, музей, где стоит статуя Ивана Сусанина – ведь он здешний, костромич.
На страницах этого письма Зина увидела и тихую широкую реку Кострому, которая здесь, около города, впадает в Волгу. Узкий мост через реку, а на той стороне старинный Ипатьевский собор. Нежно-голубое небо с розовым облаком, и золотые тяжелые главы, и зеленый берег под крепостной стеной монастыря – все, как в чистом зеркале, отразила река Кострома. Ребята идут по мосту на тот берег и входят в монастырский двор, разглядывают монастырскую звонницу с позеленевшей от времени крышей и покои с расписными печками и маленькими окошками, где прятался от поляков юный царь Михаил Романов и откуда он вышел, сел в ладью и отправился в Москву на царство.
«Ох, сколько всего увидишь и узнаешь, если пойдешь вот так, по всей стране, – и истории и географии!
А еще тебе скажу: тут есть очень хорошие школы, ребята сажают очень много цветов…»
«Ну, теперь, кроме цветов, уже больше ничего не жди!» – улыбнулась Зина.
Она не ошиблась: последние страницы были заполнены астрами и гладиолусами, петуньями и георгинами, флоксами и душистым табаком. Вокруг школы – прибой цветов. Прибой этот выплеснулся из школы в город. Цветы на улицах, цветы на площади. И сажают их всюду школьники-юннаты. Вечером весь город пахнет душистым табаком и матиолой.
«Почему бы нам тоже так не сделать?
Из Костромы мы пойдем в колхоз имени 12 октября к Прасковье Андреевне Малининой посмотреть ее знаменитых коров. Ну, Зина, почему тебя нет с нами!..»
Зина сложила письмо и протянула его отцу.
– Очень интересное письмо, – сказала она. – Когда ты освободишься, почитай. Тебе понравится. Ну, папа, а чего ты так смотришь на меня? Думаешь, я расстроилась?
– Думаю, да, – ответил отец, принимаясь за свой чертеж.
Зина улыбнулась:
– А вот и нет, а вот и нет, не угадал!
Она подсела к нему и осторожно вынула из его руки рейсфедер:
– Папа, ты послушай, это важно. Ты беспокоишься из-за меня. Я вижу. А напрасно. Я очень рада, что им так интересно. И письма мне очень интересно читать. И сначала мне очень хотелось к ним, ну очень, очень!
– А теперь, скажешь, нет?
– Папа, ты мне верь. А теперь нет. Знаешь почему? Я начинаю как-то чувствовать, что должен делать пионервожатый, начинаю верить, что я смогу быть настоящей пионервожатой – ну не сейчас, не сразу. А ты думаешь, это маленькое дело – быть хорошей пионервожатой?
– Думаю, что это очень большое дело, – сказал отец, – очень большое и очень ответственное. Так же, как дело учителя. Из моих рук, например, выходит проволока. Нужная вещь, ничего не говорю. А из рук прокатчика, скажем, – листовое железо. Тоже вещь нужная, очень даже. А ведь из рук людей, которые с детьми работают, выходит человек, его характер, его мировоззрение. А что на свете важнее человека? Вот как я думаю…
– Папка, ну вот и я так же думаю! И если я сумею, если я смогу… то ни о чем другом я уже и не жалею… Потому что мне кажется, что я начинаю уметь. Только еще начинаю, но все-таки начинаю уметь. Понимаешь? Ты понимаешь меня?
– Конечно, понимаю.
– И знаешь, папка, у меня сегодня еще одна радость… – Зина покосилась на Антона.
Антон спал, положив голову на сложенные на столе руки. Зина понизила голос:
– К нам сегодня приходил Клеткин. Топорщился, фасонился, а все-таки диафильм глядел. А завтра у нас фотокружок, и я уверена, что он опять придет. И если он выправится, папка, ну разве это не победа будет, а?
Отец усмехнулся, напряжение в лице и во взгляде исчезло:
– Ну ладно, когда так, – сказал он и взял из ее рук рейсфедер, – если у тебя столько радостей…
– Папа, – припомнив один разговор, задумчиво спросила Зина, – скажи, а разве это не личные радости? Почему не личные?
– А почему ж не личные? – ответил отец. – Я так не считаю. Если я доставил радость другому – значит, это и моя радость. Моя личная. Я вот так считаю. Конечно, если этот другой – не враг…
– Ну, папка, разве это надо объяснять? – засмеялась Зина. – Хочешь, я открою тебе один секрет?
– Хочу.
– Ты, папка, думаешь, что я еще маленькая. А я уже большая!
– Да? – Отец поглядел на нее с удивлением. – Смотри-ка, а ведь и правда большая! Скажи пожалуйста! Теперь открой мне еще один секрет: а когда же ты, дочка, выросла?
МОСТИК СЛОМАЛСЯ
Сказка идет дальше. И вот уже гибнет сестрица Аленушка, лежит на дне озера, и «шелкова трава ноги спутала, желты пески на грудь легли…» А бедный козленочек бегает по берегу, зовет свою старшую сестру, просит, чтобы она выплыла, потому что козленочка хотят зарезать и защитить его некому!
– Ой, Аленушка! – вдруг всхлипнула Полянка. – Ой, выплыви!
Антон молчал и крепился. Но слезы уже подступили к его глазам. Почему-то не Аленушку он видел на дне озера с желтым песком на груди, это его сестра Зина лежала там!
Он отвел глаза от экрана и поглядел на Зину. Нет, вот она, его старшая сестра! Она живая, она стоит здесь и показывает им сказку. Она здесь, она возле него. Она никому не даст его в обиду. Только слушаться ее надо и не пить никогда из козьего копытца!
Зина почувствовала его взгляд и улыбнулась ему, ободряюще кивнув головой. Это успокоило, снова стало свободно дышать.
Яшка словно исчез. Пускай он сидит здесь, пускай щурится на Антона, Антон больше не боится его!
Сказка кончилась. Над воротами загорелся круглый белый фонарь.
Зрители расходились с негромким говором, все очень довольные. Антон пытался помочь Зине уложить пленку. Подбежала Полянка и прижалась к Зине:
– Сестрица Аленушка!
Зина засмеялась. Но Антон сурово отстранил Полянку:
– Это моя сестра.
– И моя! – закричала Полянка.
Антон возмутился:
– Нет, не твоя. Это моя старшая сестра.
– И моя!
– Антон, не толкайся, – сказала Зина. – Полянка права. Вы оба октябрята. А я комсомолка. Значит, я обоим вам старшая сестра. Понятно?
– А все-таки мне сестрее! – возразил Антон.
Яшка встал, лениво потянувшись. Он с интересом смотрел сказку, но сейчас принял небрежный вид:
– Уа-уа! – и зевнул.
Но, когда увидел, что Кондрат полез снимать полотно, вскочил и оттолкнул его:
– Ну-ка вы, малявки! Давай я сниму. – И он, ловко выдернув гвозди, снял простыню.
– Если умеешь – сложи, – сказала Зина, убирая аллоскоп.
Яшка не умел складывать простыни, он никогда не убирал постели. Смутившись, он бросил полотно на скамейку:
– Сами сложите!
И, сунув руки в карман, засвистал песенку и пошел с площадки. Антон с облегчением глядел ему вслед: вот уходит и ничего не может сделать Антону. Пускай только уходит поскорее!
Но вдруг Зина остановила Яшку. Зачем?
– Яша, – сказала она, – если найдешь время, заходи завтра. У нас будет урок фотографии. Кондратов отец, Иван Кузьмич, принесет фотоаппарат, будет показывать, как снимать. Все старшие ребята придут. Может, тебе интересно? Приходи тоже.
Яшка был польщен. Он едва смог скрыть самодовольную улыбку.
– Ладно. – Яшка небрежно пожал плечами: – Может, приду. – И тут же показал шик – плюнул сквозь зубы.
Но Зина уже знала, что сегодня она победила.
А дома ее снова ждало письмо:
«Дорогая наша Зиночка, ты так и не приехала! А мы тебя ждали в Костроме, выходили к поезду и даже чуть не плакали. А потом получили твое письмо. Ну и не везет же тебе!..»
«Неправда, – мысленно возразила Зина, – вот уж и неправда, мне везет. А если бы я уехала, а Изюмка заболела без меня? А если бы что случилось – как бы тогда мне жить на свете? Как хорошо, как хорошо, что я не уехала, ой, как это хорошо!»
«Мы целый день пробыли в Костроме. Ходили на льняной комбинат имени Зворыкина. Какой же огромный этот комбинат! Там всё – и обрабатывают лен, и прядут, и ткут, и красят полотно. В цехах светло, окна большие, воздуха много, только очень шумно от станков. Станки работают изо всех сил, ну знаешь, будто с цепи сорвались, так яростно работают. А работницы ходят около них тихо и только очень внимательно смотрят, чтобы не оборвалась нитка. Я бы, наверное, не смогла быть такой внимательной целый день. И у меня появились мысли. Ведь каждую вещь делает какой-нибудь человек, и так внимательно ее делает и отдает этой вещи свое время, свои силы и очень много своей жизни. А мы другой раз этого не понимаем и совсем не думаем об этом и портим разные вещи. Как один раз я посадила березку в школе у ворот – помнишь, может быть? Все поливала ее, чтобы прижилась. А когда прижилась, какой-то идиот ее сломал. А я столько труда положила!..»
Зина читала и старалась все это представить себе. И бешено гудящие станки, и пар в красильной над широкими чанами, и бегущее для просушки высоко вверх, под потолок, выкрашенное розовое полотно, и тяжелые катки, через которые это полотно проходит и укладывается, уже ровное и проглаженное, в тюки…
Фатьме нравилась Кострома. Она с удовольствием описывала тихие, приветливые улочки, в конце которых светилась волжская синева, небольшие дома с пышно цветущими геранями в окнах, торговые ряды, где продается это красивое костромское полотно, музей, где стоит статуя Ивана Сусанина – ведь он здешний, костромич.
На страницах этого письма Зина увидела и тихую широкую реку Кострому, которая здесь, около города, впадает в Волгу. Узкий мост через реку, а на той стороне старинный Ипатьевский собор. Нежно-голубое небо с розовым облаком, и золотые тяжелые главы, и зеленый берег под крепостной стеной монастыря – все, как в чистом зеркале, отразила река Кострома. Ребята идут по мосту на тот берег и входят в монастырский двор, разглядывают монастырскую звонницу с позеленевшей от времени крышей и покои с расписными печками и маленькими окошками, где прятался от поляков юный царь Михаил Романов и откуда он вышел, сел в ладью и отправился в Москву на царство.
«Ох, сколько всего увидишь и узнаешь, если пойдешь вот так, по всей стране, – и истории и географии!
А еще тебе скажу: тут есть очень хорошие школы, ребята сажают очень много цветов…»
«Ну, теперь, кроме цветов, уже больше ничего не жди!» – улыбнулась Зина.
Она не ошиблась: последние страницы были заполнены астрами и гладиолусами, петуньями и георгинами, флоксами и душистым табаком. Вокруг школы – прибой цветов. Прибой этот выплеснулся из школы в город. Цветы на улицах, цветы на площади. И сажают их всюду школьники-юннаты. Вечером весь город пахнет душистым табаком и матиолой.
«Почему бы нам тоже так не сделать?
Из Костромы мы пойдем в колхоз имени 12 октября к Прасковье Андреевне Малининой посмотреть ее знаменитых коров. Ну, Зина, почему тебя нет с нами!..»
Зина сложила письмо и протянула его отцу.
– Очень интересное письмо, – сказала она. – Когда ты освободишься, почитай. Тебе понравится. Ну, папа, а чего ты так смотришь на меня? Думаешь, я расстроилась?
– Думаю, да, – ответил отец, принимаясь за свой чертеж.
Зина улыбнулась:
– А вот и нет, а вот и нет, не угадал!
Она подсела к нему и осторожно вынула из его руки рейсфедер:
– Папа, ты послушай, это важно. Ты беспокоишься из-за меня. Я вижу. А напрасно. Я очень рада, что им так интересно. И письма мне очень интересно читать. И сначала мне очень хотелось к ним, ну очень, очень!
– А теперь, скажешь, нет?
– Папа, ты мне верь. А теперь нет. Знаешь почему? Я начинаю как-то чувствовать, что должен делать пионервожатый, начинаю верить, что я смогу быть настоящей пионервожатой – ну не сейчас, не сразу. А ты думаешь, это маленькое дело – быть хорошей пионервожатой?
– Думаю, что это очень большое дело, – сказал отец, – очень большое и очень ответственное. Так же, как дело учителя. Из моих рук, например, выходит проволока. Нужная вещь, ничего не говорю. А из рук прокатчика, скажем, – листовое железо. Тоже вещь нужная, очень даже. А ведь из рук людей, которые с детьми работают, выходит человек, его характер, его мировоззрение. А что на свете важнее человека? Вот как я думаю…
– Папка, ну вот и я так же думаю! И если я сумею, если я смогу… то ни о чем другом я уже и не жалею… Потому что мне кажется, что я начинаю уметь. Только еще начинаю, но все-таки начинаю уметь. Понимаешь? Ты понимаешь меня?
– Конечно, понимаю.
– И знаешь, папка, у меня сегодня еще одна радость… – Зина покосилась на Антона.
Антон спал, положив голову на сложенные на столе руки. Зина понизила голос:
– К нам сегодня приходил Клеткин. Топорщился, фасонился, а все-таки диафильм глядел. А завтра у нас фотокружок, и я уверена, что он опять придет. И если он выправится, папка, ну разве это не победа будет, а?
Отец усмехнулся, напряжение в лице и во взгляде исчезло:
– Ну ладно, когда так, – сказал он и взял из ее рук рейсфедер, – если у тебя столько радостей…
– Папа, – припомнив один разговор, задумчиво спросила Зина, – скажи, а разве это не личные радости? Почему не личные?
– А почему ж не личные? – ответил отец. – Я так не считаю. Если я доставил радость другому – значит, это и моя радость. Моя личная. Я вот так считаю. Конечно, если этот другой – не враг…
– Ну, папка, разве это надо объяснять? – засмеялась Зина. – Хочешь, я открою тебе один секрет?
– Хочу.
– Ты, папка, думаешь, что я еще маленькая. А я уже большая!
– Да? – Отец поглядел на нее с удивлением. – Смотри-ка, а ведь и правда большая! Скажи пожалуйста! Теперь открой мне еще один секрет: а когда же ты, дочка, выросла?
МОСТИК СЛОМАЛСЯ
Иван Кузьмич, прокатчик, увлекался фотографией. Чуть ли не каждое воскресенье, если позволяла погода, он отправлялся со своим «Зорким» «на этюды» – куда-нибудь за город или в Зоопарк, на Красную площадь, в районы новостроек… Без конца снимал строящийся свой заводской дом, в котором возникали их будущие квартиры. Фотографий этого дома у него накопилась уже целая серия – вот роют котлован, вот возводится первый этаж, вот второй, третий… Проемы окон еще глядят пустыми черными квадратами, но уже недалеко то время, когда в них засверкают стекла, забелеют занавески, зазеленеют цветы. Этот растущий дом – растущая радость будущего хранилась у него в особой папке, и соседи нередко приходили посмотреть эти фотографии, помечтать о том, как они будут жить в квартирах с ваннами, с балконами, на которых можно будет разводить цветы.
«И белье хорошо посушить», – добавляла какая-нибудь хозяйка.
Но ее тут же обрывали:
«Только вам белье сушить на балконах, как же! Дом стоит – красавец, а на балконах – тряпье развевается. Эко как культурно! Скажешь еще, половички потрясти с балкончика, людям на голову!..»
В это воскресное утро Иван Кузьмин как раз собирался на свой любимый объект – к строящемуся дому. Он заряжал кассеты, но загрубевшие от работы, желтые от табака пальцы с крупными ногтями как-то плохо слушались его.
– Дай-ка я, – сказал Кондрат, который стоял рядом и наблюдал за его сборами.
– Умеешь ты, как же! – ответил Иван Кузьмич. – Сколько говорил – учись. Не хочешь. А не хочешь – не надо.
– Почему это – не хочу? Да ты же не учишь. Тебе бы только самому ходить да снимать.
– А ходи и ты, пожалуйста. Но ведь тебе же все некогда, все по своим ступенькам лазишь.
– По каким ступенькам?
– По пионерским. По каким же еще?
Кондрат скупо усмехнулся:
– А какие они, по-твоему, ступеньки?
Отец молча налаживал аппарат.
– Ну что же замолчал-то? Говори, какие ступеньки?
– Чего ты пристал? Я почем знаю какие? Пионер я, что ли?
– Эх, отец, отсталый ты. Вот если я выучусь как следует фотографировать – значит, у меня будет умение. Понятно тебе? А если других ребят научу, буду пионер-инструктор. Понятно?
– А где ж тут ступеньки?
– Ну, раз у меня есть умение – значит, я шагнул на одну ступеньку. Понятно?
– Нет, не понятно. А если ты не фотографировать научишься, а, скажем, дрова рубить? Тоже ступенька?
– Ну… Тоже ступенька.
– А если курточку свою починишь – вон рукав-то у тебя разодрался…
– Опять рукава разодраны? – тотчас послышался из кухни голос матери. – Давно ли чинила, а?
– Ну вот, теперь про всякие рукава пошло, – недовольно сказал Кондрат, – я про ступеньки, а они…
– Ну ладно, давай про ступеньки, – согласился отец. – Так, если рукав зашьешь, тоже ступенька?
Кондрат не знал, что ответить. Если ступенька, то что-то уж очень маленькая. Но умение это или не умение? Пожалуй, все-таки умение.
– Гляжу, нянчатся с вами, как с грудными детками, – вздохнул отец, – лишь бы к какому делу приохотить. Умение, ступеньки, инструктора, значки всякие. А дело не для ступенек надо делать, не для «умений» там ваших, а просто уметь да делать как следует. Вот пленку ты, пожалуй, сумеешь проявить, а рукав зашить не можешь. А инструктором называешься! Какой же ты инструктор с разорванным-то рукавом?
– Опять про рукава! – чуть не заплакал Кондрат. – Я хотел о деле с тобой… а ты все рукава да рукава!
– Ну вот, хватился… – Отец вскинул на плечо ремешок аппарата, надел кепку и пошел из комнаты. – Как мне уходить, так ты про дело.
– Да у меня же к тебе пионерское поручение! Ребята просили тебя к нам на площадку прийти, чтобы ты фотографировать поучил. Я обещал, а ты!..
– А я не обещал.
Но, уже взявшись за ручку двери, он обернулся, внимательно посмотрел на Кондрата и смягчился:
– Приходите на строительство, дом снимать будем.
Кондрат просиял, засмеялся:
– Опять дом? Ой, папа, тебе этот дом, наверное, во сне снится!
– А тебе – нет?
Кондрату не снился новый дом, ему и в старом было хорошо. А чего нужно? Спать есть где. Стол – под окнами, уроки делать светло. Правда, на этом же столе они и обедают, но ведь не целый же день Кондрат сидит за уроками! Всему свое время – и обеду, и ужину, и урокам. У Кондрата в стене около двери даже гвоздь свой, чтобы вешать пальто. Места хватает. Но если всем так хочется переехать в новые квартиры – так что ж, Кондрат не возражает.
Торопливо сбежав с лестницы, Кондрат помчался в пионерский лагерь.
У ворот лагеря он чуть не налетел на Яшку Клетки на. Клеткин стоял с надменным видом, прищурив глаза и приподняв подбородок.
– Здравствуй, – сказал Кондрат и почему-то, растерявшись, протянул Яшке руку.
– Коли не шутишь, – ответил Яшка, не вынимая рук из карманов. – А где же твой батька с аппаратом? Болтаете только. Уа, уа!
Кондрат обиделся и молча прошел мимо него.
– Сейчас умру с горя, – сказал Яшка ему вслед.
Однако это было обидным разочарованием. Яшка нетерпеливо ждал этого утра. Ему вовсе не нужен был пионерский лагерь и все их ребячьи затеи. Какие-то разноцветные змеи, спектакли, пластилины… Но взять в руки настоящий фотоаппарат, поглядеть в глазок, щелкнуть! А потом, может быть, даже научиться и проявлять и печатать… Ох, и наснимал бы тогда Яшка разных карточек – и Парк культуры бы снял, и Москву-реку, и мост над Москвой-рекой! А то и в Кремль пошел бы, Царь-пушку снял. Он бы научился, только один разок посмотреть – и готово!
Но вот он, Кондрат, пришел, а Ивана-то Кузьмича с аппаратом и нет. Очень нужно Ивану Кузьмичу возиться с малявками. Как же, так вот сейчас наденет калоши и побежит к ним в садик!
Яшка, насвистывая, медленно направился по улице. Воскресенье, выходной. Отец дома и уже с утра «веселый», стучит кулаком по столу и кричит, что всех заставит ходить по одной половице, а мать смотрит куда-то в окно, будто не слышит ею, и Яшка знает, что ей скучно-скучно, так скучно, что хочется лечь, да и умереть. Яшка слышал, как она именно этими словами – лечь, да и умереть – говорила о своей тоске соседке.
И Яшке скучно. Жаркий летний день, когда люди ловят рыбу, собирают в лесу грибы, катаются на лодках, – этот день для Яшки был полон одиночества, безделья, тоски, оттого что неизвестно куда себя деть, и тайной печали, оттого что вся его жизнь какая-то нескладная и не как у людей. Куда идти? Что делать?
Может, в кино? Но все только кино и кино. А жизнь ведь не только на экране. Вот был бы у него фотоаппарат! Счастливый этот Кондратка: пойдет со своим отцом, да и будет снимать что захочет. Если бы у Яшкиного отца был такой «Зоркий» или еще лучше – «Киев»!
Вспомнив о своем отце, Яшка невольно скривил губы. У его отца – аппарат! А что бы он с ним стал делать? Только одно – пошел бы да пропил.
Яшка брел сам не зная куда. На углу улицы его окликнули:
– Яша! Клеткин!
Яшка обернулся. Его звала Зина Стрешнева, она махала ему рукой:
– Пойдем с нами!
– Куда еще? – хмуро спросил Яшка.
– Фо-то-гра-фи-ро-вать!..
Яшка, все так же хмурясь, повернул обратно. Он делал вид, что все это ему малоинтересно и что он идет так, от скуки. Но его узкие ярко-синие глаза так и светились от радости.
Зина стояла у ворот и ждала его.
– Идем с нами на стройку, Иван Кузьмич велел.
Новый дом уже на четыре этажа поднялся над землей, наметился и пятый. Он словно врезался в небо своими красными кирпичными стенами, весь разграфленный еще пустыми темными проемами окон и дверей – будущие окна, будущие двери будущих прекрасных квартир.
Среди штабелей кирпича, строительного мусора и холмов разрытой земли и глины ходил со своим «Зорким» Иван Кузьмич, высокий, сутулый, длинноногий. Вот он перешагнул через канаву с канализационной трубой, встал под старой черемухой, которую строители, оберегая, оставили для будущего сада, и навел аппарат на угол третьего этажа.
– Там будет наша квартира, – пояснил Кондрат.
Зина остановилась, не зная, как ей в своих белых парусиновых босоножках пройти среди сырых, разъезженных грузовиками глиняных бугров. Но ребята уже бежали к Ивану Кузьмичу, прыгая через канавы и доски. Первым подбежал Яшка.
– А нам поснимать дадите? – спросил он, глядя в глаза Ивану Кузьмичу, напряженно стараясь угадать по выражению этих глаз: даст он поснимать или откажет?
– Иди сюда, – сказал Иван Кузьмич, – стань здесь.
Яшка послушно встал там, где ему указали. Иван Кузьмич подал аппарат, закинул ему на шею желтый ремешок.
– Теперь гляди сюда, в глазок.
Яшка вдруг стал робким и покорным. Он поглядел в маленький волшебный глазок и увидел там и дом, и Зину, и ребятишек, и груды кирпичей, и кран с поднятой стрелой… Столько всего уместилось в этом глазке, и все видно так отчетливо и так ярко – прямо крошечная цветная картинка!
И Яшка снимал.
Он быстро, быстрее всех ребят понял, как нужно фотографировать, как находить нужный ракурс, сколько времени держать.
– А ты, брат, молодец, оказывается, – сказал ему Иван Кузьмич, – способный. Ты чей?
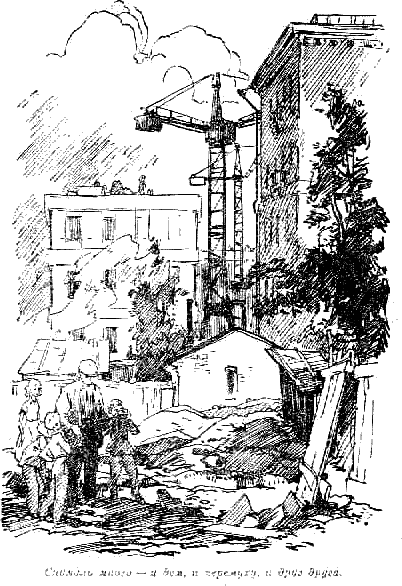
– Ивана Клетки на, слесаря, – нехотя ответил Яшка.
Иван Кузьмин хотел сказать: «А, это ты и есть Яшка Клеткин, который из школы убежал?» И хотел хорошенько пристыдить Яшку.
Но Яшка предвидел это и ловко перевел разговор:
– А как это делается, что карточки цветные бывают?
– Это особая статья. Это пленка такая есть, – сказал Иван Кузьмич и начал увлеченно объяснять, как делается эта пленка, на которой снимки получаются цветными.
Снимали много – и дом, и черемуху, и друг друга. Яшка снял целую группу – Зину и всех ребят с нею. Иван Кузьмич поднялся в свою будущую квартиру, и его сфотографировали глядящим из проема своего будущего окна.
Зина тайком следила за Яшкой.
«Вот чем можно привязать его, – думала она. – Может, будет в конце концов человеком».
И в первый раз она с радостным облегчением отметила, что думает о Яшке без вражды и раздражения. Ну и кто он такой, если разобраться? Маленький, заброшенный, обозлившийся мальчишка – вот и все. Стоит ли и можно ли сердиться на него? Елена Петровна права: его приручить надо, приручить лаской, доверием. Тоненький, хрупкий мостик уже протянулся между нею и Яшкой, надо уберечь этот мостик, укрепить его.
Пленка кончилась, и все отправились домой. Яшка не отходил от Ивана Кузьмича.
– А потом что? Проявлять?
– Проявлять. А потом печатать.
– А как проявлять? А как печатать?
Иван Кузьмич поглядел на него с высоты своего большого роста:
– А ты, я вижу, азартный! Приходи ужо, к вечеру, вместе проявлять будем, а потом печатать.
У Яшки широко раскрылись глаза:
– Правда?
– Да чего ж не правда?
– А хозяйка твоя… не выгонит?
– Моя мама не такая, чтобы выгонять, – сурово осадил его Кондрат.
Кондрат ревновал. Отец носится с Яшкой, как будто только один Яшка тут и есть. «Способный», «азартный», «молодец»… А как будто Кондрат хуже снимает. Он уже и проявлять умеет и печатать. Правда, ему некогда много заниматься фотографией, у него еще и других дел не сочтешь. А Яшка только по улицам слоняется. И уже он и «молодец» и «способный»!
– Вот и пойди, Яша, – вмешалась Зина, – вот и будете проявлять вместе с Кондратом.
– Пускай без меня проявляют, – ответил Кондрат, – я буду книжки в библиотеке выдавать. Да и потом, я ведь… не азартный.
– Эх, кабы у меня такой аппаратик был! – не слушая Кондрата, сказал Яшка. – С утра до ночи снимал бы. И ночью снимал бы! А что, Иван Кузьмич, ночью снимать можно?
– Я снимал. – Иван Кузьмич был рад, что наконец-то встретился ему человек, с которым можно сколько хочешь говорить о фотографии. – При больших фонарях снимал. Интересные снимки получаются. Придешь – покажу.
– Ладно! А поснимать дашь?
– Если сумеешь, конечно, дам. Все равно аппарат всю неделю без работы лежит. Кондрат – он ведь, ты сам слышал, до этого дела не азартный.
Зина видела, как сверкнули на отца глаза Кондрата. Но это ничего, пускай парнишка немного потерпит.
Может, Иван Кузьмич лучше, чем кто-либо, сумеет приручить Яшку.
Яшка с этого дня стал чаще появляться в лагере. Он принес отпечатанные карточки, на которых среди бугров и строительного материала стояли ребятишки и Зина. У Зины было темное лицо и черные волосы, но это ничего, это передержка. В следующих карточках этого не будет.
Зина по-прежнему не любила Яшку. Она заставляла себя терпеть его присутствие. Однако она все больше и больше убеждалась в том, что доброе отношение к человеку вызывает такое же доброе отношение и с его стороны. «Худой мир лучше доброй ссоры» – здесь эта пословица оправдывалась. Чем дальше, тем лучше и добрее становился этот худой мир. Яшка хоть и не стал ласковей, все-таки кое в чем начал уступать. Он уже не плевался, не дразнил маленьких и, кажется, перестал попрошайничать на улице.
Через Кондрата она знала, что Яшка теперь все вечера проводит у Ивана Кузьмича, что он без конца возится с пленками, печатает, проявляет и даже ходит фотографировать один – Иван Кузьмич дает ему фотоаппарат.
«Мы его выведем в люди, – похвалилась как-то Зина отцу. – Важно сначала чем-нибудь увлечь человека…»
«Ну что ж. Сначала увлечется, а потом надоест, – ответил отец. – Так тоже бывает».
Зина удивленно посмотрела на отца:
«Как ты можешь так думать, папа? Вот увидишь, мы этой зимой его в пионеры принимать будем!»
Отец с сомнением пожал плечами.
«Хорошо, если так. Буду рад и за него и за тебя».
Этот разговор огорчил Зину. А что, если и правда Яшка позабавится, да и уйдет снова на улицу попрошайничать, добывать деньги на кино и папиросы? А потом, может быть, и воровать. И что же тогда окажется? Что Зина и радовалась напрасно, и преодолевала свою вражду напрасно, и что никак она на Яшку не повлияла, и что никакой она не воспитатель и не вожатый.
Но нет, нет. Просто отец слишком осторожен. Ему нужны факты. Ну что ж, дай время, будут и факты! Вот посмотрим, что ты тогда скажешь, папка, недоверчивый человек!
…Был тот предвечерний час, когда рабочий день на заводе близится к концу, когда вахтер, поглядывая на часы, готовится дать гудок, а хозяйки начинают накрывать на стол. Мирный час, когда семья собирается к обеду и отдыху.
Зина тоже накрыла на стол. Обед был готов. Сегодня ей даже удалось сделать рисовый пудинг с клюквенным киселем. Антон уже похаживал из комнаты в кухню и поглядывал на кастрюлю с киселем, который остывал на окне.
В дверь позвонили. Антон бросился открывать:
– Папка!
– Какой папка? – сказала Зина, невольно встревожившись. – Еще гудка не было!
Звонил Кондрат. Он хмуро поздоровался с Зиной.
– Что случилось, Кондрат? – спросила Зина, чувствуя что-то недоброе, что касается и ее.
Кондрат мрачно посмотрел ей в глаза:
– Яшка сбежал.
Яшка сбежал! Зина неожиданно почувствовала смутную радость. Яшки нет, он, наконец, сделал то, чего когда-то так хотелось Зине. Его нет, он больше не будет приходить и пугать Антона, и Зине не надо будет напряженно следить за ним и изыскивать пути к сердцу этого неприятного и даже противного ей человека! Неужели это правда, неужели Яшка сам, по своей воле, освободил ее от своего присутствия?!
– И отцов аппарат унес, – сказал Кондрат.
– Как? Украл аппарат?
– Взял поснимать. А теперь Яшки нигде нету. И аппарата нету.
Зина побледнела. Ей стало стыдно своей мгновенной радости, ей не хотелось верить, что все это случилось. Может, просто он ушел куда-нибудь далеко, увлекшись снимками. Надо подождать, он явится, обязательно явится. Это невозможно, чтобы Яшка поступил так подло!
Ни Зина, ни Антон, ни Кондрат не слышали, как прогудел гудок на заводе. Отец, которому открыла соседка Анна Кузьминична, неожиданно вошел в комнату.
«Факты! Погоди, папка, будут и факты!» – пронеслось в мыслях Зины, и она, нахмурившись, закусила губу.
– Это что за совещание? – спросил отец, поглядев на их омраченные лица. – Какой вопрос обсуждается?
«И белье хорошо посушить», – добавляла какая-нибудь хозяйка.
Но ее тут же обрывали:
«Только вам белье сушить на балконах, как же! Дом стоит – красавец, а на балконах – тряпье развевается. Эко как культурно! Скажешь еще, половички потрясти с балкончика, людям на голову!..»
В это воскресное утро Иван Кузьмин как раз собирался на свой любимый объект – к строящемуся дому. Он заряжал кассеты, но загрубевшие от работы, желтые от табака пальцы с крупными ногтями как-то плохо слушались его.
– Дай-ка я, – сказал Кондрат, который стоял рядом и наблюдал за его сборами.
– Умеешь ты, как же! – ответил Иван Кузьмич. – Сколько говорил – учись. Не хочешь. А не хочешь – не надо.
– Почему это – не хочу? Да ты же не учишь. Тебе бы только самому ходить да снимать.
– А ходи и ты, пожалуйста. Но ведь тебе же все некогда, все по своим ступенькам лазишь.
– По каким ступенькам?
– По пионерским. По каким же еще?
Кондрат скупо усмехнулся:
– А какие они, по-твоему, ступеньки?
Отец молча налаживал аппарат.
– Ну что же замолчал-то? Говори, какие ступеньки?
– Чего ты пристал? Я почем знаю какие? Пионер я, что ли?
– Эх, отец, отсталый ты. Вот если я выучусь как следует фотографировать – значит, у меня будет умение. Понятно тебе? А если других ребят научу, буду пионер-инструктор. Понятно?
– А где ж тут ступеньки?
– Ну, раз у меня есть умение – значит, я шагнул на одну ступеньку. Понятно?
– Нет, не понятно. А если ты не фотографировать научишься, а, скажем, дрова рубить? Тоже ступенька?
– Ну… Тоже ступенька.
– А если курточку свою починишь – вон рукав-то у тебя разодрался…
– Опять рукава разодраны? – тотчас послышался из кухни голос матери. – Давно ли чинила, а?
– Ну вот, теперь про всякие рукава пошло, – недовольно сказал Кондрат, – я про ступеньки, а они…
– Ну ладно, давай про ступеньки, – согласился отец. – Так, если рукав зашьешь, тоже ступенька?
Кондрат не знал, что ответить. Если ступенька, то что-то уж очень маленькая. Но умение это или не умение? Пожалуй, все-таки умение.
– Гляжу, нянчатся с вами, как с грудными детками, – вздохнул отец, – лишь бы к какому делу приохотить. Умение, ступеньки, инструктора, значки всякие. А дело не для ступенек надо делать, не для «умений» там ваших, а просто уметь да делать как следует. Вот пленку ты, пожалуй, сумеешь проявить, а рукав зашить не можешь. А инструктором называешься! Какой же ты инструктор с разорванным-то рукавом?
– Опять про рукава! – чуть не заплакал Кондрат. – Я хотел о деле с тобой… а ты все рукава да рукава!
– Ну вот, хватился… – Отец вскинул на плечо ремешок аппарата, надел кепку и пошел из комнаты. – Как мне уходить, так ты про дело.
– Да у меня же к тебе пионерское поручение! Ребята просили тебя к нам на площадку прийти, чтобы ты фотографировать поучил. Я обещал, а ты!..
– А я не обещал.
Но, уже взявшись за ручку двери, он обернулся, внимательно посмотрел на Кондрата и смягчился:
– Приходите на строительство, дом снимать будем.
Кондрат просиял, засмеялся:
– Опять дом? Ой, папа, тебе этот дом, наверное, во сне снится!
– А тебе – нет?
Кондрату не снился новый дом, ему и в старом было хорошо. А чего нужно? Спать есть где. Стол – под окнами, уроки делать светло. Правда, на этом же столе они и обедают, но ведь не целый же день Кондрат сидит за уроками! Всему свое время – и обеду, и ужину, и урокам. У Кондрата в стене около двери даже гвоздь свой, чтобы вешать пальто. Места хватает. Но если всем так хочется переехать в новые квартиры – так что ж, Кондрат не возражает.
Торопливо сбежав с лестницы, Кондрат помчался в пионерский лагерь.
У ворот лагеря он чуть не налетел на Яшку Клетки на. Клеткин стоял с надменным видом, прищурив глаза и приподняв подбородок.
– Здравствуй, – сказал Кондрат и почему-то, растерявшись, протянул Яшке руку.
– Коли не шутишь, – ответил Яшка, не вынимая рук из карманов. – А где же твой батька с аппаратом? Болтаете только. Уа, уа!
Кондрат обиделся и молча прошел мимо него.
– Сейчас умру с горя, – сказал Яшка ему вслед.
Однако это было обидным разочарованием. Яшка нетерпеливо ждал этого утра. Ему вовсе не нужен был пионерский лагерь и все их ребячьи затеи. Какие-то разноцветные змеи, спектакли, пластилины… Но взять в руки настоящий фотоаппарат, поглядеть в глазок, щелкнуть! А потом, может быть, даже научиться и проявлять и печатать… Ох, и наснимал бы тогда Яшка разных карточек – и Парк культуры бы снял, и Москву-реку, и мост над Москвой-рекой! А то и в Кремль пошел бы, Царь-пушку снял. Он бы научился, только один разок посмотреть – и готово!
Но вот он, Кондрат, пришел, а Ивана-то Кузьмича с аппаратом и нет. Очень нужно Ивану Кузьмичу возиться с малявками. Как же, так вот сейчас наденет калоши и побежит к ним в садик!
Яшка, насвистывая, медленно направился по улице. Воскресенье, выходной. Отец дома и уже с утра «веселый», стучит кулаком по столу и кричит, что всех заставит ходить по одной половице, а мать смотрит куда-то в окно, будто не слышит ею, и Яшка знает, что ей скучно-скучно, так скучно, что хочется лечь, да и умереть. Яшка слышал, как она именно этими словами – лечь, да и умереть – говорила о своей тоске соседке.
И Яшке скучно. Жаркий летний день, когда люди ловят рыбу, собирают в лесу грибы, катаются на лодках, – этот день для Яшки был полон одиночества, безделья, тоски, оттого что неизвестно куда себя деть, и тайной печали, оттого что вся его жизнь какая-то нескладная и не как у людей. Куда идти? Что делать?
Может, в кино? Но все только кино и кино. А жизнь ведь не только на экране. Вот был бы у него фотоаппарат! Счастливый этот Кондратка: пойдет со своим отцом, да и будет снимать что захочет. Если бы у Яшкиного отца был такой «Зоркий» или еще лучше – «Киев»!
Вспомнив о своем отце, Яшка невольно скривил губы. У его отца – аппарат! А что бы он с ним стал делать? Только одно – пошел бы да пропил.
Яшка брел сам не зная куда. На углу улицы его окликнули:
– Яша! Клеткин!
Яшка обернулся. Его звала Зина Стрешнева, она махала ему рукой:
– Пойдем с нами!
– Куда еще? – хмуро спросил Яшка.
– Фо-то-гра-фи-ро-вать!..
Яшка, все так же хмурясь, повернул обратно. Он делал вид, что все это ему малоинтересно и что он идет так, от скуки. Но его узкие ярко-синие глаза так и светились от радости.
Зина стояла у ворот и ждала его.
– Идем с нами на стройку, Иван Кузьмич велел.
Новый дом уже на четыре этажа поднялся над землей, наметился и пятый. Он словно врезался в небо своими красными кирпичными стенами, весь разграфленный еще пустыми темными проемами окон и дверей – будущие окна, будущие двери будущих прекрасных квартир.
Среди штабелей кирпича, строительного мусора и холмов разрытой земли и глины ходил со своим «Зорким» Иван Кузьмич, высокий, сутулый, длинноногий. Вот он перешагнул через канаву с канализационной трубой, встал под старой черемухой, которую строители, оберегая, оставили для будущего сада, и навел аппарат на угол третьего этажа.
– Там будет наша квартира, – пояснил Кондрат.
Зина остановилась, не зная, как ей в своих белых парусиновых босоножках пройти среди сырых, разъезженных грузовиками глиняных бугров. Но ребята уже бежали к Ивану Кузьмичу, прыгая через канавы и доски. Первым подбежал Яшка.
– А нам поснимать дадите? – спросил он, глядя в глаза Ивану Кузьмичу, напряженно стараясь угадать по выражению этих глаз: даст он поснимать или откажет?
– Иди сюда, – сказал Иван Кузьмич, – стань здесь.
Яшка послушно встал там, где ему указали. Иван Кузьмич подал аппарат, закинул ему на шею желтый ремешок.
– Теперь гляди сюда, в глазок.
Яшка вдруг стал робким и покорным. Он поглядел в маленький волшебный глазок и увидел там и дом, и Зину, и ребятишек, и груды кирпичей, и кран с поднятой стрелой… Столько всего уместилось в этом глазке, и все видно так отчетливо и так ярко – прямо крошечная цветная картинка!
И Яшка снимал.
Он быстро, быстрее всех ребят понял, как нужно фотографировать, как находить нужный ракурс, сколько времени держать.
– А ты, брат, молодец, оказывается, – сказал ему Иван Кузьмич, – способный. Ты чей?
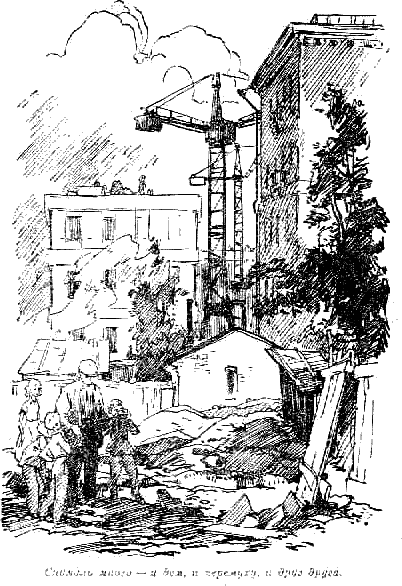
– Ивана Клетки на, слесаря, – нехотя ответил Яшка.
Иван Кузьмин хотел сказать: «А, это ты и есть Яшка Клеткин, который из школы убежал?» И хотел хорошенько пристыдить Яшку.
Но Яшка предвидел это и ловко перевел разговор:
– А как это делается, что карточки цветные бывают?
– Это особая статья. Это пленка такая есть, – сказал Иван Кузьмич и начал увлеченно объяснять, как делается эта пленка, на которой снимки получаются цветными.
Снимали много – и дом, и черемуху, и друг друга. Яшка снял целую группу – Зину и всех ребят с нею. Иван Кузьмич поднялся в свою будущую квартиру, и его сфотографировали глядящим из проема своего будущего окна.
Зина тайком следила за Яшкой.
«Вот чем можно привязать его, – думала она. – Может, будет в конце концов человеком».
И в первый раз она с радостным облегчением отметила, что думает о Яшке без вражды и раздражения. Ну и кто он такой, если разобраться? Маленький, заброшенный, обозлившийся мальчишка – вот и все. Стоит ли и можно ли сердиться на него? Елена Петровна права: его приручить надо, приручить лаской, доверием. Тоненький, хрупкий мостик уже протянулся между нею и Яшкой, надо уберечь этот мостик, укрепить его.
Пленка кончилась, и все отправились домой. Яшка не отходил от Ивана Кузьмича.
– А потом что? Проявлять?
– Проявлять. А потом печатать.
– А как проявлять? А как печатать?
Иван Кузьмич поглядел на него с высоты своего большого роста:
– А ты, я вижу, азартный! Приходи ужо, к вечеру, вместе проявлять будем, а потом печатать.
У Яшки широко раскрылись глаза:
– Правда?
– Да чего ж не правда?
– А хозяйка твоя… не выгонит?
– Моя мама не такая, чтобы выгонять, – сурово осадил его Кондрат.
Кондрат ревновал. Отец носится с Яшкой, как будто только один Яшка тут и есть. «Способный», «азартный», «молодец»… А как будто Кондрат хуже снимает. Он уже и проявлять умеет и печатать. Правда, ему некогда много заниматься фотографией, у него еще и других дел не сочтешь. А Яшка только по улицам слоняется. И уже он и «молодец» и «способный»!
– Вот и пойди, Яша, – вмешалась Зина, – вот и будете проявлять вместе с Кондратом.
– Пускай без меня проявляют, – ответил Кондрат, – я буду книжки в библиотеке выдавать. Да и потом, я ведь… не азартный.
– Эх, кабы у меня такой аппаратик был! – не слушая Кондрата, сказал Яшка. – С утра до ночи снимал бы. И ночью снимал бы! А что, Иван Кузьмич, ночью снимать можно?
– Я снимал. – Иван Кузьмич был рад, что наконец-то встретился ему человек, с которым можно сколько хочешь говорить о фотографии. – При больших фонарях снимал. Интересные снимки получаются. Придешь – покажу.
– Ладно! А поснимать дашь?
– Если сумеешь, конечно, дам. Все равно аппарат всю неделю без работы лежит. Кондрат – он ведь, ты сам слышал, до этого дела не азартный.
Зина видела, как сверкнули на отца глаза Кондрата. Но это ничего, пускай парнишка немного потерпит.
Может, Иван Кузьмич лучше, чем кто-либо, сумеет приручить Яшку.
Яшка с этого дня стал чаще появляться в лагере. Он принес отпечатанные карточки, на которых среди бугров и строительного материала стояли ребятишки и Зина. У Зины было темное лицо и черные волосы, но это ничего, это передержка. В следующих карточках этого не будет.
Зина по-прежнему не любила Яшку. Она заставляла себя терпеть его присутствие. Однако она все больше и больше убеждалась в том, что доброе отношение к человеку вызывает такое же доброе отношение и с его стороны. «Худой мир лучше доброй ссоры» – здесь эта пословица оправдывалась. Чем дальше, тем лучше и добрее становился этот худой мир. Яшка хоть и не стал ласковей, все-таки кое в чем начал уступать. Он уже не плевался, не дразнил маленьких и, кажется, перестал попрошайничать на улице.
Через Кондрата она знала, что Яшка теперь все вечера проводит у Ивана Кузьмича, что он без конца возится с пленками, печатает, проявляет и даже ходит фотографировать один – Иван Кузьмич дает ему фотоаппарат.
«Мы его выведем в люди, – похвалилась как-то Зина отцу. – Важно сначала чем-нибудь увлечь человека…»
«Ну что ж. Сначала увлечется, а потом надоест, – ответил отец. – Так тоже бывает».
Зина удивленно посмотрела на отца:
«Как ты можешь так думать, папа? Вот увидишь, мы этой зимой его в пионеры принимать будем!»
Отец с сомнением пожал плечами.
«Хорошо, если так. Буду рад и за него и за тебя».
Этот разговор огорчил Зину. А что, если и правда Яшка позабавится, да и уйдет снова на улицу попрошайничать, добывать деньги на кино и папиросы? А потом, может быть, и воровать. И что же тогда окажется? Что Зина и радовалась напрасно, и преодолевала свою вражду напрасно, и что никак она на Яшку не повлияла, и что никакой она не воспитатель и не вожатый.
Но нет, нет. Просто отец слишком осторожен. Ему нужны факты. Ну что ж, дай время, будут и факты! Вот посмотрим, что ты тогда скажешь, папка, недоверчивый человек!
…Был тот предвечерний час, когда рабочий день на заводе близится к концу, когда вахтер, поглядывая на часы, готовится дать гудок, а хозяйки начинают накрывать на стол. Мирный час, когда семья собирается к обеду и отдыху.
Зина тоже накрыла на стол. Обед был готов. Сегодня ей даже удалось сделать рисовый пудинг с клюквенным киселем. Антон уже похаживал из комнаты в кухню и поглядывал на кастрюлю с киселем, который остывал на окне.
В дверь позвонили. Антон бросился открывать:
– Папка!
– Какой папка? – сказала Зина, невольно встревожившись. – Еще гудка не было!
Звонил Кондрат. Он хмуро поздоровался с Зиной.
– Что случилось, Кондрат? – спросила Зина, чувствуя что-то недоброе, что касается и ее.
Кондрат мрачно посмотрел ей в глаза:
– Яшка сбежал.
Яшка сбежал! Зина неожиданно почувствовала смутную радость. Яшки нет, он, наконец, сделал то, чего когда-то так хотелось Зине. Его нет, он больше не будет приходить и пугать Антона, и Зине не надо будет напряженно следить за ним и изыскивать пути к сердцу этого неприятного и даже противного ей человека! Неужели это правда, неужели Яшка сам, по своей воле, освободил ее от своего присутствия?!
– И отцов аппарат унес, – сказал Кондрат.
– Как? Украл аппарат?
– Взял поснимать. А теперь Яшки нигде нету. И аппарата нету.
Зина побледнела. Ей стало стыдно своей мгновенной радости, ей не хотелось верить, что все это случилось. Может, просто он ушел куда-нибудь далеко, увлекшись снимками. Надо подождать, он явится, обязательно явится. Это невозможно, чтобы Яшка поступил так подло!
Ни Зина, ни Антон, ни Кондрат не слышали, как прогудел гудок на заводе. Отец, которому открыла соседка Анна Кузьминична, неожиданно вошел в комнату.
«Факты! Погоди, папка, будут и факты!» – пронеслось в мыслях Зины, и она, нахмурившись, закусила губу.
– Это что за совещание? – спросил отец, поглядев на их омраченные лица. – Какой вопрос обсуждается?
