Страница:
Не зная, что теперь делать в течение всего утра, я покрутилась вокруг театра, потом пошла в Галери Лафайетт. Я боялась, что меня заметят. Детей почему-то всегда замечают.
О завтраке и вопроса не вставало, потому что обычно я завтракала в школьной столовой… И я решила попытаться поймать Веру и Рейнетт, которые жили недалеко от Оперы и потому на большой перемене ходили домой.
Спрятавшись за колонной, я смотрела, как они приближаются. Они меня тоже увидели и, подойдя, стали обнимать. У них были новости. Прежде всего, к моему стыду, оказалось, что приказ о моем исключении вывешен на доске объявлений. А кроме того, уже в классе мадемуазель Обер говорила обо мне в весьма торжественном тоне.
— И что же она говорила?
— Она воспользовалась случаем, чтобы произнести целую речь: «Дельфина Надаль исключена из балетной школы и больше сюда никогда не вернется. Никогда! Наказание очень строгое, но оно соответствует ее вине: ведь поступок Дельфины чуть не привел к трагическим последствиям. Это наказание для вас должно послужить предупреждением, должно отбить у вас охоту не слушаться старших. Если мы требуем дисциплины, то исключительно для вашего же блага… Дельфина солгала. Ваша подруга виновна, но наказание превращает и ее в жертву. Вам необходимо помнить об этом, и пусть этот случай станет для вас уроком!»
Вера и Рейнетт сказали, что они плакали, слушая эту речь.
Как раньше Сюзон, я предложила им, чтобы все сказали правду… Но Вера тоже ответила, что не стоит усложнять положение и что месье Барлоф все уладит. Чтобы поддержать меня, Рейнетт заверила, что все подружки никогда не забудут, что я сделала ради них. Для них я стала кем-то вроде Жанны д'Арк.
Жанна д'Арк! Конечно, она национальная героиня и о ней много говорят, но я бы предпочла не иметь такой славы! Я бы предпочла славу без костра, в конце-то концов!
Мне необходимо было поговорить с месье Барлофом, но в то же время я не решалась зайти в театр. А вдруг меня увидит Дюмонтье? Или учителя? Или надзирательницы?
Вера и Рейнетт отправились на разведку и сообщили, что путь свободен. Я проскользнула в дверь за ними. Мне было очень стыдно, чувствуя себя преступницей, идти по этому театру, который я так любила.
В ожидании, пока начнется репетиция, мэтр работал один на большой пустой площадке. Вера и Рейнетт открыли передо мной тяжелую дверь, ведущую на сцену, и подтолкнули, шепнув «Ни пуха, ни пера!». И я пошла по направлению к месье Барлофу. Он-то думает, я пришла репетировать. О! Как бы я этого хотела, но вместо этого придется разговаривать…
Мэтр удивился, что я еще не в костюме, потому что репетиция должна была вот-вот начаться, да, конечно, он подумал, я пришла работать. Я с отчаянием посмотрела на него и собрала все свое мужество:
— Я не могу репетировать!
— Почему?
— Потому что меня исключили…
— Как это так?
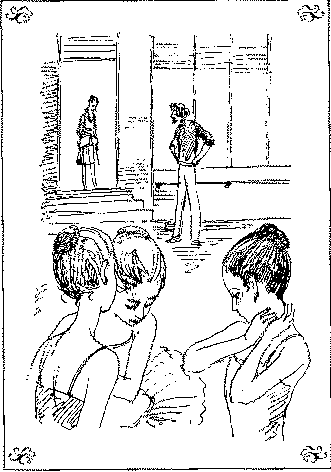 — Выгнали из школы… Я больше там не учусь…
— Выгнали из школы… Я больше там не учусь…
Такой всегда суровый мэтр чуть не расхохотался:
— Ну и ну! Что ж ты такое сделала, а? Рассказывай!
— Я была на крыше в тот вечер, когда случилось несчастье.
Мэтр не понял. Его вовсе не касались все эти истории, связанные с детьми… Но он меня выслушал и воскликнул:
— На крыше!
— Просто так, чтобы позабавиться, — выдавила из себя я.
Теперь он уже не собирался смеяться.
— Позабавиться? Да что же у тебя здесь? — Он постучал меня по лбу. — Я дал тебе роль, и вот как ты меня отблагодарила! Отправилась валять дурака на крышу!
Я умоляла простить меня. Но у него был по-прежнему очень недовольный вид.
— Ты знаешь, что сделала? Ты предала меня! Значит, ты не любишь свое дело? Значит, ты и меня не любишь?
Я не люблю месье Барлофа!!! Я, которая только и думает о нем! Чтобы доказать ему это, я сказала:
— Если мне не дадут танцевать Галатею, я покончу с собой!
Он погладил меня по голове:
— Успокойся! Успокойся! Я увижусь с директором после репетиции и попробую защитить тебя. Приходи завтра.
Его доброта подбодрила меня, и я решилась спросить:
— А сегодня вместо меня будет репетировать Жюли?
— Естественно.
Но видя, как слезы покатились у меня из глаз, он добавил:
— Но я тебе обещаю: Галатея без тебя не пройдет…
Теперь мне надо было как-то убить время. Как ужасно ничего не делать, привыкнув к тому, что, наоборот, ни на что не хватает времени! Должно быть, сейчас Жюли репетирует вместо меня… Как мне плохо… Ах, скорее бы завтра, скорее бы завтра!
Домой мне надо было вернуться к пяти. В ожидании я бродила по Парижу. Мне хотелось быть дома, с мамой, но в то же время я страшилась оказаться рядом с ней. Как тяжело врать ей! Но это необходимо. Завтра все уладится, и я смогу начать новую жизнь.
А еще мне очень хотелось есть. Еще бы — с утра одна маленькая булочка и плитка шоколада в полдень. Да, мне очень хотелось есть.
Люди смотрели на меня. Какой-то противный мужик испугал меня: он хотел дать мне конфет, но он был противный, и мама не разрешает разговаривать на улице с незнакомыми, так что я сбежала.
Укрылась я в Тюильри. Там было много мам с детьми. Они играли… Они были так беззаботны… Им-то не в чем себя упрекнуть! И я бродила по саду, шла, возвращалась обратно, притворялась такой же, как они… К примеру, делала вид, что меня жутко интересуют кораблики, плавающие в большом бассейне, или ослы, на которых, пронзительно крича, гарцевали ребятишки…
В саду было на что посмотреть: люди, статуи, фонтаны, растения, очертания цветников… Но на самом деле я ничего не видела. Из-за этого я спугнула целую стаю голубей, которых кормила какая-то старушка. И сама испугалась еще больше, чем они, потому что старушка посмотрела на меня с диким бешенством. Я поскорее убралась, но, оглянувшись, увидела, как голуби возвращаются к ней.
Я хотела отдохнуть в зеленом уголке, на лужайке. Там стояли две скамьи. На одной из них сидела очень красивая девушка с книжкой в руках. Ее присутствие меня успокоило, и я села напротив нее. Но вместо того, чтобы улыбнуться мне, красивая девушка вроде бы вовсе и не обрадовалась моему появлению — видимо, я чем-то ее раздражала. Чуть позже к ней подошел молодой человек. Я смотрела на них. Они, кажется, чем-то были раздосадованы и сразу же ушли. Конечно, я помешала им! Им было неприятно, что я здесь и наблюдаю за ними.
Я осталась одна, и пока дети в Тюильри играли, их игры, да и сам сад вернули меня к мыслям о балете, в котором я должна была танцевать. Я не спала, но как будто видела сон, я грезила наяву…
Настоящий сад Тюильри как бы растворился, уступив место театральному скверу. И все гуляющие в нем — дети, родители, все-все как бы превратились в исполнителей из балета «Как живая». А я сама — в маленькую Галатею, куклу, которая оживает, благодаря своему создателю — Ивану Барлофу.
С ним я делаю свои первые шаги. Создатель и кукла идут медленно-медленно. Он держит ее за руку. Я останавливаюсь, он отпускает меня, и уходит, и возвращается, протягивая ко мне руки. Тогда я сама иду к нему.
Потом я иду все быстрее и быстрее, я бегу, я прыгаю, я ухожу все дальше и дальше, я прыгаю все выше и выше, Иван хочет удержать меня но — играя — я вырываюсь, счастливая от того, что живу, от того, что он подарил мне жизнь.
Становясь все более и более ловкой, проворной и уверенной в себе, я преодолеваю все препятствия, и вот я уже на краю бассейна: я вижу ужас в глазах месье Барлофа. Но я бесстрашно иду по воде, я танцую на воде… Месье Барлоф в восторге, он смотрит на это чудо…
Но тут появляется сторож. У него лицо Дюмонтье. Пораженный, он смотрит, как я прогуливаюсь по воде. Потом свистит и бросается ко мне. Но — погружается по шею в воду… Он продолжает свистеть, а я кружусь и кружусь вокруг его головы, одетой в форменную фуражку.
Иван зовет меня… Я слушаюсь, ступаю на землю. Тогда появляется мадемуазель Лоренц в виде красивой девушки, одетой няней… Иван оставляет меня, чтобы следовать за ней… И я остаюсь одна… Меня охватывает страх, небо хмурится… И я снова вижу, как все было на крыше. Только на этот раз падает не Бернадетта — падаю я. Падаю, падаю…
Я закричала… И увидела, что меня окружили птицы, а чей-то голос вернул меня к реальности:
— Не бойся, они добрые…
Это оказался дяденька, наверное, большой друг птиц и детей, во всяком случае мне так показалось: он был очень милый. Он с интересом посмотрел на меня и спросил, почему у меня такой испуганный вид и что я делаю тут совсем одна.
Птицы летали вокруг него. Мне было нечего ответить, я немного отступила назад и пустилась наутек. У меня была теперь только одна цель: вернуться домой. Потому что пришло время.
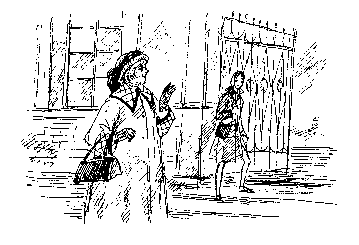
Глава V
Глава VI
О завтраке и вопроса не вставало, потому что обычно я завтракала в школьной столовой… И я решила попытаться поймать Веру и Рейнетт, которые жили недалеко от Оперы и потому на большой перемене ходили домой.
Спрятавшись за колонной, я смотрела, как они приближаются. Они меня тоже увидели и, подойдя, стали обнимать. У них были новости. Прежде всего, к моему стыду, оказалось, что приказ о моем исключении вывешен на доске объявлений. А кроме того, уже в классе мадемуазель Обер говорила обо мне в весьма торжественном тоне.
— И что же она говорила?
— Она воспользовалась случаем, чтобы произнести целую речь: «Дельфина Надаль исключена из балетной школы и больше сюда никогда не вернется. Никогда! Наказание очень строгое, но оно соответствует ее вине: ведь поступок Дельфины чуть не привел к трагическим последствиям. Это наказание для вас должно послужить предупреждением, должно отбить у вас охоту не слушаться старших. Если мы требуем дисциплины, то исключительно для вашего же блага… Дельфина солгала. Ваша подруга виновна, но наказание превращает и ее в жертву. Вам необходимо помнить об этом, и пусть этот случай станет для вас уроком!»
Вера и Рейнетт сказали, что они плакали, слушая эту речь.
Как раньше Сюзон, я предложила им, чтобы все сказали правду… Но Вера тоже ответила, что не стоит усложнять положение и что месье Барлоф все уладит. Чтобы поддержать меня, Рейнетт заверила, что все подружки никогда не забудут, что я сделала ради них. Для них я стала кем-то вроде Жанны д'Арк.
Жанна д'Арк! Конечно, она национальная героиня и о ней много говорят, но я бы предпочла не иметь такой славы! Я бы предпочла славу без костра, в конце-то концов!
Мне необходимо было поговорить с месье Барлофом, но в то же время я не решалась зайти в театр. А вдруг меня увидит Дюмонтье? Или учителя? Или надзирательницы?
Вера и Рейнетт отправились на разведку и сообщили, что путь свободен. Я проскользнула в дверь за ними. Мне было очень стыдно, чувствуя себя преступницей, идти по этому театру, который я так любила.
В ожидании, пока начнется репетиция, мэтр работал один на большой пустой площадке. Вера и Рейнетт открыли передо мной тяжелую дверь, ведущую на сцену, и подтолкнули, шепнув «Ни пуха, ни пера!». И я пошла по направлению к месье Барлофу. Он-то думает, я пришла репетировать. О! Как бы я этого хотела, но вместо этого придется разговаривать…
Мэтр удивился, что я еще не в костюме, потому что репетиция должна была вот-вот начаться, да, конечно, он подумал, я пришла работать. Я с отчаянием посмотрела на него и собрала все свое мужество:
— Я не могу репетировать!
— Почему?
— Потому что меня исключили…
— Как это так?
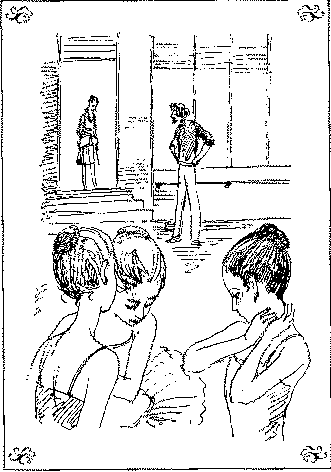
Такой всегда суровый мэтр чуть не расхохотался:
— Ну и ну! Что ж ты такое сделала, а? Рассказывай!
— Я была на крыше в тот вечер, когда случилось несчастье.
Мэтр не понял. Его вовсе не касались все эти истории, связанные с детьми… Но он меня выслушал и воскликнул:
— На крыше!
— Просто так, чтобы позабавиться, — выдавила из себя я.
Теперь он уже не собирался смеяться.
— Позабавиться? Да что же у тебя здесь? — Он постучал меня по лбу. — Я дал тебе роль, и вот как ты меня отблагодарила! Отправилась валять дурака на крышу!
Я умоляла простить меня. Но у него был по-прежнему очень недовольный вид.
— Ты знаешь, что сделала? Ты предала меня! Значит, ты не любишь свое дело? Значит, ты и меня не любишь?
Я не люблю месье Барлофа!!! Я, которая только и думает о нем! Чтобы доказать ему это, я сказала:
— Если мне не дадут танцевать Галатею, я покончу с собой!
Он погладил меня по голове:
— Успокойся! Успокойся! Я увижусь с директором после репетиции и попробую защитить тебя. Приходи завтра.
Его доброта подбодрила меня, и я решилась спросить:
— А сегодня вместо меня будет репетировать Жюли?
— Естественно.
Но видя, как слезы покатились у меня из глаз, он добавил:
— Но я тебе обещаю: Галатея без тебя не пройдет…
Теперь мне надо было как-то убить время. Как ужасно ничего не делать, привыкнув к тому, что, наоборот, ни на что не хватает времени! Должно быть, сейчас Жюли репетирует вместо меня… Как мне плохо… Ах, скорее бы завтра, скорее бы завтра!
Домой мне надо было вернуться к пяти. В ожидании я бродила по Парижу. Мне хотелось быть дома, с мамой, но в то же время я страшилась оказаться рядом с ней. Как тяжело врать ей! Но это необходимо. Завтра все уладится, и я смогу начать новую жизнь.
А еще мне очень хотелось есть. Еще бы — с утра одна маленькая булочка и плитка шоколада в полдень. Да, мне очень хотелось есть.
Люди смотрели на меня. Какой-то противный мужик испугал меня: он хотел дать мне конфет, но он был противный, и мама не разрешает разговаривать на улице с незнакомыми, так что я сбежала.
Укрылась я в Тюильри. Там было много мам с детьми. Они играли… Они были так беззаботны… Им-то не в чем себя упрекнуть! И я бродила по саду, шла, возвращалась обратно, притворялась такой же, как они… К примеру, делала вид, что меня жутко интересуют кораблики, плавающие в большом бассейне, или ослы, на которых, пронзительно крича, гарцевали ребятишки…
В саду было на что посмотреть: люди, статуи, фонтаны, растения, очертания цветников… Но на самом деле я ничего не видела. Из-за этого я спугнула целую стаю голубей, которых кормила какая-то старушка. И сама испугалась еще больше, чем они, потому что старушка посмотрела на меня с диким бешенством. Я поскорее убралась, но, оглянувшись, увидела, как голуби возвращаются к ней.
Я хотела отдохнуть в зеленом уголке, на лужайке. Там стояли две скамьи. На одной из них сидела очень красивая девушка с книжкой в руках. Ее присутствие меня успокоило, и я села напротив нее. Но вместо того, чтобы улыбнуться мне, красивая девушка вроде бы вовсе и не обрадовалась моему появлению — видимо, я чем-то ее раздражала. Чуть позже к ней подошел молодой человек. Я смотрела на них. Они, кажется, чем-то были раздосадованы и сразу же ушли. Конечно, я помешала им! Им было неприятно, что я здесь и наблюдаю за ними.
Я осталась одна, и пока дети в Тюильри играли, их игры, да и сам сад вернули меня к мыслям о балете, в котором я должна была танцевать. Я не спала, но как будто видела сон, я грезила наяву…
Настоящий сад Тюильри как бы растворился, уступив место театральному скверу. И все гуляющие в нем — дети, родители, все-все как бы превратились в исполнителей из балета «Как живая». А я сама — в маленькую Галатею, куклу, которая оживает, благодаря своему создателю — Ивану Барлофу.
С ним я делаю свои первые шаги. Создатель и кукла идут медленно-медленно. Он держит ее за руку. Я останавливаюсь, он отпускает меня, и уходит, и возвращается, протягивая ко мне руки. Тогда я сама иду к нему.
Потом я иду все быстрее и быстрее, я бегу, я прыгаю, я ухожу все дальше и дальше, я прыгаю все выше и выше, Иван хочет удержать меня но — играя — я вырываюсь, счастливая от того, что живу, от того, что он подарил мне жизнь.
Становясь все более и более ловкой, проворной и уверенной в себе, я преодолеваю все препятствия, и вот я уже на краю бассейна: я вижу ужас в глазах месье Барлофа. Но я бесстрашно иду по воде, я танцую на воде… Месье Барлоф в восторге, он смотрит на это чудо…
Но тут появляется сторож. У него лицо Дюмонтье. Пораженный, он смотрит, как я прогуливаюсь по воде. Потом свистит и бросается ко мне. Но — погружается по шею в воду… Он продолжает свистеть, а я кружусь и кружусь вокруг его головы, одетой в форменную фуражку.
Иван зовет меня… Я слушаюсь, ступаю на землю. Тогда появляется мадемуазель Лоренц в виде красивой девушки, одетой няней… Иван оставляет меня, чтобы следовать за ней… И я остаюсь одна… Меня охватывает страх, небо хмурится… И я снова вижу, как все было на крыше. Только на этот раз падает не Бернадетта — падаю я. Падаю, падаю…
Я закричала… И увидела, что меня окружили птицы, а чей-то голос вернул меня к реальности:
— Не бойся, они добрые…
Это оказался дяденька, наверное, большой друг птиц и детей, во всяком случае мне так показалось: он был очень милый. Он с интересом посмотрел на меня и спросил, почему у меня такой испуганный вид и что я делаю тут совсем одна.
Птицы летали вокруг него. Мне было нечего ответить, я немного отступила назад и пустилась наутек. У меня была теперь только одна цель: вернуться домой. Потому что пришло время.
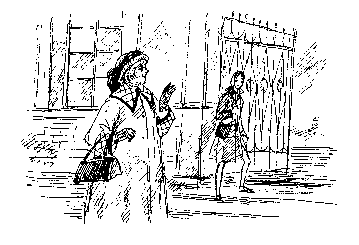
Глава V
ВЕЧЕРОМ
Я на пределе. Наконец-то я добралась до своей кровати. Это мое убежище. Здесь можно спокойно поплакать. Никто меня не увидит.
Как это ужасно — врать! Нужно без конца что-то придумывать и передергивать, и при этом сохранять самый что ни на есть натуральный вид, хотя ты сама не своя. Со мной такого никогда не было и больше никогда не будет. Но сейчас я уже завелась, и мне необходимо сохранить спокойствие и доверие мамы.
Этим вечером в Гранд-Опера идет «Фауст». Я должна была играть там крестьянку в первом акте и негритенка в «Вальпургиевой ночи». Меня провожает мадам Обри. Доктор посоветовал маме быть поосторожнее и не выходить еще, по крайней мере, два-три дня. До тех пор, надеюсь, все мои неприятности закончатся.
Мне было ужасно трудно придумать, чем бы заняться в течение всего вечера. Было решено, что месье Обри заберет меня после спектакля. Следовательно, я должна делать вид, что ничего не случилось, ну, я и села в автобус с мадам Обри.
Но куда же мне все-таки девать время?
Вообще-то мне повезло: мама так ни о чем и не подозревает. Надо признать, Фредерик Обри — молодец, ничего ей не сказал. Это правда, он не доносчик. Можно ему доверять. Но только что, когда я полдничала, мама вдруг стала вести себя как-то странно, немножко застенчиво и кокетливо, что ли. Даже больная, она очень красивая, моя мама… Она неожиданно спросила меня, как я отношусь к тому, чтобы она вышла замуж, естественно, за Фредерика, — Бернадетта была права! Мама сказала, что ничего не сделает без моего согласия. Она хочет, чтобы я тоже была счастлива. Ну, и она велела мне подумать, а сама, сказала, подождет моего ответа. В этот момент я не могла, разумеется, ей ни в чем отказать, слишком была виновата перед ней, но как-то уж очень много сразу на меня свалилось.
В автобусе мадам Обри говорила не смолкая. У нее в голове только одна мысль: как бы женить Фредерика на маме, и если она видела, что я встревожена, то ей казалось исключительно из-за этого проекта, она ни на секунду не заподозрила, что у меня могут быть какие-то свои, совсем другие проблемы.
При иных обстоятельствах мне бы, наверное, понравилось вот так, на равных, разговаривать с пожилой дамой, ведь я всего лишь маленькая девочка. А она разговаривала со мной очень серьезно, но временами это было как-то странно, потому что вообще мадам Обри любит посмеяться, и мама всегда говорит, у нее замечательное чувство юмора.
Юмор… Не знаю толком, что это означает. По-моему, это когда ты сохраняешь способность улыбаться даже во время катастрофы. Наверное, очень приятно иметь чувство юмора, но у меня его, кажется, нет: при всех моих несчастьях я не способна выдавить из себя улыбку.
Ну вот, значит, мадам Обри всю дорогу болтала, расспрашивала меня, давала советы:
— Вроде бы у Терезы (так зовут мою маму) и Фредерика дело не ладится… Мне даже кажется, все идет хуже и хуже… К Фредерику прямо и не подступишься… И все это — из-за тебя!
— Из-за меня?
Мадам Обри стала очень серьезной и начала говорить со мной, как с подругой своих лет:
— Послушай. Что, если нам объясниться напрямую? Между нами говоря, твоя мама и мой сын не такие уж бойкие сами по себе. Но не так же трудно объясниться! У тебя чудесная мама, ты понимаешь, я сама тоже хорошая мать, и меня просто бесит, когда я вижу, что ты стоишь между Терезой и Фредериком. Если бы ты захотела, — вполне могла бы все уладить… Тебе же нравится Фредерик?
— Да.
— Ну вот, я бы на твоем месте поговорила бы с ним, успокоила бы его, приободрила. Вот уже шесть лет, как он ждет, пока ты подрастешь и с тобой можно будет поговорить. Можно сказать, он до безумия влюблен в твою маму! Ну, ладно, потом ты сама поймешь это… ОН ХОЧЕТ ЖЕНИТЬСЯ НА ТВОЕЙ МАМЕ!
Меня это не удивило, я так и сказала мадам Обри.
— Я знаю. Как раз сегодня утром мама мне сказала.
Мадам Обри вздохнула, еле удержавшись от смеха.
— Ах, вот как! А я-то тут распинаюсь… Но я думала, она никогда не решится! Ну и что — она спрашивала твоего разрешения?
Действительно, все произошло почти так.
Мадам Обри немного помолчала. Мимо нас протекали улицы. Мы были уже у Пале-Рояля, и мне хотелось, чтобы эта поездка никогда не кончалась…
Мадам Обри похлопала меня по руке.
— Так что же ты ответила?
— Ну… Что я не против…
— Слава Богу! Это прекрасно! Почему же у тебя такой похоронный вид? По-моему, все идет отлично, ведь я очень люблю тебя и очень люблю твою маму. Вы мне обе нравитесь.
Я спросила:
— А что мне теперь делать?
— Дать абсолютно ясный ответ. Прямо сказать, что ты согласна. Они только этого и ждут.
Увы! Автобус остановился на роковой остановке: Опера! Мы вышли из него. Мадам Обри поцеловала меня.
— Фредерик зайдет за тобой, как обычно.
У входа в театр мы наконец расстались. Она подождала, пока я открою дверь, чтобы уйти самой, а на прощанье велела мне быть умницей. Взрослые всегда советуют нам быть умниками, и я начинаю понимать: возможно, они не так уж и неправы!
Оказавшись в вестибюле, я бегом поднялась на три этажа по лестнице, ведущей на сцену. Там есть множество коридоров, темных уголков и расставленных повсюду декораций, где можно спрятаться. Вот я и проскользнула за старого картонного сфинкса из «Аиды» и стала ждать там, не появится ли кто-нибудь из моих подружек. Других встреч я боялась и, как какая-нибудь воровка, принимала всякие меры предосторожности.
Скрывшись в тени, я наблюдала, как мимо проходят люди со знакомыми лицами: надзирательницы, девочки из школы, хористы в костюмах из первого акта. Потом я увидела Мефистофеля в его фантастическом одеянии дьявола. Он готовился выйти на сцену и распевался во весь голос, откашливаясь, чтобы прочистить горло. У него очень красивый голос — у этого дьявола: баритон. И он всегда очень ласков со мной. Он великий певец, но это не мешает ему любить детей, и мне кажется, у него слабость ко мне, потому что он часто угощает меня конфетами и болтает со мной, как будто мы лучшие друзья.
Увидев моего друга, певца-дьявола, я невольно шевельнулась, и это выдало мое присутствие за сфинксом. Мефисто заметил меня и подошел.
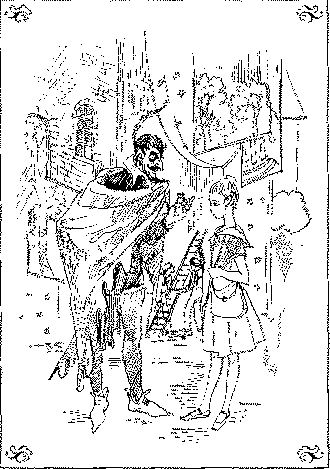 — Что это ты тут делаешь?
— Что это ты тут делаешь?
Я была застигнута врасплох.
— Хотела поздороваться с вами…
— Какая ты милая, ты ангел, просто ангел, уж я-то знаю, что говорю! — и он сам засмеялся своей шутке.
Мефисто протянул мне пастилку, которая пахла лекарством.
— Хочешь конфетку? Отлично для горла… Но вот что касается ног, — тут я не гарантирую…
Потом он спросил меня:
— А как Галатея? Все в порядке?
Я растерянно кивнула головой. Мефисто был в прекрасном настроении, но меня, видимо, находил какой-то странной:
— Вот еще, вот еще, что это ты так? Надо быть повеселее! Я приду посмотреть на тебя и глаз с тебя не спущу! (Он опять засмеялся.) Дьявольских глаз! Ну, ладно, ладно, не волнуйся, я добрый дьявол. До скорого: увидимся в «Вальпургиевой ночи»!
Я смотрела, как он исчезает за декорациями, завернувшись в свои огромные красные крылья.
«Вальпургиева ночь»… Большой праздник, на котором дьявол предлагает Фаусту все соблазны мира… Балет всегда нравится публике в этой части оперы, а звезды по очереди танцуют в ней главные партии: Клеопатру, Лаис, Фринию…
Наконец я увидела, как Марселина идет из гримерки на сцену. Я подозвала ее. Было приятно с ней встретиться: она меня очень мило поцеловала и рассказала новости. Что месье Барлоф вроде бы не очень доволен Жюли и что я могу верить в него. Что девочки, кажется, нервничают… Одни хотят рассказать, как все было на самом деле, другие предпочитают выждать. Но что-то по-прежнему происходит: инспекторша не вылезает из театра и расследование продолжается.
Но когда Марселина сказала мне, что Мерседес поручили разобрать мой шкафчик, у меня закололо сердце. Марселина стала утешать меня, она обещала попросить Веру (ее шкафчик рядом с моим) взять к себе мои вещи, пока все не закончится.
По всему театру громкоговорители возвестили, что занавес поднимается. Нам пора было расставаться. Марселина казалась расстроенной:
— Что ты будешь делать весь вечер?
— Ничего…
— Держи!
И она дала мне газету, чтобы я могла хоть как-то отвлечься.
Как будто я могу отвлечься! Никто не заметил, как я спустилась вниз и вышла на улицу.
С этих пор Опера будет продолжать свою жизнь без меня. Я не в счет, меня больше не существует.
Появление на улице поздно вечером маленькой девочки, которая бредет незнамо куда, наверное, кажется странным. Все смотрели на меня.
Ночной город усилил мою тоску, мою тревогу, я бродила без всякой цели, не слишком удаляясь от театра. Я рассматривала витрины магазинов, одного, другого, третьего… Потом встала на переходе, будто пережидаю красный свет, но на зеленый переходить не стала. Машины снова помчались мимо меня. Полицейский заметил мою нерешительность, подумал, что я боюсь, и остановил движение. Мне пришлось перейти мостовую. Оказавшись на другой стороне бульвара, я снова повернула назад. Полицейский наблюдал за мной и дружелюбно помахал мне. Ну, и я удрала как можно быстрее.
В конце концов, я добралась до самых темных, вызывающих страх улиц. Начался дождь. Оказалось, что я — на улице Матадор, дождь усиливался, надо было спрятаться, чтобы переждать его. Я зашла в ворота, где рядом со мной стояли две очень милых дамы. Они улыбнулись мне, потом заговорили со мной. Как это странно: взрослые всегда задают такие вопросы, которые ставят тебя в трудное положение!
— Что ты здесь делаешь чуть ли не ночью под дождем? Ты потерялась, малышка?
Я не ответила. Но дама настаивала:
— Тебе надо скорее идти домой…
Пришлось покинуть мое убежище, и ноги сами привели меня обратно к Опере. Я обошла театр, подняв голову к бронзовым статуям, держащим канделябры. Я обошла здание много раз…
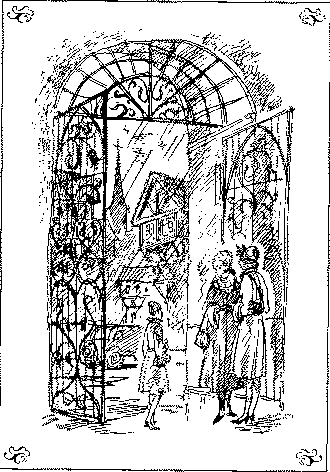 В это время там шел спектакль. «Фауста» я знала наизусть. Хор солдат… Встреча Фауста и Маргариты… И Мефистофель — такой ужасный в этой истории и такой симпатичный за кулисами*… Дьявол, который угощает конфетами! А потом — сцена, когда Маргарита находит драгоценности в шкатулке… А потом — балет, «Вальпургиева ночь»… Там я обычно танцевала негритенка… А потом — финал, смерть Маргариты, вознесение ее на небеса среди ангелов…
В это время там шел спектакль. «Фауста» я знала наизусть. Хор солдат… Встреча Фауста и Маргариты… И Мефистофель — такой ужасный в этой истории и такой симпатичный за кулисами*… Дьявол, который угощает конфетами! А потом — сцена, когда Маргарита находит драгоценности в шкатулке… А потом — балет, «Вальпургиева ночь»… Там я обычно танцевала негритенка… А потом — финал, смерть Маргариты, вознесение ее на небеса среди ангелов…
Я ходила и ходила по улицам, дожидаясь конца спектакля. Подошла к стоянке. К счастью, машина Фредерика была не закрыта, и я устроилась в ней, как в маленьком домике.
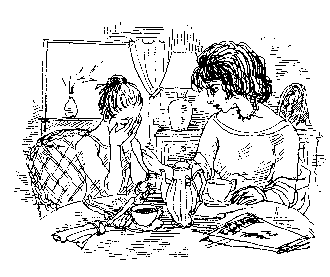
Как это ужасно — врать! Нужно без конца что-то придумывать и передергивать, и при этом сохранять самый что ни на есть натуральный вид, хотя ты сама не своя. Со мной такого никогда не было и больше никогда не будет. Но сейчас я уже завелась, и мне необходимо сохранить спокойствие и доверие мамы.
Этим вечером в Гранд-Опера идет «Фауст». Я должна была играть там крестьянку в первом акте и негритенка в «Вальпургиевой ночи». Меня провожает мадам Обри. Доктор посоветовал маме быть поосторожнее и не выходить еще, по крайней мере, два-три дня. До тех пор, надеюсь, все мои неприятности закончатся.
Мне было ужасно трудно придумать, чем бы заняться в течение всего вечера. Было решено, что месье Обри заберет меня после спектакля. Следовательно, я должна делать вид, что ничего не случилось, ну, я и села в автобус с мадам Обри.
Но куда же мне все-таки девать время?
Вообще-то мне повезло: мама так ни о чем и не подозревает. Надо признать, Фредерик Обри — молодец, ничего ей не сказал. Это правда, он не доносчик. Можно ему доверять. Но только что, когда я полдничала, мама вдруг стала вести себя как-то странно, немножко застенчиво и кокетливо, что ли. Даже больная, она очень красивая, моя мама… Она неожиданно спросила меня, как я отношусь к тому, чтобы она вышла замуж, естественно, за Фредерика, — Бернадетта была права! Мама сказала, что ничего не сделает без моего согласия. Она хочет, чтобы я тоже была счастлива. Ну, и она велела мне подумать, а сама, сказала, подождет моего ответа. В этот момент я не могла, разумеется, ей ни в чем отказать, слишком была виновата перед ней, но как-то уж очень много сразу на меня свалилось.
В автобусе мадам Обри говорила не смолкая. У нее в голове только одна мысль: как бы женить Фредерика на маме, и если она видела, что я встревожена, то ей казалось исключительно из-за этого проекта, она ни на секунду не заподозрила, что у меня могут быть какие-то свои, совсем другие проблемы.
При иных обстоятельствах мне бы, наверное, понравилось вот так, на равных, разговаривать с пожилой дамой, ведь я всего лишь маленькая девочка. А она разговаривала со мной очень серьезно, но временами это было как-то странно, потому что вообще мадам Обри любит посмеяться, и мама всегда говорит, у нее замечательное чувство юмора.
Юмор… Не знаю толком, что это означает. По-моему, это когда ты сохраняешь способность улыбаться даже во время катастрофы. Наверное, очень приятно иметь чувство юмора, но у меня его, кажется, нет: при всех моих несчастьях я не способна выдавить из себя улыбку.
Ну вот, значит, мадам Обри всю дорогу болтала, расспрашивала меня, давала советы:
— Вроде бы у Терезы (так зовут мою маму) и Фредерика дело не ладится… Мне даже кажется, все идет хуже и хуже… К Фредерику прямо и не подступишься… И все это — из-за тебя!
— Из-за меня?
Мадам Обри стала очень серьезной и начала говорить со мной, как с подругой своих лет:
— Послушай. Что, если нам объясниться напрямую? Между нами говоря, твоя мама и мой сын не такие уж бойкие сами по себе. Но не так же трудно объясниться! У тебя чудесная мама, ты понимаешь, я сама тоже хорошая мать, и меня просто бесит, когда я вижу, что ты стоишь между Терезой и Фредериком. Если бы ты захотела, — вполне могла бы все уладить… Тебе же нравится Фредерик?
— Да.
— Ну вот, я бы на твоем месте поговорила бы с ним, успокоила бы его, приободрила. Вот уже шесть лет, как он ждет, пока ты подрастешь и с тобой можно будет поговорить. Можно сказать, он до безумия влюблен в твою маму! Ну, ладно, потом ты сама поймешь это… ОН ХОЧЕТ ЖЕНИТЬСЯ НА ТВОЕЙ МАМЕ!
Меня это не удивило, я так и сказала мадам Обри.
— Я знаю. Как раз сегодня утром мама мне сказала.
Мадам Обри вздохнула, еле удержавшись от смеха.
— Ах, вот как! А я-то тут распинаюсь… Но я думала, она никогда не решится! Ну и что — она спрашивала твоего разрешения?
Действительно, все произошло почти так.
Мадам Обри немного помолчала. Мимо нас протекали улицы. Мы были уже у Пале-Рояля, и мне хотелось, чтобы эта поездка никогда не кончалась…
Мадам Обри похлопала меня по руке.
— Так что же ты ответила?
— Ну… Что я не против…
— Слава Богу! Это прекрасно! Почему же у тебя такой похоронный вид? По-моему, все идет отлично, ведь я очень люблю тебя и очень люблю твою маму. Вы мне обе нравитесь.
Я спросила:
— А что мне теперь делать?
— Дать абсолютно ясный ответ. Прямо сказать, что ты согласна. Они только этого и ждут.
Увы! Автобус остановился на роковой остановке: Опера! Мы вышли из него. Мадам Обри поцеловала меня.
— Фредерик зайдет за тобой, как обычно.
У входа в театр мы наконец расстались. Она подождала, пока я открою дверь, чтобы уйти самой, а на прощанье велела мне быть умницей. Взрослые всегда советуют нам быть умниками, и я начинаю понимать: возможно, они не так уж и неправы!
Оказавшись в вестибюле, я бегом поднялась на три этажа по лестнице, ведущей на сцену. Там есть множество коридоров, темных уголков и расставленных повсюду декораций, где можно спрятаться. Вот я и проскользнула за старого картонного сфинкса из «Аиды» и стала ждать там, не появится ли кто-нибудь из моих подружек. Других встреч я боялась и, как какая-нибудь воровка, принимала всякие меры предосторожности.
Скрывшись в тени, я наблюдала, как мимо проходят люди со знакомыми лицами: надзирательницы, девочки из школы, хористы в костюмах из первого акта. Потом я увидела Мефистофеля в его фантастическом одеянии дьявола. Он готовился выйти на сцену и распевался во весь голос, откашливаясь, чтобы прочистить горло. У него очень красивый голос — у этого дьявола: баритон. И он всегда очень ласков со мной. Он великий певец, но это не мешает ему любить детей, и мне кажется, у него слабость ко мне, потому что он часто угощает меня конфетами и болтает со мной, как будто мы лучшие друзья.
Увидев моего друга, певца-дьявола, я невольно шевельнулась, и это выдало мое присутствие за сфинксом. Мефисто заметил меня и подошел.
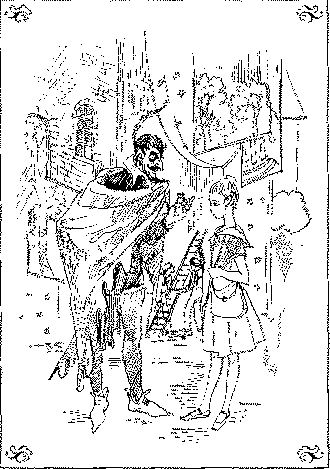
Я была застигнута врасплох.
— Хотела поздороваться с вами…
— Какая ты милая, ты ангел, просто ангел, уж я-то знаю, что говорю! — и он сам засмеялся своей шутке.
Мефисто протянул мне пастилку, которая пахла лекарством.
— Хочешь конфетку? Отлично для горла… Но вот что касается ног, — тут я не гарантирую…
Потом он спросил меня:
— А как Галатея? Все в порядке?
Я растерянно кивнула головой. Мефисто был в прекрасном настроении, но меня, видимо, находил какой-то странной:
— Вот еще, вот еще, что это ты так? Надо быть повеселее! Я приду посмотреть на тебя и глаз с тебя не спущу! (Он опять засмеялся.) Дьявольских глаз! Ну, ладно, ладно, не волнуйся, я добрый дьявол. До скорого: увидимся в «Вальпургиевой ночи»!
Я смотрела, как он исчезает за декорациями, завернувшись в свои огромные красные крылья.
«Вальпургиева ночь»… Большой праздник, на котором дьявол предлагает Фаусту все соблазны мира… Балет всегда нравится публике в этой части оперы, а звезды по очереди танцуют в ней главные партии: Клеопатру, Лаис, Фринию…
Наконец я увидела, как Марселина идет из гримерки на сцену. Я подозвала ее. Было приятно с ней встретиться: она меня очень мило поцеловала и рассказала новости. Что месье Барлоф вроде бы не очень доволен Жюли и что я могу верить в него. Что девочки, кажется, нервничают… Одни хотят рассказать, как все было на самом деле, другие предпочитают выждать. Но что-то по-прежнему происходит: инспекторша не вылезает из театра и расследование продолжается.
Но когда Марселина сказала мне, что Мерседес поручили разобрать мой шкафчик, у меня закололо сердце. Марселина стала утешать меня, она обещала попросить Веру (ее шкафчик рядом с моим) взять к себе мои вещи, пока все не закончится.
По всему театру громкоговорители возвестили, что занавес поднимается. Нам пора было расставаться. Марселина казалась расстроенной:
— Что ты будешь делать весь вечер?
— Ничего…
— Держи!
И она дала мне газету, чтобы я могла хоть как-то отвлечься.
Как будто я могу отвлечься! Никто не заметил, как я спустилась вниз и вышла на улицу.
С этих пор Опера будет продолжать свою жизнь без меня. Я не в счет, меня больше не существует.
Появление на улице поздно вечером маленькой девочки, которая бредет незнамо куда, наверное, кажется странным. Все смотрели на меня.
Ночной город усилил мою тоску, мою тревогу, я бродила без всякой цели, не слишком удаляясь от театра. Я рассматривала витрины магазинов, одного, другого, третьего… Потом встала на переходе, будто пережидаю красный свет, но на зеленый переходить не стала. Машины снова помчались мимо меня. Полицейский заметил мою нерешительность, подумал, что я боюсь, и остановил движение. Мне пришлось перейти мостовую. Оказавшись на другой стороне бульвара, я снова повернула назад. Полицейский наблюдал за мной и дружелюбно помахал мне. Ну, и я удрала как можно быстрее.
В конце концов, я добралась до самых темных, вызывающих страх улиц. Начался дождь. Оказалось, что я — на улице Матадор, дождь усиливался, надо было спрятаться, чтобы переждать его. Я зашла в ворота, где рядом со мной стояли две очень милых дамы. Они улыбнулись мне, потом заговорили со мной. Как это странно: взрослые всегда задают такие вопросы, которые ставят тебя в трудное положение!
— Что ты здесь делаешь чуть ли не ночью под дождем? Ты потерялась, малышка?
Я не ответила. Но дама настаивала:
— Тебе надо скорее идти домой…
Пришлось покинуть мое убежище, и ноги сами привели меня обратно к Опере. Я обошла театр, подняв голову к бронзовым статуям, держащим канделябры. Я обошла здание много раз…
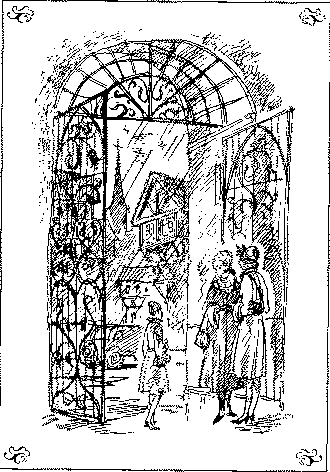
Я ходила и ходила по улицам, дожидаясь конца спектакля. Подошла к стоянке. К счастью, машина Фредерика была не закрыта, и я устроилась в ней, как в маленьком домике.
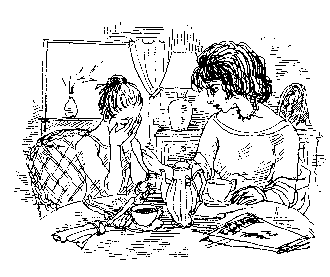
Глава VI
ЛЕВАЯ СТОРОНА СЦЕНЫ
Этой ночью я все-таки уснула: уж очень устала. Мама беспокоилась: ей казалось, я плохо выгляжу. Она боялась, что я слишком много работаю, что моя роль слишком трудна и я могу переутомиться. Но сегодня — день надежд! Месье Барлоф мне обещал…
Мама, как всегда, приготовила мне на завтрак шоколад с бутербродами. Когда я вышла к столу, то у меня был настоящий шок: рядом с чашкой мама посадила мою куклу в костюме Галатеи. Я не удержалась и расплакалась.
Мама, конечно, разволновалась. Я попыталась найти в себе силы ее успокоить:
— Ничего-ничего, мамочка, не бойся… Просто это слишком прекрасно! Ты сама не понимаешь…
Мама прижала меня к себе.
— Понимаю, моя хорошая! Я понимаю, что моя девочка устала, что она нервничает, что хочет сделать все еще лучше, чем всегда. Я знаю, дорогая, как важна для тебя эта роль Галатеи… Какая чудесная надежда… Но она требует столько труда, стольких усилий, такой воли… Может быть, подобная работа не по силам маленькой девочке…
Работа! Господи! Это вовсе не работа мне не по силам! Мне так тяжело в одиночку нести груз вины, который моя ложь делает с каждым днем все более и более весомым.
Мама хотела, чтобы я пришла в восторг от куклы. Она в точности скопировала костюм, прическу, бантик в волосах. И она показала мне журнал, где на двух страницах рассказывалось о новой постановке Ивана Барлофа, были фотографии, репродукции эскизов. Я спросила:
— Про меня там тоже написано?
— Нет, милая, пока еще нет.
Я пошла помыть руки, а мама продолжала говорить:
— Но я уверена, что очень скоро напишут и о тебе. Новый балет Барлофа — это событие! И когда я думаю о том, что он выбрал именно тебя, что именно тебе дал такой шанс — первый в жизни… Ты не можешь понять, как я счастлива, как я горжусь тобой… У меня просто голова идет кругом…
— Мама!
— Я закажу себе к премьере красивое платье. Может быть, тебе преподнесут цветы… А потом мы пойдем и отпразднуем это отличным ужином с Фредериком…
Я села за стол и начала завтракать. Мне очень хотелось есть, ведь вчера я почти целый день проходила голодная.
Маме я казалась не совсем такой, как обычно. Но поскольку она знала, что я согласна, чтобы она вышла замуж за Фредерика, она была очень веселой. В самом прекрасном настроении. Она уверяла меня, что отлично себя чувствует и что пора уже ей заняться мною и зайти за мной в Оперу. Только услышав об этом, только представив себе, как она появляется в театре и узнает обо всем, что я так долго от нее скрывала, я опять разревелась.
Мои нервы не выдержали. Мне нельзя было плакать, я ведь видела, что маму это ужасно беспокоит, по глазам видела, слышала, как сразу же изменился ее голос, но я ничего не могла с собой поделать. А она ничего не понимала. Она думала, у меня есть все для того, чтобы быть счастливой, и вдруг — я плачу! Как это понять?
Мне повезло: пришел месье Обри и принес круассаны. Фредерик тихонько спросил меня, решилась ли я наконец сказать правду. Признанная вина, сказал он, это уже наполовину прощенная вина…
Бедный, бедный месье Обри! Он ведь тоже не мог понять, что со мной происходит. Он не знал главного, самого худшего, он не знал, что меня исключили из школы. Но я уверена в нем: он и из того, что знает, ничего не скажет маме, потому что хочет остаться моим другом, а потом стать моим отчимом.
Я оставила их дома, они пили кофе с круассанами, а сама ушла, как уходила до сих пор каждый день, так, будто ничего не случилось, будто я иду в Оперу.
Мама положила мне в ранец выполненную ею работу, которую мне надо было занести в «Европа-Секретариат».
Я едва успела войти в вестибюль, как телефонистка, которая знала меня, предложила подняться к мадемуазель Пижон.
Мадемуазель Пижон взяла конверт и сразу же стала проглядывать бумаги, а передо мной, как обычно, поставила коробку шоколада. Наверное, секретарей дирекции все ужасно балуют, потому что они всемогущи и способны повлиять на решение своего начальника. В кабинете мадемуазель Пижон, кроме сластей, всегда были цветы, безделушки и всякие мелочи, в общем, куча подарков, которые ее, кажется, здорово смешили. Она спросила у меня, как дела у Бернадетты:
— А твоя подружка, как она?
— Не знаю, только собираюсь навестить ее.
— А где она?
— В больнице Божон.
Мадемуазель Пижон изучила большую карту Парижа, приколотую к стене.
— У черта на рогах. Смотри!
Она взяла мою руку и моим же пальцем провела меня по нужному пути.
— Вот гляди: сейчас ты здесь, а больница — вон там. Проще всего ехать на метро, так будет быстрее.
Не найдя в себе сил улыбнуться, я сказала мадемуазель Пижон «до свидания» и направилась к двери. Она удержала меня. Внимательно на меня посмотрела, и во взгляде ее можно было прочесть сразу и удивление, и тревогу.
— Да что с тобой такое? У тебя такой запуганный вид, малышка! И сегодня еще хуже, чем вчера… Но ты же на самом деле должна чувствовать себя счастливицей! Твоя мама тебя обожает, ты получила звездную роль… Может быть, ты плохо себя чувствуешь?
Я тихо-тихо сказала «нет», чуть присела в реверансе, снова попыталась выдавить из себя «до свидания» и убежала.
Выйдя из конторы, где работала мадемуазель Пижон, я опять принялась бродить по улицам. К Бернадетте можно было поехать только после обеда — в больницу не пускают до 13 часов. А 13 часов — время начала репетиции с месье Барлофом! Час, когда я должна явиться к нему и узнать свою судьбу. Он сказал, что поговорит с директором до репетиции. Господи! Пусть он добьется, чтобы меня простили!
Все утро ничего не делать! Будто меня и вовсе нет! Я останавливалась перед витринами, но не видела ничего из выставленного там. Я дошла до Трините и вошла в храм. Там, спрятавшись в тени, я сидела довольно долго, потом вышла. На улицах оказалось много народу: полдень. Площадь, улица Шоссе-д-Антенн были запружены людьми, и я позволила себя нести этой толпе, которая думала только об обеде. Мне самой есть совершенно не хотелось.
Потом все уселись за свои столы, и улицы снова опустели. Я стояла перед зданием Оперы. Видела купола, статуи, карнизы, целый мир крыш, куда я, на свою беду, так хотела попасть. Хотела… Но теперь, когда месье Барлоф добьется прощения для меня, я буду вести себя хорошо, по-настоящему хорошо. Я никогда не нарушу ни одного правила, никогда не сделаю того, что не разрешается, и никогда не попытаюсь увидеть, что скрывается за дверями, куда вход воспрещен.
Мама, как всегда, приготовила мне на завтрак шоколад с бутербродами. Когда я вышла к столу, то у меня был настоящий шок: рядом с чашкой мама посадила мою куклу в костюме Галатеи. Я не удержалась и расплакалась.
Мама, конечно, разволновалась. Я попыталась найти в себе силы ее успокоить:
— Ничего-ничего, мамочка, не бойся… Просто это слишком прекрасно! Ты сама не понимаешь…
Мама прижала меня к себе.
— Понимаю, моя хорошая! Я понимаю, что моя девочка устала, что она нервничает, что хочет сделать все еще лучше, чем всегда. Я знаю, дорогая, как важна для тебя эта роль Галатеи… Какая чудесная надежда… Но она требует столько труда, стольких усилий, такой воли… Может быть, подобная работа не по силам маленькой девочке…
Работа! Господи! Это вовсе не работа мне не по силам! Мне так тяжело в одиночку нести груз вины, который моя ложь делает с каждым днем все более и более весомым.
Мама хотела, чтобы я пришла в восторг от куклы. Она в точности скопировала костюм, прическу, бантик в волосах. И она показала мне журнал, где на двух страницах рассказывалось о новой постановке Ивана Барлофа, были фотографии, репродукции эскизов. Я спросила:
— Про меня там тоже написано?
— Нет, милая, пока еще нет.
Я пошла помыть руки, а мама продолжала говорить:
— Но я уверена, что очень скоро напишут и о тебе. Новый балет Барлофа — это событие! И когда я думаю о том, что он выбрал именно тебя, что именно тебе дал такой шанс — первый в жизни… Ты не можешь понять, как я счастлива, как я горжусь тобой… У меня просто голова идет кругом…
— Мама!
— Я закажу себе к премьере красивое платье. Может быть, тебе преподнесут цветы… А потом мы пойдем и отпразднуем это отличным ужином с Фредериком…
Я села за стол и начала завтракать. Мне очень хотелось есть, ведь вчера я почти целый день проходила голодная.
Маме я казалась не совсем такой, как обычно. Но поскольку она знала, что я согласна, чтобы она вышла замуж за Фредерика, она была очень веселой. В самом прекрасном настроении. Она уверяла меня, что отлично себя чувствует и что пора уже ей заняться мною и зайти за мной в Оперу. Только услышав об этом, только представив себе, как она появляется в театре и узнает обо всем, что я так долго от нее скрывала, я опять разревелась.
Мои нервы не выдержали. Мне нельзя было плакать, я ведь видела, что маму это ужасно беспокоит, по глазам видела, слышала, как сразу же изменился ее голос, но я ничего не могла с собой поделать. А она ничего не понимала. Она думала, у меня есть все для того, чтобы быть счастливой, и вдруг — я плачу! Как это понять?
Мне повезло: пришел месье Обри и принес круассаны. Фредерик тихонько спросил меня, решилась ли я наконец сказать правду. Признанная вина, сказал он, это уже наполовину прощенная вина…
Бедный, бедный месье Обри! Он ведь тоже не мог понять, что со мной происходит. Он не знал главного, самого худшего, он не знал, что меня исключили из школы. Но я уверена в нем: он и из того, что знает, ничего не скажет маме, потому что хочет остаться моим другом, а потом стать моим отчимом.
Я оставила их дома, они пили кофе с круассанами, а сама ушла, как уходила до сих пор каждый день, так, будто ничего не случилось, будто я иду в Оперу.
Мама положила мне в ранец выполненную ею работу, которую мне надо было занести в «Европа-Секретариат».
Я едва успела войти в вестибюль, как телефонистка, которая знала меня, предложила подняться к мадемуазель Пижон.
Мадемуазель Пижон взяла конверт и сразу же стала проглядывать бумаги, а передо мной, как обычно, поставила коробку шоколада. Наверное, секретарей дирекции все ужасно балуют, потому что они всемогущи и способны повлиять на решение своего начальника. В кабинете мадемуазель Пижон, кроме сластей, всегда были цветы, безделушки и всякие мелочи, в общем, куча подарков, которые ее, кажется, здорово смешили. Она спросила у меня, как дела у Бернадетты:
— А твоя подружка, как она?
— Не знаю, только собираюсь навестить ее.
— А где она?
— В больнице Божон.
Мадемуазель Пижон изучила большую карту Парижа, приколотую к стене.
— У черта на рогах. Смотри!
Она взяла мою руку и моим же пальцем провела меня по нужному пути.
— Вот гляди: сейчас ты здесь, а больница — вон там. Проще всего ехать на метро, так будет быстрее.
Не найдя в себе сил улыбнуться, я сказала мадемуазель Пижон «до свидания» и направилась к двери. Она удержала меня. Внимательно на меня посмотрела, и во взгляде ее можно было прочесть сразу и удивление, и тревогу.
— Да что с тобой такое? У тебя такой запуганный вид, малышка! И сегодня еще хуже, чем вчера… Но ты же на самом деле должна чувствовать себя счастливицей! Твоя мама тебя обожает, ты получила звездную роль… Может быть, ты плохо себя чувствуешь?
Я тихо-тихо сказала «нет», чуть присела в реверансе, снова попыталась выдавить из себя «до свидания» и убежала.
Выйдя из конторы, где работала мадемуазель Пижон, я опять принялась бродить по улицам. К Бернадетте можно было поехать только после обеда — в больницу не пускают до 13 часов. А 13 часов — время начала репетиции с месье Барлофом! Час, когда я должна явиться к нему и узнать свою судьбу. Он сказал, что поговорит с директором до репетиции. Господи! Пусть он добьется, чтобы меня простили!
Все утро ничего не делать! Будто меня и вовсе нет! Я останавливалась перед витринами, но не видела ничего из выставленного там. Я дошла до Трините и вошла в храм. Там, спрятавшись в тени, я сидела довольно долго, потом вышла. На улицах оказалось много народу: полдень. Площадь, улица Шоссе-д-Антенн были запружены людьми, и я позволила себя нести этой толпе, которая думала только об обеде. Мне самой есть совершенно не хотелось.
Потом все уселись за свои столы, и улицы снова опустели. Я стояла перед зданием Оперы. Видела купола, статуи, карнизы, целый мир крыш, куда я, на свою беду, так хотела попасть. Хотела… Но теперь, когда месье Барлоф добьется прощения для меня, я буду вести себя хорошо, по-настоящему хорошо. Я никогда не нарушу ни одного правила, никогда не сделаю того, что не разрешается, и никогда не попытаюсь увидеть, что скрывается за дверями, куда вход воспрещен.
