Страница:
— Monte vide eu! — Вижу гору!
Это было в том же месте, где и теперь впервые видит Америку команда каждого корабля, входящего в огромную воронку устья Ла-Платы. Невольное восклицание юного моряка, вероятно, показалось основателям Монтевидео настолько необычным, что без разрешения автора оно было взято и перенесено на километр западнее и высечено на первом камне, положенном в основание новой столицы страны, которую впоследствии назвали Уругвай.
В одиннадцатый раз сумерки опустились на судно и на Уругвай. Последний ужин на «Буассевене». По правому борту тянется яркая гирлянда ночного города, американского Монтевидео. Отблески сотен тысяч сверкающих огней неприметно скользят по поверхности, рассыпаясь на гребнях волн. Люди стоят вдоль борта так же, как еще недавно стояли они у подножья Столовой горы, и думают об Америке. Африка осталась в далеком прошлом.
Тарелки на столах в обеденном салоне сегодня ведут себя благопристойно. Они передвигаются по столу совсем незаметно. Нет шторма. А на третьем градусе восточной долготы, когда над палубой со скоростью более 100 километров в час проносился ураган, они добирались до самого края стола. Упершись в низкий бортик, тарелки снова ползли обратно.
— Послушай, Иржи, когда-нибудь и мы заведем у себя такие столы…
— А часы будем переводить ежедневно на полчаса назад.
Внизу умолкли двигатели. Столовая сразу же опустела Когда после одиннадцатидневного непрерывного грохота двигатели замолкнут, впечатление такое, словно к виску приставили электрическую дрель.
Что случилось?
Ничего не случилось. Огни с левого борта перекочевали на правый, померкли, а немного погодя совсем исчезли в густом молоке тумана. Лишь два-три освещенных буя качались на волнах, да в сотне метров от нашего «Буассевена» стоял на якоре другой его коллега, утомленный великан с неизвестным названием, которого так же, как и нас, не хотят впустить на стоянку. Его освещенные палубы, белые, трубы с темными полосами и ряды иллюминаторов светятся в ночи, как фасад пражской «Саллы Террены», залитой потоками света в дни фестиваля. Но торжественного ночного концерта в честь первого знакомства с Америкой не слышно. Его задушил туман, липнущий к палубе и к одежде, к волосам и к мыслям.
После одиннадцатидневной симфонии, исполняемой двигателями, «Буассевен» послушно молчит, подчиняясь своему разумному дирижеру. Туман на Ла-Плате страшнее самой черной ночи. Ни один лоцман никогда не протянет руку помощи и не предложит в трудный час буксир, потому что слишком хорошо знает коварство такого тумана. Поэтому дирижер продлил паузу до особого распоряжения и организовал прощальный вечер, чтобы успокоить слушателей, ожидавших захватывающего фортиссимо.
«Буассевен» покачивается на смеси воды и тумана, ожидая, когда отдадут приказ, чтобы вновь забилось его сердце.
Там, за рекою, — Аргентина…
За стеной тумана в двух шагах бьется четырехмиллионное сердце страны самых больших низменностей и самых больших гор на всем американском континенте.
Буэнос-Айрес.
Город Хорошего Воздуха.
МУЧАС ГРАСИАС, КАБАЛЬЕРО
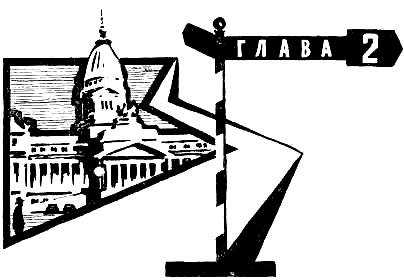
К утру туман рассеялся. Под иллюминаторами снова хлюпает вода — грязно-бурый ил Параны, собранный где-то далеко вверху, в бразильских джунглях и равнинах Гран-Чако. Он стекает в Атлантический океан через гигантскую воронку устья Ла-Платы, наполовину реки, наполовину моря. Когда несколько лет назад молодая спортсменка Лита Тирабосчи переплыла Ла-Плату, аргентинские газеты писали об этом как о сенсации. В этом нет ничего удивительного. Ведь паром, переправляющий пассажиров и их автомобили с уругвайского берега на аргентинский, плывет через Серебряную реку [3]шесть часов. Ширина реки Ла-Платы далеко от места впадения в Атлантический океан, между Монтевидео и аргентинским мысом Пунта-Пьедрас, составляет по прямой значительно более 100 километров.
Погасшие буи, эти плавучие километровые столбы морской автострады, удаленные друг от друга на несколько десятков метров, медленно тянутся вдоль бортов.
Трансатлантические колоссы, которые несколько дней назад независимо и гордо плыли в океане наперекор штормам, вынуждены теперь ползком пробираться по этой узкой полоске воды.
Или грязь из Парагвая и Бразилии загнали их в унизительную для них канаву, вырытую пузатыми землечерпалками. Вонючие буксиры — эти смешные карлики — волокут их на канате, словно мясник скотину на убой. По правой стороне водной магистрали можно спокойно двигаться в направлении Буэнос-Айреса, а по левой — стоп, потерпите немножко! Пройдет с час времени, раздастся обязательный прощальный гудок, и только после этого гордые баловни океана могут продолжать свой путь куда угодно: и в Неаполь, и в Шанхай, и в Сидней, и в Карибское море, и в Магелланов пролив…
На верхней палубе оживление. Можно сказать, там целеустремленное оживление. В кают-компании, где до самого утра танцевали аргентинские танго, кубинский гуароче и американские буги-вуги, теперь выстроилась очередь пассажиров. Они стоят с паспортами и отпечатанными по-испански анкетами аргентинских властей. С чувством собственного достоинства приближаются они к пестрому сборищу таможенников, врачей, иммиграционных чиновников и тайных агентов. Испытующие взгляды, длительные расспросы, сладкие слова на американизированном испанском языке, доверительно переданные на ухо приятелю таможеннику, штампы в паспортах. Очередь понемногу тает, переливаясь на другую половину салона.
— Это лишь начало, приятель. You will see, — говорит американец, похлопывая молодого швейцарца по плечу, — аргентинские таможенники самые строгие на всем американском континенте. Второй раунд вас ждет перед открытыми чемоданами…
В углу салона осталась группка людей. Среди них две заплаканные женщины с детьми, безучастно смотревшие через головы таможенников на море, на проплывающий мимо мол с портальными кранами. К консилиуму врачей, таможенников, чиновников, ведающих паспортными делами, и сыщиков присоединились капитан судна, первый помощник капитана и кассир.
— Печально, неприятно! Она едет в Аргентину к мужу, а он здесь женат на другой. Что с ней делать?
— Обратно в Танганьику я ее не повезу! Мы идем дальше, в Монтевидео и в Рио. Кто мне оплатит за нее обратный проезд?
— Мы ее в Аргентину не пустим. Нет никакой гарантии, что об этой женщине кто-нибудь станет заботиться. А муж и слышать не хочет о ней.
Судно давно опустело, а несколько польских эмигрантов долго еще стояли в углу салона. У них нет ни песо, чтобы заплатить за выгрузку. Десятилетний мальчуган с тяжелым воспалением легких лежит в общей каюте. В больницу его не возьмут, потому что даже мать не смеет сойти на берег, поскольку его отец женился на другой.
Сколько надежд, сколько ожиданий, сколько разочарований!
Викинги, Христофор Колумб, доллары, распростершая свои объятия пампа, богатый заокеанский дядюшка, индейцы, мороженое мясо. Кордильеры, поля белоснежного хлопка, темпераментные сеньориты.
Говорят, что первые впечатления — самые верные.
Панорама Буэнос-Айреса из Северного порта — Дарсена-Норте — одна, а из Ретиро — другая.
Скопление серых домов, башен, бетонных блоков на фоне проплывающего мола и причалов кажется плоской декорацией, но едва ступишь на берег, как сразу же попадаешь в каменный хаос города. Английская башня на Пласа Британика, точная копия одноименной лондонской башни, по часам которой все переселенцы сверяют время, как бы выходит нам навстречу, держа за руку своего младшего, хотя и более долговязого брата, — небоскреб Каванаг в двадцать три этажа высотой, собственно, единственный небоскреб в Буэнос-Айресе. Спотыкаясь о рельсы и булыжники мостовой, мы то и дело мысленно спрашиваем себя, как же пройти в Буэнос-Айрес?
Из состояния первоначальной растерянности нас вывело нежное прикосновение девичьих рук и любезная улыбка. Удивленно смотрим на свои лацканы: там откуда ни возьмись появились маленькие флажки с чьим-то портретиком. Мы незаметно поглядываем на остальных спутников, желая выяснить, оказано ли им такое же внимание. О да, здесь, в Аргентине, существует прекрасный обычай: черноокие сеньориты дарят приезжему свои улыбки, как бы прикалывая их булавками к лацканам пиджака, чтобы иностранец тотчас же почувствовал себя как дома. Этого не делают даже в Швейцарии, прославленном крае туризма. Очаровательная чуткость, с этим нельзя не согласиться.
Смотрим друг другу на лацканы: перонистская партия — аргентинский флажок с портретиком президента [4]… Что это? Политическая пропаганда? Предвыборная агитация?
Не прошло и двух секунд, как от этих размышлений нас избавляет новое прикосновение, уже не столь нежное. Так сказать, со значением — за локти. Та же самая сеньорита, которая между тем «обтанцевала» пятерых идущих рядом с нами прохожих, сменила загадочные коробочки с флажками на маленькую кассу и с прежней грациозностью танцует в обратном направлении.
— Pero disculpe, se?orita, — лихорадочно подбираем мы слова извинений и вытаскиваем флажок из лацкана, — простите, мы иностранцы, нам еще не обменяли деньги на аргентинские песо…
— No importa, se?or, — щебечет черноокая фея со шкатулкой. — Неважно, меня устроит и доллар.
Стараемся понять, что же происходит, и намеренно замедляем шаг, чтобы еще раз увидеть эту милую сценку. В тот же миг нас хватают другие руки — мужские, цепкие, нахальные. Они привычно ощупывают брючные карманы, на мгновение задерживаются у связки ключей, затем взлетают вверх, чтобы тут же убедиться, что в нагрудном кармане нет револьвера. В последнюю секунду сдерживаем себя и не протестуем: мундир уже ведет нас к маленькому домику возле тротуара. Ага, вот оно что: табличка «Zona aduanera».
Докажи, что ты не международный мошенник, не контрабандист и не наемный убийца!
— Что у вас в портфеле?
— Посмотрите, — открываем замок и вытаскиваем паспорта.
Таможенник роется в маленьком портфеле и с любопытством рассматривает катушку прозрачной ленты для заклеивания писем.
— Второй нет?
— Нет, можете убедиться!
Почему таможенника интересует, одна катушка клейкой ленты в портфеле или две? Ответ на это мы получаем немного погодя. Перестав представлять для таможенников какой-либо интерес, мы волей-неволей оказались свидетелями того, как делаются дела в Аргентине.
В домик таможни вошел кабальеро с корзиной апельсинов. Прежде чем поздороваться, он извлек самый крупный плод из бумажной обертки, положил его на стол и вытащил пачку сигарет. «Встретились старые знакомцы», — проносится в мыслях. Но мы тут же отказываемся от этого глупого предположения, увидев, как рука таможенника взлетела к козырьку, а потом, на обратном пути, вытащила несколько сигарет из пачки кабальеро и положила их на горку других, уже лежащих на подоконнике. Формальное определение веса корзинки рукой — и кабальеро с многозначительной улыбкой уходит.
Так-то вот делаются дела в Аргентине!
Не говоря ни слова, таможенник отдает нам портфель и сообщает, что мы можем идти. Ах, эти гринго, ничего-то они не знают об Аргентине!
Разве таможенник не имеет права выкурить сигарету? Съесть апельсин? Или заклеить письмо прозрачной лентой? Зачем же тогда утруждать себя, проверяя, что было в корзине под верхним слоем апельсинов: настоящие апельсины или американские сигареты, которые на американском корабле стоят в три раза дешевле, чем в табачной лавочке за углом?
Говорят, что первые впечатления — самые верные…
На пристани нас никто из посольства не встретил. Выходи из создавшегося положения как знаешь: банки закрыты, а нескольких песо, обмененных на корабле, не хватит даже на такси.
— План Буэнос-Айреса за песо!
Как по заказу! В портовой кофейне раскладываем на столе бумажное покрывало, и у нас захватывает дух. Лабиринт квадратиков и прямоугольников, прорезанный линиями железных дорог и подземки. Двадцать километров с юга на север, семнадцать с запада на восток — и это без пригородов. По списку улиц мы отыскиваем Lavalle и отправляемся к торговцу открытками спросить, как туда добраться,
— Рог favor, c?mo se va a la calle Lavalle? [5]
— Э-э-э?
— La calle Lavalle, Ла калье Лавалье, — пытаемся мы произнести эту фразу с правильным акцентом.
— А-а, кажье Лаважье, — со вздохом облегчения говорит торговец, — это седьмая улица направо. Вы из Испании или из Мексики?
Только теперь вспоминаешь о тех примечаниях мелким шрифтом в учебниках испанского языка, где говорилось, что в Аргентине мягкое «л» произносится как «жь», «б» как «в». Поэтому здесь говорят «криожьё» вместо «криольё», «каважьеро» вместо «кабальеро».
— Понятно, седьмая улица направо. Мучас грасиас, каважьеро!
— ?so s?, вот как говорится у нас в Аргентине, muy bien, muy bien! [6]
Первый белый человек, ступивший на ее землю в 1516 году, был Хуан Диас де Солис. Однако недолго ему довелось наслаждаться обладанием пальмы первенства. Не успел он по-настоящему осмотреть берег, как индейцы схватили его и съели. Лишь спустя десять лет после этого сюда решился отправиться другой храбрец, Себастьян Кабот. Ему повезло больше. Он направился прямо в глубь страны по Паране. На этот раз индейцев словно подменили: они даже подарили пришельцам свои знаменитые украшения из серебра. Подарков было столько, что Кабот предположил, будто он открыл сокровища империи инков, и, пребывая в этом заблуждении, назвал широкое устье реки Ла-Платы — Серебро. Он так никогда и не узнал, что серебряная мишура попала сюда из Боливии, с рудника Потаен.
Это заблуждение история повлекла за собой до самого 1816 года, когда Сан-Мартин изгнал из этих мест испанских наместников и в Тукумане провозгласил независимость Объединенных провинций Ла-Платы, Provincias unidas de La Plata.
Ла-Плату перевели с испанского на латинский (по-латыни серебро — «аргентум»), и, таким образом, в 1826 году появилось весьма красивое название всей страны: Аргентина. Ошибку Кабота узаконили, и все к этому привыкли.
Иначе получилось с названием столицы. Хуан Гарай, второй ее основатель, подошел к этому с истинно испанской набожностью: «Ciudad de la Trinidad, puerto de Nuestra Se?ora Santa Mar?a de Buenos Aires», «Город Троицы, порт Нашей святой Девы Марии Хорошего Воздуха». Так окрестил ее Гарай, чтобы воздать должное покровительнице моряков, навсегда вписать в историю 29 мая, день святой троицы, день, когда его корабль причалил к американским берегам. Было это название невероятно святым и длинным. Поэтому сначала от него отпала «Троица», затем «Наша святая Дева Мария», и в конце концов остался «Хороший Воздух».
Но для дельцов XX века и это показалось слишком длинным, и они свели его до телеграфного «Байрес».
Estadounidenses (так креолы называют североамериканцев), которые ничего не смыслят в поэтической терминологии древнеиспанских мореплавателей, стремясь уберечь свои голосовые связки и сэкономить ленты пишущих машинок, шагнули дальше и сжали «Хороший Воздух» до двух букв «B.A.», читай «Би-Эй».
Тем не менее языковеды продолжают ломать голову над тем, что осталось от названия, данного Гараем городу на Серебряной реке. Попутному ветру — так тоже можно перевести buenos aires — были благодарны за счастливое окончание плавания все моряки. Но так можно было назвать и сотни других городов, открытых случайно. И история склоняется к иному объяснению — к изречению мореплавателя, который, сойдя на берег, воскликнул:
— Как хорош воздух в этой стране! — Qu? buenos aires tiene esta tierra!
Быть может, над необозримыми равнинами вновь открытой земли повеял тогда осенний майский ветерок. Или же знойный воздух, дрожащий над пампой, напомнил мореплавателю, которому океан много недель подряд швырял в лицо соленые брызги, жаркое дыхание Андалузии. И тогда, набрав полную грудь этого хорошего воздуха, он схватился за топор, чтобы обтесать первые бревна для постройки города.
Да, в Аргентине бывают хорошие дни, когда туман исчезает с водных просторов в Энтре-Риос. Тогда светлеют лица аргентинцев, и в глазах их можно прочесть облегчение, радость, солнечное сияние. Полуденное солнце на переполненных улицах не палит, не убивает. Шоферы такси перестают быть угрюмыми, с улыбкой распахивают дверцы своих машин и нежно произносят по-испански: «Qu? buen tiempo!»
Сеньориты мельком осматривают свои прически в сверкающих стеклах витрин и идут дальше, плавно покачивая бедрами. Над Буэнос-Айресом — buen aire.
Если же очутиться в этом городе в июльские дни, когда вращение Земли приговорило южное полушарие к зиме, тотчас же забудешь о палящей Африке, которая долгие месяцы была для нас родным домом. Аргентинская зима в десять раз хуже европейской. Стрелка влагомера намертво приклеивается к отметке «100». Над портом клубится белый туман, который время от времени превращается в холодную изморось. Мебель, стены, лестницы роняют пресные слезы, которые собираются в ручейки — и вот тебе на: на полу откуда ни возьмись лужи. Одежда в шкафу покрывается зеленой плесенью. В такое время дождь буквально проникает до мозга костей. Люди ругаются, спокойные в хорошую погоду шоферы такси становятся нервными, и в газетах можно прочесть о десятках аварий, о раненых и убитых. И все это лишь потому, что в Буэнос-Айресе дождь или туман.
В Буэнос-Айресе едва ли споткнешься о камни тротуара. Даже о столь малые, как, например, в мозаике знаменитых тротуаров Праги. Откуда взяться граниту или, скажем, мрамору возле города, который вклинился в песчаные наносы Параны, Парагвая, Пилькомайо, Игуасу и Уругвая! Кое-где на главных авенидах встречается брусчатая мостовая, но и та до последнего камня привезена сюда из Швеции. Поэтому портеньо — как сами себя называют жители Буэнос-Айреса — принялись выделывать камни для мостовых из глины. Город поглощает их, словно ненасытный Молох. Они желтые, с неглубокими желобками. По ним хорошо ходить, пока светит солнце, а ноги обуты в туфли на кожаной подошве. Едва же начинается дождь, лучше отказаться от всего, что намеревался делать днем. Запирайся в четырех стенах или бери такси и переезжай на нем с одного места на другое, потому что тротуары превращаются в катки.
Пожалуй, это были наши первые слова, сказанные после встречи с горсткой новых друзей.
— О-о, ребята, с этим будет не так-то просто! Пожимают плечами, бросают вопросительно-беспомощные взгляды.
Так началась наша ночлежная одиссея, которая длилась ровно семь дней.
— Попытаемся завтра, друзья, сегодня уже поздно, вы напрасно потеряете время, — провозгласил один из земляков, Виктор. И как бы для успокоения добавил: — Я бы пригласил вас к себе, но вы сами увидите, как мы живем. На двадцати квадратных метрах.
Улицы Буэнос-Айреса опустели, лишь изредка за белой пеленой ночного тумана визжат на поворотах трамваи и грохочут тяжелые американские автобусы. Сторож в зоне порта даже не обращает на нас внимания: ведь контрабандные сигареты выносят с парохода в город, а не наоборот. «Буассевен» молчит в Дарсена-Норте, огни его светятся во мраке ночи так же, как и сутки назад, когда он стоял на краю воронки Ла-Платы. Там под стальными крышками люков еще отдыхает «татра», которой пока что не довелось вдохнуть бензинного перегара, тумана и пыли столицы. Сегодня мы еще имеем право переночевать на судне, которое привезло нас из другой части света.
На следующую ночь мы уже крадемся через порт, словно контрабандисты. Таможенник нам ничего не сделает, его бдительность проснется лишь в том случае, если мы изменим направление в сторону Ретиро. Но право ночлега на судне кончилось. Бесполезной была беготня по двадцати гостиницам и пансионатам, начиная с захудалых портовых кварталов и кончая «хорошими» на Тукумане. Напрасная потеря времени.
— Зайдите завтра, возможно…
Огни палуб и рей отражаются в грязной воде, матросы на углевозах фальшиво насвистывают песенки, заглушая ими тоску по родине.
Над городом и над морем еще лежит утренняя темнота, когда мы быстро одеваемся и осторожно пробираемся по коридорам, чтобы незаметно выбраться с судна. И вдруг новая, незнакомая панорама открывается нашим глазам: растерянно ищем сходни, которые вчера ночью упирались в причал «Р36» в Северном порту.
— Не могли же нас ночью увезти на противоположную сторону, в Монтевидео? Ведь «Буассевен» должен был простоять на якоре целую неделю…
— No, sir, — говорит спросонья китаец-юнга, — ночью нас перетянули с причала «Север» на причал «Е».
При свете фонарика ищем на плане города, куда нас перетащили ночью. Путь автобусом, часть расстояния пешком, трамваем, вторым автобусом, шесть кварталов назад, снова трамваем — ив восемь мы там, где могли бы быть отдохнувшими, выспавшимися, в великолепном настроении, если бы…
Третья ночь была точь-в-точь такой же, лишь диалоги в отелях были несколько иными.
— Сожалеем, все переполнено, — произносили губы, в то время как карман удовлетворенно мурлыкал: «Слава богу, все переполнено».
На четвертый день мы спали на ходу. Вероятно, это дало повод Виктору сказать нам:
— Ну, ребята, хватит! Так дальше не пойдет. Завтра Nueve de julio — государственный праздник. Я постелю вам в кабинете адвоката, рядом с моей квартирой. Можете отоспаться, потому что завтра нерабочий день.
Хорошее предложение, отчего же не принять! На кожаном диване можно спать, если он хотя бы полутора метров в длину. Если же у тебя голова на одном кресле, ноги на другом, а посредине пусто, то так можно выдержать от силы час, даже имея опыт ночевок на шоссе, на вершине пирамиды или на свежем вулканическом пепле. В конце концов расстилаем простыни на полу и на следующий день досыпаем на ходу.
На пятый день нашего пребывания в Америке нам удалось найти комнату под крышей, в небольшой запущенной гостинице. Затхлая кладовая, из которой неохотно выгребли кучу хлама, так как знали, что мы будем здесь жить до тех пор, пока не подыщем человеческого жилья. А потом им придется таскать все это барахло обратно, даром. Одна скрипучая дверь без стекла выходит в темный коридор, другая куда-то в противоположную сторону, а о третьей мы пока что и не подозреваем. Слева железная койка на трех ножках, справа под лестницей — на четырех. Вопрос о том, поселиться здесь или нет, учитывая все «за» и «против», решил жребий.
Моем руки в выложенной кафелем мойке для посуды, туфлей давим на стене двух клопов, вывертываем лампочку и вздыхаем с облегчением, предвкушая, что наконец-то отоспимся. Внизу гремит лифт. Чем выше он поднимается, тем сильнее грохот, который умолкает этажом ниже под нами. Из светового колодца, этого резонатора всего дома, вырывается темпераментная испанская перебранка, ругательства полыхают, как ожоги второй и третьей степени. После полуночи эта «беседа» несколько утихает, но вдруг раздается скрип задней двери, над головами мелькает чья-то фигура, с минуту в мойке плещется вода, незнакомец вытирает руки о нашу простыню и исчезает. Вслед за тем на наши головы начинает сыпаться штукатурка. На этот раз над нами скрипит деревянная лестница, хлопают двери, которые до сих пор оставались скрытыми.
Назавтра мы узнаем от владельца гостиницы, что это был официант из ближайшего бара; в чулане, под самой крышей, спят в две смены. Если бы нам повезло, мы могли бы познакомиться и со вторым ночлежником, печатником, который уходит в ночную и возвращается незадолго до полудня.
Как выглядит наш утренний туалет?
Выбираем друг у друга штукатурку из волос, бреемся, глядя в осколок стекла, умываемся в мойке для посуды.
— Медио кристал на третье!
— Че, есть еще в эладере какая-нибудь ботежья?
Мы сидим в прокуренном помещении и не хотим верить ни глазам, ни ушам. Слева вперемежку с ганацким [7]диалектом и польским языком звучит баварское наречие. У нас за спиной, за противоположным столом, кто-то на жижковском [8]жаргоне пытается описать своему аргентинскому соседу невзгоды переселенца, и ему вовсе не мешает то обстоятельство, что через его плечо шумно переговариваются два болгарина, которым пока что некуда сесть. Над столами, покрытыми засаленными скатертями, и над тесно сдвинутыми стульями струится аромат капусты, и во всем этом многоязычном гаме локтями пробивают себе дорогу два официанта, роняя капли пота прямо в дымящиеся тарелки. Шкубанки [9]с маком, свиная ножка, которая едва умещается на тарелке, сосиски с горчицей, аргентинское пучеро, суп с лапшой, бухты [10]с творогом, кесо кон дульсе.
Это было в том же месте, где и теперь впервые видит Америку команда каждого корабля, входящего в огромную воронку устья Ла-Платы. Невольное восклицание юного моряка, вероятно, показалось основателям Монтевидео настолько необычным, что без разрешения автора оно было взято и перенесено на километр западнее и высечено на первом камне, положенном в основание новой столицы страны, которую впоследствии назвали Уругвай.
В одиннадцатый раз сумерки опустились на судно и на Уругвай. Последний ужин на «Буассевене». По правому борту тянется яркая гирлянда ночного города, американского Монтевидео. Отблески сотен тысяч сверкающих огней неприметно скользят по поверхности, рассыпаясь на гребнях волн. Люди стоят вдоль борта так же, как еще недавно стояли они у подножья Столовой горы, и думают об Америке. Африка осталась в далеком прошлом.
Тарелки на столах в обеденном салоне сегодня ведут себя благопристойно. Они передвигаются по столу совсем незаметно. Нет шторма. А на третьем градусе восточной долготы, когда над палубой со скоростью более 100 километров в час проносился ураган, они добирались до самого края стола. Упершись в низкий бортик, тарелки снова ползли обратно.
— Послушай, Иржи, когда-нибудь и мы заведем у себя такие столы…
— А часы будем переводить ежедневно на полчаса назад.
Внизу умолкли двигатели. Столовая сразу же опустела Когда после одиннадцатидневного непрерывного грохота двигатели замолкнут, впечатление такое, словно к виску приставили электрическую дрель.
Что случилось?
Ничего не случилось. Огни с левого борта перекочевали на правый, померкли, а немного погодя совсем исчезли в густом молоке тумана. Лишь два-три освещенных буя качались на волнах, да в сотне метров от нашего «Буассевена» стоял на якоре другой его коллега, утомленный великан с неизвестным названием, которого так же, как и нас, не хотят впустить на стоянку. Его освещенные палубы, белые, трубы с темными полосами и ряды иллюминаторов светятся в ночи, как фасад пражской «Саллы Террены», залитой потоками света в дни фестиваля. Но торжественного ночного концерта в честь первого знакомства с Америкой не слышно. Его задушил туман, липнущий к палубе и к одежде, к волосам и к мыслям.
После одиннадцатидневной симфонии, исполняемой двигателями, «Буассевен» послушно молчит, подчиняясь своему разумному дирижеру. Туман на Ла-Плате страшнее самой черной ночи. Ни один лоцман никогда не протянет руку помощи и не предложит в трудный час буксир, потому что слишком хорошо знает коварство такого тумана. Поэтому дирижер продлил паузу до особого распоряжения и организовал прощальный вечер, чтобы успокоить слушателей, ожидавших захватывающего фортиссимо.
«Буассевен» покачивается на смеси воды и тумана, ожидая, когда отдадут приказ, чтобы вновь забилось его сердце.
Там, за рекою, — Аргентина…
За стеной тумана в двух шагах бьется четырехмиллионное сердце страны самых больших низменностей и самых больших гор на всем американском континенте.
Буэнос-Айрес.
Город Хорошего Воздуха.
МУЧАС ГРАСИАС, КАБАЛЬЕРО
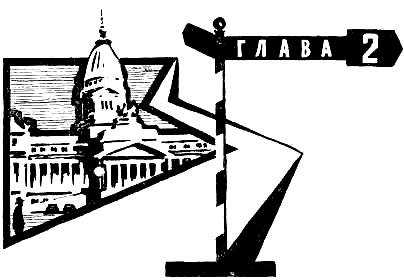
К утру туман рассеялся. Под иллюминаторами снова хлюпает вода — грязно-бурый ил Параны, собранный где-то далеко вверху, в бразильских джунглях и равнинах Гран-Чако. Он стекает в Атлантический океан через гигантскую воронку устья Ла-Платы, наполовину реки, наполовину моря. Когда несколько лет назад молодая спортсменка Лита Тирабосчи переплыла Ла-Плату, аргентинские газеты писали об этом как о сенсации. В этом нет ничего удивительного. Ведь паром, переправляющий пассажиров и их автомобили с уругвайского берега на аргентинский, плывет через Серебряную реку [3]шесть часов. Ширина реки Ла-Платы далеко от места впадения в Атлантический океан, между Монтевидео и аргентинским мысом Пунта-Пьедрас, составляет по прямой значительно более 100 километров.
Погасшие буи, эти плавучие километровые столбы морской автострады, удаленные друг от друга на несколько десятков метров, медленно тянутся вдоль бортов.
Трансатлантические колоссы, которые несколько дней назад независимо и гордо плыли в океане наперекор штормам, вынуждены теперь ползком пробираться по этой узкой полоске воды.
Или грязь из Парагвая и Бразилии загнали их в унизительную для них канаву, вырытую пузатыми землечерпалками. Вонючие буксиры — эти смешные карлики — волокут их на канате, словно мясник скотину на убой. По правой стороне водной магистрали можно спокойно двигаться в направлении Буэнос-Айреса, а по левой — стоп, потерпите немножко! Пройдет с час времени, раздастся обязательный прощальный гудок, и только после этого гордые баловни океана могут продолжать свой путь куда угодно: и в Неаполь, и в Шанхай, и в Сидней, и в Карибское море, и в Магелланов пролив…
На верхней палубе оживление. Можно сказать, там целеустремленное оживление. В кают-компании, где до самого утра танцевали аргентинские танго, кубинский гуароче и американские буги-вуги, теперь выстроилась очередь пассажиров. Они стоят с паспортами и отпечатанными по-испански анкетами аргентинских властей. С чувством собственного достоинства приближаются они к пестрому сборищу таможенников, врачей, иммиграционных чиновников и тайных агентов. Испытующие взгляды, длительные расспросы, сладкие слова на американизированном испанском языке, доверительно переданные на ухо приятелю таможеннику, штампы в паспортах. Очередь понемногу тает, переливаясь на другую половину салона.
— Это лишь начало, приятель. You will see, — говорит американец, похлопывая молодого швейцарца по плечу, — аргентинские таможенники самые строгие на всем американском континенте. Второй раунд вас ждет перед открытыми чемоданами…
В углу салона осталась группка людей. Среди них две заплаканные женщины с детьми, безучастно смотревшие через головы таможенников на море, на проплывающий мимо мол с портальными кранами. К консилиуму врачей, таможенников, чиновников, ведающих паспортными делами, и сыщиков присоединились капитан судна, первый помощник капитана и кассир.
— Печально, неприятно! Она едет в Аргентину к мужу, а он здесь женат на другой. Что с ней делать?
— Обратно в Танганьику я ее не повезу! Мы идем дальше, в Монтевидео и в Рио. Кто мне оплатит за нее обратный проезд?
— Мы ее в Аргентину не пустим. Нет никакой гарантии, что об этой женщине кто-нибудь станет заботиться. А муж и слышать не хочет о ней.
Судно давно опустело, а несколько польских эмигрантов долго еще стояли в углу салона. У них нет ни песо, чтобы заплатить за выгрузку. Десятилетний мальчуган с тяжелым воспалением легких лежит в общей каюте. В больницу его не возьмут, потому что даже мать не смеет сойти на берег, поскольку его отец женился на другой.
«Меня устроит и доллар…»
Америка, А-м-е-р-и-к-а, А-м-е-р-и-к-а…Сколько надежд, сколько ожиданий, сколько разочарований!
Викинги, Христофор Колумб, доллары, распростершая свои объятия пампа, богатый заокеанский дядюшка, индейцы, мороженое мясо. Кордильеры, поля белоснежного хлопка, темпераментные сеньориты.
Говорят, что первые впечатления — самые верные.
Панорама Буэнос-Айреса из Северного порта — Дарсена-Норте — одна, а из Ретиро — другая.
Скопление серых домов, башен, бетонных блоков на фоне проплывающего мола и причалов кажется плоской декорацией, но едва ступишь на берег, как сразу же попадаешь в каменный хаос города. Английская башня на Пласа Британика, точная копия одноименной лондонской башни, по часам которой все переселенцы сверяют время, как бы выходит нам навстречу, держа за руку своего младшего, хотя и более долговязого брата, — небоскреб Каванаг в двадцать три этажа высотой, собственно, единственный небоскреб в Буэнос-Айресе. Спотыкаясь о рельсы и булыжники мостовой, мы то и дело мысленно спрашиваем себя, как же пройти в Буэнос-Айрес?
Из состояния первоначальной растерянности нас вывело нежное прикосновение девичьих рук и любезная улыбка. Удивленно смотрим на свои лацканы: там откуда ни возьмись появились маленькие флажки с чьим-то портретиком. Мы незаметно поглядываем на остальных спутников, желая выяснить, оказано ли им такое же внимание. О да, здесь, в Аргентине, существует прекрасный обычай: черноокие сеньориты дарят приезжему свои улыбки, как бы прикалывая их булавками к лацканам пиджака, чтобы иностранец тотчас же почувствовал себя как дома. Этого не делают даже в Швейцарии, прославленном крае туризма. Очаровательная чуткость, с этим нельзя не согласиться.
Смотрим друг другу на лацканы: перонистская партия — аргентинский флажок с портретиком президента [4]… Что это? Политическая пропаганда? Предвыборная агитация?
Не прошло и двух секунд, как от этих размышлений нас избавляет новое прикосновение, уже не столь нежное. Так сказать, со значением — за локти. Та же самая сеньорита, которая между тем «обтанцевала» пятерых идущих рядом с нами прохожих, сменила загадочные коробочки с флажками на маленькую кассу и с прежней грациозностью танцует в обратном направлении.
— Pero disculpe, se?orita, — лихорадочно подбираем мы слова извинений и вытаскиваем флажок из лацкана, — простите, мы иностранцы, нам еще не обменяли деньги на аргентинские песо…
— No importa, se?or, — щебечет черноокая фея со шкатулкой. — Неважно, меня устроит и доллар.
Стараемся понять, что же происходит, и намеренно замедляем шаг, чтобы еще раз увидеть эту милую сценку. В тот же миг нас хватают другие руки — мужские, цепкие, нахальные. Они привычно ощупывают брючные карманы, на мгновение задерживаются у связки ключей, затем взлетают вверх, чтобы тут же убедиться, что в нагрудном кармане нет револьвера. В последнюю секунду сдерживаем себя и не протестуем: мундир уже ведет нас к маленькому домику возле тротуара. Ага, вот оно что: табличка «Zona aduanera».
Докажи, что ты не международный мошенник, не контрабандист и не наемный убийца!
— Что у вас в портфеле?
— Посмотрите, — открываем замок и вытаскиваем паспорта.
Таможенник роется в маленьком портфеле и с любопытством рассматривает катушку прозрачной ленты для заклеивания писем.
— Второй нет?
— Нет, можете убедиться!
Почему таможенника интересует, одна катушка клейкой ленты в портфеле или две? Ответ на это мы получаем немного погодя. Перестав представлять для таможенников какой-либо интерес, мы волей-неволей оказались свидетелями того, как делаются дела в Аргентине.
В домик таможни вошел кабальеро с корзиной апельсинов. Прежде чем поздороваться, он извлек самый крупный плод из бумажной обертки, положил его на стол и вытащил пачку сигарет. «Встретились старые знакомцы», — проносится в мыслях. Но мы тут же отказываемся от этого глупого предположения, увидев, как рука таможенника взлетела к козырьку, а потом, на обратном пути, вытащила несколько сигарет из пачки кабальеро и положила их на горку других, уже лежащих на подоконнике. Формальное определение веса корзинки рукой — и кабальеро с многозначительной улыбкой уходит.
Так-то вот делаются дела в Аргентине!
Не говоря ни слова, таможенник отдает нам портфель и сообщает, что мы можем идти. Ах, эти гринго, ничего-то они не знают об Аргентине!
Разве таможенник не имеет права выкурить сигарету? Съесть апельсин? Или заклеить письмо прозрачной лентой? Зачем же тогда утруждать себя, проверяя, что было в корзине под верхним слоем апельсинов: настоящие апельсины или американские сигареты, которые на американском корабле стоят в три раза дешевле, чем в табачной лавочке за углом?
Говорят, что первые впечатления — самые верные…
Кабальеро и каважьеро
Буэнос-Айрес вместе с предместьями насчитывает 4 миллиона жителей. Так по крайней мере утверждают аргентинцы. В том, что их столица — самый большой город на южном полушарии, убеждаешься, попав на первые улицы за Ретиро. Попробуй разобраться в этом вавилонском столпотворении автобусов с трехзначными номерами маршрутов, гудящих автомобилей и снующих, как муравьи, пешеходов!На пристани нас никто из посольства не встретил. Выходи из создавшегося положения как знаешь: банки закрыты, а нескольких песо, обмененных на корабле, не хватит даже на такси.
— План Буэнос-Айреса за песо!
Как по заказу! В портовой кофейне раскладываем на столе бумажное покрывало, и у нас захватывает дух. Лабиринт квадратиков и прямоугольников, прорезанный линиями железных дорог и подземки. Двадцать километров с юга на север, семнадцать с запада на восток — и это без пригородов. По списку улиц мы отыскиваем Lavalle и отправляемся к торговцу открытками спросить, как туда добраться,
— Рог favor, c?mo se va a la calle Lavalle? [5]
— Э-э-э?
— La calle Lavalle, Ла калье Лавалье, — пытаемся мы произнести эту фразу с правильным акцентом.
— А-а, кажье Лаважье, — со вздохом облегчения говорит торговец, — это седьмая улица направо. Вы из Испании или из Мексики?
Только теперь вспоминаешь о тех примечаниях мелким шрифтом в учебниках испанского языка, где говорилось, что в Аргентине мягкое «л» произносится как «жь», «б» как «в». Поэтому здесь говорят «криожьё» вместо «криольё», «каважьеро» вместо «кабальеро».
— Понятно, седьмая улица направо. Мучас грасиас, каважьеро!
— ?so s?, вот как говорится у нас в Аргентине, muy bien, muy bien! [6]
Город Хорошего Воздуха
Мы ведь еще не рассказали, почему Аргентина стала называться Аргентиной. По правде сказать, это произошло по ошибке.Первый белый человек, ступивший на ее землю в 1516 году, был Хуан Диас де Солис. Однако недолго ему довелось наслаждаться обладанием пальмы первенства. Не успел он по-настоящему осмотреть берег, как индейцы схватили его и съели. Лишь спустя десять лет после этого сюда решился отправиться другой храбрец, Себастьян Кабот. Ему повезло больше. Он направился прямо в глубь страны по Паране. На этот раз индейцев словно подменили: они даже подарили пришельцам свои знаменитые украшения из серебра. Подарков было столько, что Кабот предположил, будто он открыл сокровища империи инков, и, пребывая в этом заблуждении, назвал широкое устье реки Ла-Платы — Серебро. Он так никогда и не узнал, что серебряная мишура попала сюда из Боливии, с рудника Потаен.
Это заблуждение история повлекла за собой до самого 1816 года, когда Сан-Мартин изгнал из этих мест испанских наместников и в Тукумане провозгласил независимость Объединенных провинций Ла-Платы, Provincias unidas de La Plata.
Ла-Плату перевели с испанского на латинский (по-латыни серебро — «аргентум»), и, таким образом, в 1826 году появилось весьма красивое название всей страны: Аргентина. Ошибку Кабота узаконили, и все к этому привыкли.
Иначе получилось с названием столицы. Хуан Гарай, второй ее основатель, подошел к этому с истинно испанской набожностью: «Ciudad de la Trinidad, puerto de Nuestra Se?ora Santa Mar?a de Buenos Aires», «Город Троицы, порт Нашей святой Девы Марии Хорошего Воздуха». Так окрестил ее Гарай, чтобы воздать должное покровительнице моряков, навсегда вписать в историю 29 мая, день святой троицы, день, когда его корабль причалил к американским берегам. Было это название невероятно святым и длинным. Поэтому сначала от него отпала «Троица», затем «Наша святая Дева Мария», и в конце концов остался «Хороший Воздух».
Но для дельцов XX века и это показалось слишком длинным, и они свели его до телеграфного «Байрес».
Estadounidenses (так креолы называют североамериканцев), которые ничего не смыслят в поэтической терминологии древнеиспанских мореплавателей, стремясь уберечь свои голосовые связки и сэкономить ленты пишущих машинок, шагнули дальше и сжали «Хороший Воздух» до двух букв «B.A.», читай «Би-Эй».
Тем не менее языковеды продолжают ломать голову над тем, что осталось от названия, данного Гараем городу на Серебряной реке. Попутному ветру — так тоже можно перевести buenos aires — были благодарны за счастливое окончание плавания все моряки. Но так можно было назвать и сотни других городов, открытых случайно. И история склоняется к иному объяснению — к изречению мореплавателя, который, сойдя на берег, воскликнул:
— Как хорош воздух в этой стране! — Qu? buenos aires tiene esta tierra!
Быть может, над необозримыми равнинами вновь открытой земли повеял тогда осенний майский ветерок. Или же знойный воздух, дрожащий над пампой, напомнил мореплавателю, которому океан много недель подряд швырял в лицо соленые брызги, жаркое дыхание Андалузии. И тогда, набрав полную грудь этого хорошего воздуха, он схватился за топор, чтобы обтесать первые бревна для постройки города.
Да, в Аргентине бывают хорошие дни, когда туман исчезает с водных просторов в Энтре-Риос. Тогда светлеют лица аргентинцев, и в глазах их можно прочесть облегчение, радость, солнечное сияние. Полуденное солнце на переполненных улицах не палит, не убивает. Шоферы такси перестают быть угрюмыми, с улыбкой распахивают дверцы своих машин и нежно произносят по-испански: «Qu? buen tiempo!»
Сеньориты мельком осматривают свои прически в сверкающих стеклах витрин и идут дальше, плавно покачивая бедрами. Над Буэнос-Айресом — buen aire.
Если же очутиться в этом городе в июльские дни, когда вращение Земли приговорило южное полушарие к зиме, тотчас же забудешь о палящей Африке, которая долгие месяцы была для нас родным домом. Аргентинская зима в десять раз хуже европейской. Стрелка влагомера намертво приклеивается к отметке «100». Над портом клубится белый туман, который время от времени превращается в холодную изморось. Мебель, стены, лестницы роняют пресные слезы, которые собираются в ручейки — и вот тебе на: на полу откуда ни возьмись лужи. Одежда в шкафу покрывается зеленой плесенью. В такое время дождь буквально проникает до мозга костей. Люди ругаются, спокойные в хорошую погоду шоферы такси становятся нервными, и в газетах можно прочесть о десятках аварий, о раненых и убитых. И все это лишь потому, что в Буэнос-Айресе дождь или туман.
В Буэнос-Айресе едва ли споткнешься о камни тротуара. Даже о столь малые, как, например, в мозаике знаменитых тротуаров Праги. Откуда взяться граниту или, скажем, мрамору возле города, который вклинился в песчаные наносы Параны, Парагвая, Пилькомайо, Игуасу и Уругвая! Кое-где на главных авенидах встречается брусчатая мостовая, но и та до последнего камня привезена сюда из Швеции. Поэтому портеньо — как сами себя называют жители Буэнос-Айреса — принялись выделывать камни для мостовых из глины. Город поглощает их, словно ненасытный Молох. Они желтые, с неглубокими желобками. По ним хорошо ходить, пока светит солнце, а ноги обуты в туфли на кожаной подошве. Едва же начинается дождь, лучше отказаться от всего, что намеревался делать днем. Запирайся в четырех стенах или бери такси и переезжай на нем с одного места на другое, потому что тротуары превращаются в катки.
Жизнь в две смены
— Посоветуйте, где нам поселиться?Пожалуй, это были наши первые слова, сказанные после встречи с горсткой новых друзей.
— О-о, ребята, с этим будет не так-то просто! Пожимают плечами, бросают вопросительно-беспомощные взгляды.
Так началась наша ночлежная одиссея, которая длилась ровно семь дней.
— Попытаемся завтра, друзья, сегодня уже поздно, вы напрасно потеряете время, — провозгласил один из земляков, Виктор. И как бы для успокоения добавил: — Я бы пригласил вас к себе, но вы сами увидите, как мы живем. На двадцати квадратных метрах.
Улицы Буэнос-Айреса опустели, лишь изредка за белой пеленой ночного тумана визжат на поворотах трамваи и грохочут тяжелые американские автобусы. Сторож в зоне порта даже не обращает на нас внимания: ведь контрабандные сигареты выносят с парохода в город, а не наоборот. «Буассевен» молчит в Дарсена-Норте, огни его светятся во мраке ночи так же, как и сутки назад, когда он стоял на краю воронки Ла-Платы. Там под стальными крышками люков еще отдыхает «татра», которой пока что не довелось вдохнуть бензинного перегара, тумана и пыли столицы. Сегодня мы еще имеем право переночевать на судне, которое привезло нас из другой части света.
На следующую ночь мы уже крадемся через порт, словно контрабандисты. Таможенник нам ничего не сделает, его бдительность проснется лишь в том случае, если мы изменим направление в сторону Ретиро. Но право ночлега на судне кончилось. Бесполезной была беготня по двадцати гостиницам и пансионатам, начиная с захудалых портовых кварталов и кончая «хорошими» на Тукумане. Напрасная потеря времени.
— Зайдите завтра, возможно…
Огни палуб и рей отражаются в грязной воде, матросы на углевозах фальшиво насвистывают песенки, заглушая ими тоску по родине.
Над городом и над морем еще лежит утренняя темнота, когда мы быстро одеваемся и осторожно пробираемся по коридорам, чтобы незаметно выбраться с судна. И вдруг новая, незнакомая панорама открывается нашим глазам: растерянно ищем сходни, которые вчера ночью упирались в причал «Р36» в Северном порту.
— Не могли же нас ночью увезти на противоположную сторону, в Монтевидео? Ведь «Буассевен» должен был простоять на якоре целую неделю…
— No, sir, — говорит спросонья китаец-юнга, — ночью нас перетянули с причала «Север» на причал «Е».
При свете фонарика ищем на плане города, куда нас перетащили ночью. Путь автобусом, часть расстояния пешком, трамваем, вторым автобусом, шесть кварталов назад, снова трамваем — ив восемь мы там, где могли бы быть отдохнувшими, выспавшимися, в великолепном настроении, если бы…
Третья ночь была точь-в-точь такой же, лишь диалоги в отелях были несколько иными.
— Сожалеем, все переполнено, — произносили губы, в то время как карман удовлетворенно мурлыкал: «Слава богу, все переполнено».
На четвертый день мы спали на ходу. Вероятно, это дало повод Виктору сказать нам:
— Ну, ребята, хватит! Так дальше не пойдет. Завтра Nueve de julio — государственный праздник. Я постелю вам в кабинете адвоката, рядом с моей квартирой. Можете отоспаться, потому что завтра нерабочий день.
Хорошее предложение, отчего же не принять! На кожаном диване можно спать, если он хотя бы полутора метров в длину. Если же у тебя голова на одном кресле, ноги на другом, а посредине пусто, то так можно выдержать от силы час, даже имея опыт ночевок на шоссе, на вершине пирамиды или на свежем вулканическом пепле. В конце концов расстилаем простыни на полу и на следующий день досыпаем на ходу.
На пятый день нашего пребывания в Америке нам удалось найти комнату под крышей, в небольшой запущенной гостинице. Затхлая кладовая, из которой неохотно выгребли кучу хлама, так как знали, что мы будем здесь жить до тех пор, пока не подыщем человеческого жилья. А потом им придется таскать все это барахло обратно, даром. Одна скрипучая дверь без стекла выходит в темный коридор, другая куда-то в противоположную сторону, а о третьей мы пока что и не подозреваем. Слева железная койка на трех ножках, справа под лестницей — на четырех. Вопрос о том, поселиться здесь или нет, учитывая все «за» и «против», решил жребий.
Моем руки в выложенной кафелем мойке для посуды, туфлей давим на стене двух клопов, вывертываем лампочку и вздыхаем с облегчением, предвкушая, что наконец-то отоспимся. Внизу гремит лифт. Чем выше он поднимается, тем сильнее грохот, который умолкает этажом ниже под нами. Из светового колодца, этого резонатора всего дома, вырывается темпераментная испанская перебранка, ругательства полыхают, как ожоги второй и третьей степени. После полуночи эта «беседа» несколько утихает, но вдруг раздается скрип задней двери, над головами мелькает чья-то фигура, с минуту в мойке плещется вода, незнакомец вытирает руки о нашу простыню и исчезает. Вслед за тем на наши головы начинает сыпаться штукатурка. На этот раз над нами скрипит деревянная лестница, хлопают двери, которые до сих пор оставались скрытыми.
Назавтра мы узнаем от владельца гостиницы, что это был официант из ближайшего бара; в чулане, под самой крышей, спят в две смены. Если бы нам повезло, мы могли бы познакомиться и со вторым ночлежником, печатником, который уходит в ночную и возвращается незадолго до полудня.
Как выглядит наш утренний туалет?
Выбираем друг у друга штукатурку из волос, бреемся, глядя в осколок стекла, умываемся в мойке для посуды.
«Сейчас я это выкобрую…»
— Один монштрудл с кремом!..— Медио кристал на третье!
— Че, есть еще в эладере какая-нибудь ботежья?
Мы сидим в прокуренном помещении и не хотим верить ни глазам, ни ушам. Слева вперемежку с ганацким [7]диалектом и польским языком звучит баварское наречие. У нас за спиной, за противоположным столом, кто-то на жижковском [8]жаргоне пытается описать своему аргентинскому соседу невзгоды переселенца, и ему вовсе не мешает то обстоятельство, что через его плечо шумно переговариваются два болгарина, которым пока что некуда сесть. Над столами, покрытыми засаленными скатертями, и над тесно сдвинутыми стульями струится аромат капусты, и во всем этом многоязычном гаме локтями пробивают себе дорогу два официанта, роняя капли пота прямо в дымящиеся тарелки. Шкубанки [9]с маком, свиная ножка, которая едва умещается на тарелке, сосиски с горчицей, аргентинское пучеро, суп с лапшой, бухты [10]с творогом, кесо кон дульсе.
