Но и этого было мало. Каждый день с 15 до 16 часов и вечером, во время приёма, я, по требованию дедушки, надевал на лицо марлевую повязку, пропитанную каким-то довольно-таки противным дезинфицирующим раствором. Так что моего носа и рта никто из дедушкиных пациентов ни разу не видел, а видели они только мои глаза, которые дедушка разрешил оставить без всякой защиты.
И ещё: всё это было не так легко, потому что я решил не просто записывать отдыхающих на приём, но и составлять на каждого из них регистрационную карточку.
Дедушка меня, конечно, об этом не просил. Но я же прекрасно знал, что в настоящих поликлиниках бывают и регистрационные карточки и истории болезни, и решил, что у нас всё должно быть по-настоящему.
Никаких карточек у меня, конечно, не было, и поэтому я просто разодрал на отдельные листочки несколько тетрадок в линеечку, оставшихся у дедушки после моих прошлогодних летних занятий. Каждый листок и был карточкой, на которой я аккуратно записывал имя, отчество и фамилию больного, год рождения, профессию и разные прочие сведения.
Как-то однажды, когда записывалась на приём солидная, пожилая женщина, сообщавшая о себе все сведения так, будто не дедушка, а я сам должен был лечить её от очень неприятной болезни, которая называлась нервной экземой, мне вдруг пришло в голову спросить:
– А чем вы болели в детстве?
Это сразу ещё выше подняло мой авторитет в глазах пожилой пациентки, и она стала припоминать болезни, которыми, наверное, в детском возрасте болели вообще все на свете: корь, грипп, коклюш…
– А не было ли у вас воспаления лёгких?
– Нет… кажется, не было, – виноватым голосом ответила женщина.
– А краснухи?
– Тоже… нет.
– И желтухи не было?.. – И желтухи…
Я долго допрашивал бедную женщину, перечисляя все известные мне болезни, и, когда наконец в ответ на мой вопрос о «свинке» женщина почему-то радостно воскликнула: «Да, да, это было!» – я ей строго заметил:
– Вот видите! А вы забыли…
Вечером дедушка сказал, что моя личная инициатива убыстряет приём больных, и с тех пор я стал интересоваться прежними болезнями всех дедушкиных пациентов.
Особенно мне нравилось, когда отдыхающие мамы записывали на приём своих отдыхающих детей. Пациенты были моего возраста, но их мамаши, у которых в дни болезни детей всегда бывал какой-то испуганный и несчастный вид, да и сами дети тоже смотрели на меня так, словно я был старше их лет на двадцать, а может быть, и на сорок, и от меня лично зависело, будут ли они ещё хоть раз купаться в реке Белогорке и прохлаждаться (то есть прогреваться) на пляже или же так и проболеют до конца своего отдыха.
– Чем болели в раннем детстве? – спрашивал я у тех, у кого «позднее» детство ещё не прошло. И потом начинал подсказывать: – А дифтерит не забыли? А бронхит? А стрептококковую ангину?..
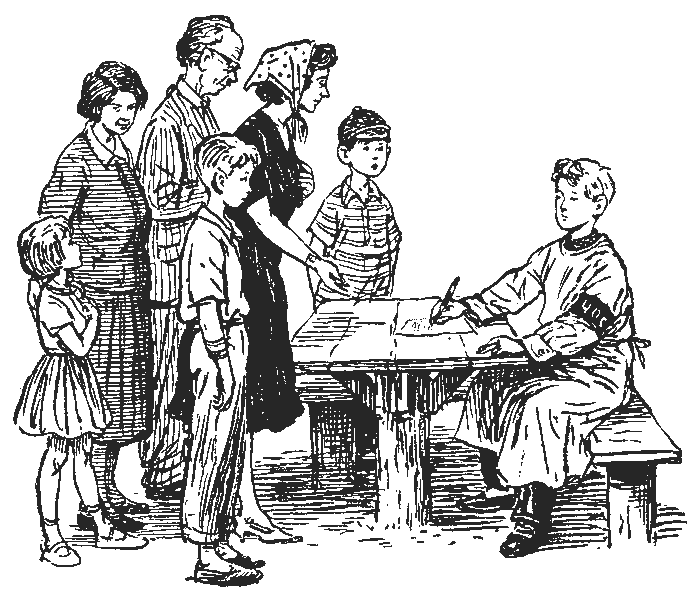 Чем дольше я помогал дедушке, тем больше всяких болезней было у меня в запасе, и я иногда произносил такие названия, о которых, я уверен, даже наш высококультурный и образованный Веник никогда не слышал и не подозревал.
Чем дольше я помогал дедушке, тем больше всяких болезней было у меня в запасе, и я иногда произносил такие названия, о которых, я уверен, даже наш высококультурный и образованный Веник никогда не слышал и не подозревал.
Теперь уж, конечно, я интересовался и тем, на что больные жалуются, что они ощущают, заранее мерил им температуру, и это всё тоже очень подробно заносил в регистрационные карточки.
Иногда, записывая на приём, я давал больным советы, к которым они очень внимательно и чутко прислушивались, точно разговаривали с самим дедушкой, а не с его медицинским братом.
– Вот видите, как нехорошо, – солидно и неторопливо упрекал я какую-нибудь мамашу. – Ваш сын перегрелся на дневном солнце. Это потому, что он пренебрегает ультрафиолетовыми лучами, которые бывают только по утрам… Вот видите, – упрекал я другую, – как это всё скверно получилось: ваша дочь объелась красной смородиной. Да ещё и зёрнышки не выплёвывала. Мы, наверно, выпишем ей вечером касторку или что-нибудь вроде этого…
Вообще с самими несовершеннолетними пациентами я никогда не разговаривал, а обращался только к их родителям. И всегда говорил от нашего с дедушкой общего имени: «Мы вам пропишем… Мы вам посоветуем. Мы вам поможем…»
На крыльце и во дворике я, как посоветовал Андрей Никитич, устроил комнату ожидания. На садовом столике были разложены журналы, газеты и книги из Липучкиной общественной библиотеки. Тут были и самодельные дедушкины шахматы, в которые всегда сражались ожидающие пациенты.
Время от времени я появлялся на крыльце, под строгим объявлением «Без вызова не входить!», и сквозь свою белую, продезинфицированную марлю торжественно произносил:
– Следующий!..
Почти каждый день к нам наведывался Андреи Никитич. И всегда он приводил с собой Сашу: то заходил за ним домой, то притаскивал его с реки, то даже отрывал командира нашей «пятёрки» от каких-нибудь важных общественных дел. Конечно, Саша и сам тоже интересовался нашей домашней поликлиникой, тем более что прямо из его окна можно было с утра до вечера наблюдать весёлую вывеску – «Приходите к нам лечиться!» Но он, когда был один, разговаривал обо всяких наших медицинских делах только с дедушкой, а меня будто и не замечал.
И мне казалось, что Андрей Никитич нарочно приводит его в нашу поликлинику в самый разгар работы (когда я вёл запись или когда был приём), чтобы молча сказать: «Посмотри, как Шура старается! И сколько он проявляет замечательной личной инициативы и самостоятельности! Значит, он не только мешки с мусором умеет возить в город Песчанск, а и ещё кое-что…» Хотя, впрочем, о мешке, сшитом из старых дедушкиных портьер, Андрей Никитич, конечно, сказать не мог, потому что ничего о нём не знал.
Вместе с Андреем Никитичем часто приходили и Липучка, и Веник, и Кешка-Головастик. Да и тётя Кланя как-то именно в это время оказывалась дома и тоже выходила во двор. Она хоть и была старожилкой Белогорска и ко всем приезжим относилась с некоторым подозрением, но про Андрея Никитича всегда говорила: «Он в нашем городе как родной… Низкий поклон ему: много добра с собой принёс!»
Тётя Кланя, как и Липучка, очень хотела помогать мне и всё время предлагала свои услуги. А Андрей Никитич возражал:
– Не надо помогать: у них с дедушкой всё крепко, по-мужски получается! Пусть вдвоём и орудуют!..
Андрей Никитич хотел, наверное, чтобы я один, безо всякой посторонней помощи, справился со своим ответственным заданием, потому что он чувствовал, что командир «пятёрки» мной недоволен. А я чувствовал, что он всё это чувствует… И в душе был ему за это очень-очень благодарен, хотя ничего такого вслух не высказывал.
– Пусть получше споётся этот наш семейный медицинский дуэт: внук и дедушка! – шутил Андрей Никитич. – Они обойдутся без нашего вмешательства, я уверен… Так что не будем вторгаться!
– Ой, как жалко! – восклицала Липучка. – Я ведь мечтаю стать врачом. А пока что медицинской сестрой.. Или даже нянечкой.
– А мне говорила, что библиотекарем, – всерьёз удивлялся Веник.
– И библиотекарем тоже! Ой, я о многом мечтаю!..
Веник хвалил меня и говорил, что я тружусь «на самом благородном участке». И Кеша-Головастик говорил, что это даже благороднее, чем спасать утопающих, потому что утопать в Белогорке по-прежнему никто не собирается, а болеет (хотя бы по одному разу!) каждый человек на свете.
И только один Саша помалкивал. Он как будто вовсе и не замечал ни моей личной инициативы, которую я проявлял буквально на каждом шагу, ни моей самостоятельности, ни даже белого халата, который, кажется, и в самом деле придавал мне солидность, потому что, когда я его снимал, никто уже с таким уважением ко мне не обращался и так внимательно не выслушивал моих советов и наставлений.
Но однажды утром, когда мы оба плескались у рукомойника, по-прежнему висевшего на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молоденькая берёзка, Саша сказал;
– Надо бы нам шпица Бергена искупать. Раньше, когда будка его на берегу стояла, он почище нас с тобой был: полдня плавал. А теперь ты его на реку водить будешь!
– Я?..
– Ну да, заодно уж: как сам туда побежишь, так и его захватишь. Пусть к тебе привыкает! Он ведь теперь в полное твоё распоряжение поступит.
– В моё распоряжение?!
– А чего удивляешься? Ничего нет странного: он тебе по работе нужнее, чем нам. Может, дедушке что-нибудь срочное сообщить придётся! Берген уже старый: на Хвостик ему бегать трудно. А больница дедушкина от вашей домашней поликлиники совсем близко. И дорогу он хорошо знает… Мы его всю весну тренировали!
Нет, Саша, значит, понимал всю важность и ответственность моего дела, если решил доверить мне единственного четвероногого друга человека, которым располагала наша боевая «пятёрка».
– Без дела его не гоняй! Он уже слабый… – предупредил меня Саша. – А только в экстренных случаях используй!
И я сперва всё горевал, что мне не представлялось таких экстренных случаев. Но лучше бы их никогда и не было…
Случилось это в четверг… Как раз тогда, когда у дедушки не было приёма. Но он всё равно не отдыхал: он в этот день умудрился вести какой-то кружок по повышению квалификации медицинских сестёр, который и мне тоже рекомендовал посещать. Но я не всегда посещал этот кружок, потому что в свободные вечера вся «пятёрка», по Сашиной инициативе, стала совершать прогулки по воде на нашем знаменитом плоту. Это было очень приятно: мы катались, а Веник пересказывал нам разные интересные книги, которые мы ещё не читали. И Кешка-Головастик тоже пересказывал, только мне иногда казалось, что он сам придумывает это «содержание» на ходу и что таких книг, о которых он рассказывал, ни в одной библиотеке на белом свете не существует.
И в тот вечер я тоже собирался бежать на реку, к ребятам… Но в дверь как-то странно постучали: слабо, еле слышно. Я открыл – и увидел на крыльце Андрея Никитича. Он с трудом держался за перила крыльца, и лицо у него было такое же, как в те две ночи, в поезде и за рекой, когда я впервые узнал, что он так тяжело болен. Андрей Никитич, как и тогда, достал из пузырька, который всегда носил с собой, белый, словно сахарный, кружочек, положил его под язык и тяжело задышал, будто ему не хватало свежего воздуха, которым была так богата наша река, и наша берёзовая роща, и весь наш Белогорск…
– Андрей Никитич, что с вами? – испуганно спросил я.
Он, как и тогда, в поезде, захотел через силу улыбнуться. Но улыбки на этот раз не получилось, а какое-то страдание исказило его посеревшее лицо, с которого будто сразу исчез летний бронзовый загар.
Мне стало очень страшно. Я боялся притронуться к Андрею Никитичу. А он положил мне руку на плечо, но это была какая-то совсем другая, незнакомая рука – не та, которая легко и дружески ложилась ко мне на плечо. Рука была тяжёлая и беспомощная. Она, казалось, искала у меня защиты и спасения. И я, напрягая все свои силы, потащил Андрея Никитича в комнату…
Я не мог позвать на помощь ни Сашу, ни тётю Кланю, потому что их не было дома. И только шпиц Берген отсыпался на своём очередном дежурстве во дворе.
– Не волнуйся, Шура, – проговорил Андрей Никитич, когда я уложил его на дедушкину кровать.
Каждое слово давалось ему с большим трудом, и меня даже рассердило, что он тратит свои силы на такие ненужные просьбы: какая, в конце концов, разница – буду или не буду я волноваться!
– Сходи за дедушкой, – тихо попросил он.
– Нет, я не могу вас оставить… Я сейчас Бергена пошлю!
– Кого?..
Я не стал объяснять ему, кто вместо меня побежит в больницу за дедушкой: не всё ли было равно?
Помчался туда со всех ног отдохнувший и выспавшийся шпиц Берген. Он так радостно крутился и вертелся на одном месте, пока я засовывал ему под ошейник свою короткую записку, что я даже подумал: «Нет, это неверно, что собаки всегда чувствуют настроение своего хозяина и радуются с ним вместе, и вместе грустят. Иногда, может быть, и чувствуют, но не всегда…»
Дедушка пришёл очень быстро. Его палка напряжённо и гулко застучала по ступенькам крыльца, и я сразу почувствовал, что дедушка волнуется. Когда он не волновался, его палка легко касалась ступеней. Дедушка даже забыл о том, что я уже почти целый месяц был его главным помощником и медицинским братом, – выгнал меня из комнаты и стал один осматривать Андрея Никитича. А я шагал по крыльцу – от одних перил до других – и думал о том, что нет такой вещи на свете, которой я не сделал бы, чтоб только выздоровел Андрей Никитич. Пусть бы дедушка поручил мне самое сложное дело, самое невыполнимое на свете задание…
Но он поручил мне самое простое: сбегать на почту и дать телеграмму дяде Симе.
– Один я не справлюсь, – словно сам себе, не замечая меня, шептал дедушка, выйдя из комнаты на крыльцо. – Это уже второй! Второй инфаркт… Второй звонок… Я не специалист в этой области… Так-с… Что же делать?
Я впервые видел дедушку растерянным и даже немножко беспомощным. В руках у него был листок бумаги такого же размера, как мои регистрационные карточки. Я подумал сначала, что это рецепт, что нужно срочно бежать в аптеку.
– Дайте, дедушка! Я – мигом…
Тут только он вспомнил обо мне, сразу как-то взбодрился и сказал:
– Сейчас же дай телеграмму – Симе, в Москву. Тут всё написано. Пусть приезжает. Побыстрее!..
Последняя фраза в телеграмме такой именно и была: «Приезжай побыстрее!» Почти то же самое, что мне совсем недавно писал Саша. Но на самом деле всё было другое… И от того, как скоро соберётся в дорогу дядя Сима, зависело очень многое.
Я побежал на почту…
Ещё недавно то, что происходило в нашей домашней поликлинике, казалось мне иногда всего лишь забавной игрой. Но сейчас от игры ничего не осталось. Всё сейчас изменилось… Я понял, что и от меня тоже немножко зависит жизнь человека, которого я очень полюбил (только сейчас я по-настоящему понял это). Если бы всё тут зависело именно от меня, только от меня, Андрей Никитич стал бы самым крепким, самым здоровым человеком на земле. Но от меня, к сожалению, зависело очень немногое… Я понимал это.
За стеклянной перегородкой сидела та самая телеграфистка, у которой на кончике носа умещалось сразу двое очков и которая хорошо знала мою маму в детстве. Телеграфистка, как и раньше, читая телеграммы, глядела поверх очков, и, как и прежде, мне было непонятно, зачем же она обременяет свой нос.
Подчеркнув в телеграмме каждое слово, она повернулась ко мне и, видно не узнав меня, не поздоровалась, а коротко сообщила, сколько мне нужно платить. И тут только я вспомнил, что у меня нет ни одной копейки…
Сказать об этом просто так было неудобно, и я стал выворачивать все свои карманы, словно деньги у меня были, но куда-то запропастились. Сердитая телеграфистка терпеливо ждала.
– У меня… нет денег, – еле слышно сознался я наконец. – Забыл дома…
– Забыл? – спросила она так, словно в этом не было ничего особенного, словно большинство людей, отправляющих телеграммы, всегда забывают деньги.
Потом вновь прочла текст дедушкиной телеграммы, которая была подписана очень коротко и странно: «Твой Петя» (ведь дедушку-то моего звали Петром Алексеевичем, а для дяди Симы он, должно быть, с детских лет и навсегда остался просто Петей). – Значит, нет у тебя денег? – тихо, не желая позорить меня перед мужчиной, ставшим за мной в очередь, ещё раз переспросила телеграфистка. – Ну, да ладно… Завтра занесёшь. Я её сейчас же отправлю. Не волнуйся.
И тут я, набравшись смелости, тихо попросил:
– Допишите, пожалуйста, ещё два слова: «Приезжай немедленно!»
– Но тут ведь уже написано: «Приезжай побыстрее»…
– Побыстрее – это, может быть, и завтра, и послезавтра. А надо – сразу, немедленно!
– Зачем же дописывать? Я просто зачеркну слово «побыстрее» и напишу «немедленно»! Ты согласен?
– Согласен!.
И ЕЩЁ ПРЕКРАСНЕЕ…
И ещё: всё это было не так легко, потому что я решил не просто записывать отдыхающих на приём, но и составлять на каждого из них регистрационную карточку.
Дедушка меня, конечно, об этом не просил. Но я же прекрасно знал, что в настоящих поликлиниках бывают и регистрационные карточки и истории болезни, и решил, что у нас всё должно быть по-настоящему.
Никаких карточек у меня, конечно, не было, и поэтому я просто разодрал на отдельные листочки несколько тетрадок в линеечку, оставшихся у дедушки после моих прошлогодних летних занятий. Каждый листок и был карточкой, на которой я аккуратно записывал имя, отчество и фамилию больного, год рождения, профессию и разные прочие сведения.
Как-то однажды, когда записывалась на приём солидная, пожилая женщина, сообщавшая о себе все сведения так, будто не дедушка, а я сам должен был лечить её от очень неприятной болезни, которая называлась нервной экземой, мне вдруг пришло в голову спросить:
– А чем вы болели в детстве?
Это сразу ещё выше подняло мой авторитет в глазах пожилой пациентки, и она стала припоминать болезни, которыми, наверное, в детском возрасте болели вообще все на свете: корь, грипп, коклюш…
– А не было ли у вас воспаления лёгких?
– Нет… кажется, не было, – виноватым голосом ответила женщина.
– А краснухи?
– Тоже… нет.
– И желтухи не было?.. – И желтухи…
Я долго допрашивал бедную женщину, перечисляя все известные мне болезни, и, когда наконец в ответ на мой вопрос о «свинке» женщина почему-то радостно воскликнула: «Да, да, это было!» – я ей строго заметил:
– Вот видите! А вы забыли…
Вечером дедушка сказал, что моя личная инициатива убыстряет приём больных, и с тех пор я стал интересоваться прежними болезнями всех дедушкиных пациентов.
Особенно мне нравилось, когда отдыхающие мамы записывали на приём своих отдыхающих детей. Пациенты были моего возраста, но их мамаши, у которых в дни болезни детей всегда бывал какой-то испуганный и несчастный вид, да и сами дети тоже смотрели на меня так, словно я был старше их лет на двадцать, а может быть, и на сорок, и от меня лично зависело, будут ли они ещё хоть раз купаться в реке Белогорке и прохлаждаться (то есть прогреваться) на пляже или же так и проболеют до конца своего отдыха.
– Чем болели в раннем детстве? – спрашивал я у тех, у кого «позднее» детство ещё не прошло. И потом начинал подсказывать: – А дифтерит не забыли? А бронхит? А стрептококковую ангину?..
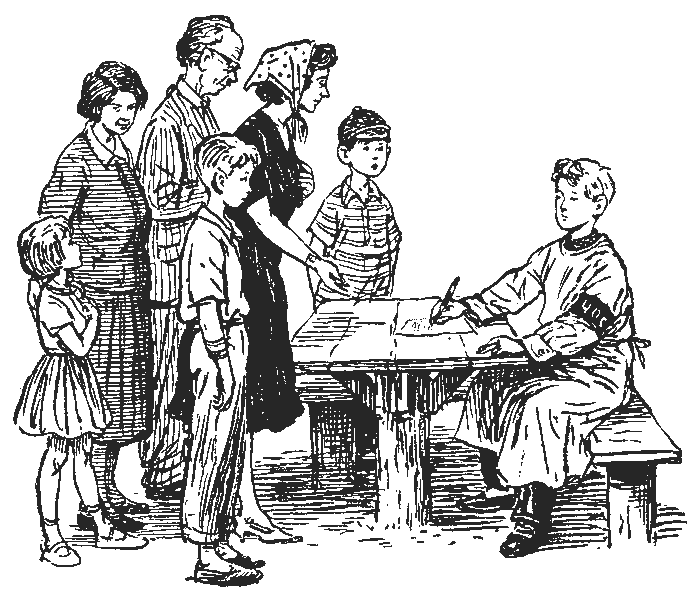
Теперь уж, конечно, я интересовался и тем, на что больные жалуются, что они ощущают, заранее мерил им температуру, и это всё тоже очень подробно заносил в регистрационные карточки.
Иногда, записывая на приём, я давал больным советы, к которым они очень внимательно и чутко прислушивались, точно разговаривали с самим дедушкой, а не с его медицинским братом.
– Вот видите, как нехорошо, – солидно и неторопливо упрекал я какую-нибудь мамашу. – Ваш сын перегрелся на дневном солнце. Это потому, что он пренебрегает ультрафиолетовыми лучами, которые бывают только по утрам… Вот видите, – упрекал я другую, – как это всё скверно получилось: ваша дочь объелась красной смородиной. Да ещё и зёрнышки не выплёвывала. Мы, наверно, выпишем ей вечером касторку или что-нибудь вроде этого…
Вообще с самими несовершеннолетними пациентами я никогда не разговаривал, а обращался только к их родителям. И всегда говорил от нашего с дедушкой общего имени: «Мы вам пропишем… Мы вам посоветуем. Мы вам поможем…»
На крыльце и во дворике я, как посоветовал Андрей Никитич, устроил комнату ожидания. На садовом столике были разложены журналы, газеты и книги из Липучкиной общественной библиотеки. Тут были и самодельные дедушкины шахматы, в которые всегда сражались ожидающие пациенты.
Время от времени я появлялся на крыльце, под строгим объявлением «Без вызова не входить!», и сквозь свою белую, продезинфицированную марлю торжественно произносил:
– Следующий!..
Почти каждый день к нам наведывался Андреи Никитич. И всегда он приводил с собой Сашу: то заходил за ним домой, то притаскивал его с реки, то даже отрывал командира нашей «пятёрки» от каких-нибудь важных общественных дел. Конечно, Саша и сам тоже интересовался нашей домашней поликлиникой, тем более что прямо из его окна можно было с утра до вечера наблюдать весёлую вывеску – «Приходите к нам лечиться!» Но он, когда был один, разговаривал обо всяких наших медицинских делах только с дедушкой, а меня будто и не замечал.
И мне казалось, что Андрей Никитич нарочно приводит его в нашу поликлинику в самый разгар работы (когда я вёл запись или когда был приём), чтобы молча сказать: «Посмотри, как Шура старается! И сколько он проявляет замечательной личной инициативы и самостоятельности! Значит, он не только мешки с мусором умеет возить в город Песчанск, а и ещё кое-что…» Хотя, впрочем, о мешке, сшитом из старых дедушкиных портьер, Андрей Никитич, конечно, сказать не мог, потому что ничего о нём не знал.
Вместе с Андреем Никитичем часто приходили и Липучка, и Веник, и Кешка-Головастик. Да и тётя Кланя как-то именно в это время оказывалась дома и тоже выходила во двор. Она хоть и была старожилкой Белогорска и ко всем приезжим относилась с некоторым подозрением, но про Андрея Никитича всегда говорила: «Он в нашем городе как родной… Низкий поклон ему: много добра с собой принёс!»
Тётя Кланя, как и Липучка, очень хотела помогать мне и всё время предлагала свои услуги. А Андрей Никитич возражал:
– Не надо помогать: у них с дедушкой всё крепко, по-мужски получается! Пусть вдвоём и орудуют!..
Андрей Никитич хотел, наверное, чтобы я один, безо всякой посторонней помощи, справился со своим ответственным заданием, потому что он чувствовал, что командир «пятёрки» мной недоволен. А я чувствовал, что он всё это чувствует… И в душе был ему за это очень-очень благодарен, хотя ничего такого вслух не высказывал.
– Пусть получше споётся этот наш семейный медицинский дуэт: внук и дедушка! – шутил Андрей Никитич. – Они обойдутся без нашего вмешательства, я уверен… Так что не будем вторгаться!
– Ой, как жалко! – восклицала Липучка. – Я ведь мечтаю стать врачом. А пока что медицинской сестрой.. Или даже нянечкой.
– А мне говорила, что библиотекарем, – всерьёз удивлялся Веник.
– И библиотекарем тоже! Ой, я о многом мечтаю!..
Веник хвалил меня и говорил, что я тружусь «на самом благородном участке». И Кеша-Головастик говорил, что это даже благороднее, чем спасать утопающих, потому что утопать в Белогорке по-прежнему никто не собирается, а болеет (хотя бы по одному разу!) каждый человек на свете.
И только один Саша помалкивал. Он как будто вовсе и не замечал ни моей личной инициативы, которую я проявлял буквально на каждом шагу, ни моей самостоятельности, ни даже белого халата, который, кажется, и в самом деле придавал мне солидность, потому что, когда я его снимал, никто уже с таким уважением ко мне не обращался и так внимательно не выслушивал моих советов и наставлений.
Но однажды утром, когда мы оба плескались у рукомойника, по-прежнему висевшего на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молоденькая берёзка, Саша сказал;
– Надо бы нам шпица Бергена искупать. Раньше, когда будка его на берегу стояла, он почище нас с тобой был: полдня плавал. А теперь ты его на реку водить будешь!
– Я?..
– Ну да, заодно уж: как сам туда побежишь, так и его захватишь. Пусть к тебе привыкает! Он ведь теперь в полное твоё распоряжение поступит.
– В моё распоряжение?!
– А чего удивляешься? Ничего нет странного: он тебе по работе нужнее, чем нам. Может, дедушке что-нибудь срочное сообщить придётся! Берген уже старый: на Хвостик ему бегать трудно. А больница дедушкина от вашей домашней поликлиники совсем близко. И дорогу он хорошо знает… Мы его всю весну тренировали!
Нет, Саша, значит, понимал всю важность и ответственность моего дела, если решил доверить мне единственного четвероногого друга человека, которым располагала наша боевая «пятёрка».
– Без дела его не гоняй! Он уже слабый… – предупредил меня Саша. – А только в экстренных случаях используй!
И я сперва всё горевал, что мне не представлялось таких экстренных случаев. Но лучше бы их никогда и не было…
Случилось это в четверг… Как раз тогда, когда у дедушки не было приёма. Но он всё равно не отдыхал: он в этот день умудрился вести какой-то кружок по повышению квалификации медицинских сестёр, который и мне тоже рекомендовал посещать. Но я не всегда посещал этот кружок, потому что в свободные вечера вся «пятёрка», по Сашиной инициативе, стала совершать прогулки по воде на нашем знаменитом плоту. Это было очень приятно: мы катались, а Веник пересказывал нам разные интересные книги, которые мы ещё не читали. И Кешка-Головастик тоже пересказывал, только мне иногда казалось, что он сам придумывает это «содержание» на ходу и что таких книг, о которых он рассказывал, ни в одной библиотеке на белом свете не существует.
И в тот вечер я тоже собирался бежать на реку, к ребятам… Но в дверь как-то странно постучали: слабо, еле слышно. Я открыл – и увидел на крыльце Андрея Никитича. Он с трудом держался за перила крыльца, и лицо у него было такое же, как в те две ночи, в поезде и за рекой, когда я впервые узнал, что он так тяжело болен. Андрей Никитич, как и тогда, достал из пузырька, который всегда носил с собой, белый, словно сахарный, кружочек, положил его под язык и тяжело задышал, будто ему не хватало свежего воздуха, которым была так богата наша река, и наша берёзовая роща, и весь наш Белогорск…
– Андрей Никитич, что с вами? – испуганно спросил я.
Он, как и тогда, в поезде, захотел через силу улыбнуться. Но улыбки на этот раз не получилось, а какое-то страдание исказило его посеревшее лицо, с которого будто сразу исчез летний бронзовый загар.
Мне стало очень страшно. Я боялся притронуться к Андрею Никитичу. А он положил мне руку на плечо, но это была какая-то совсем другая, незнакомая рука – не та, которая легко и дружески ложилась ко мне на плечо. Рука была тяжёлая и беспомощная. Она, казалось, искала у меня защиты и спасения. И я, напрягая все свои силы, потащил Андрея Никитича в комнату…
Я не мог позвать на помощь ни Сашу, ни тётю Кланю, потому что их не было дома. И только шпиц Берген отсыпался на своём очередном дежурстве во дворе.
– Не волнуйся, Шура, – проговорил Андрей Никитич, когда я уложил его на дедушкину кровать.
Каждое слово давалось ему с большим трудом, и меня даже рассердило, что он тратит свои силы на такие ненужные просьбы: какая, в конце концов, разница – буду или не буду я волноваться!
– Сходи за дедушкой, – тихо попросил он.
– Нет, я не могу вас оставить… Я сейчас Бергена пошлю!
– Кого?..
Я не стал объяснять ему, кто вместо меня побежит в больницу за дедушкой: не всё ли было равно?
Помчался туда со всех ног отдохнувший и выспавшийся шпиц Берген. Он так радостно крутился и вертелся на одном месте, пока я засовывал ему под ошейник свою короткую записку, что я даже подумал: «Нет, это неверно, что собаки всегда чувствуют настроение своего хозяина и радуются с ним вместе, и вместе грустят. Иногда, может быть, и чувствуют, но не всегда…»
Дедушка пришёл очень быстро. Его палка напряжённо и гулко застучала по ступенькам крыльца, и я сразу почувствовал, что дедушка волнуется. Когда он не волновался, его палка легко касалась ступеней. Дедушка даже забыл о том, что я уже почти целый месяц был его главным помощником и медицинским братом, – выгнал меня из комнаты и стал один осматривать Андрея Никитича. А я шагал по крыльцу – от одних перил до других – и думал о том, что нет такой вещи на свете, которой я не сделал бы, чтоб только выздоровел Андрей Никитич. Пусть бы дедушка поручил мне самое сложное дело, самое невыполнимое на свете задание…
Но он поручил мне самое простое: сбегать на почту и дать телеграмму дяде Симе.
– Один я не справлюсь, – словно сам себе, не замечая меня, шептал дедушка, выйдя из комнаты на крыльцо. – Это уже второй! Второй инфаркт… Второй звонок… Я не специалист в этой области… Так-с… Что же делать?
Я впервые видел дедушку растерянным и даже немножко беспомощным. В руках у него был листок бумаги такого же размера, как мои регистрационные карточки. Я подумал сначала, что это рецепт, что нужно срочно бежать в аптеку.
– Дайте, дедушка! Я – мигом…
Тут только он вспомнил обо мне, сразу как-то взбодрился и сказал:
– Сейчас же дай телеграмму – Симе, в Москву. Тут всё написано. Пусть приезжает. Побыстрее!..
Последняя фраза в телеграмме такой именно и была: «Приезжай побыстрее!» Почти то же самое, что мне совсем недавно писал Саша. Но на самом деле всё было другое… И от того, как скоро соберётся в дорогу дядя Сима, зависело очень многое.
Я побежал на почту…
Ещё недавно то, что происходило в нашей домашней поликлинике, казалось мне иногда всего лишь забавной игрой. Но сейчас от игры ничего не осталось. Всё сейчас изменилось… Я понял, что и от меня тоже немножко зависит жизнь человека, которого я очень полюбил (только сейчас я по-настоящему понял это). Если бы всё тут зависело именно от меня, только от меня, Андрей Никитич стал бы самым крепким, самым здоровым человеком на земле. Но от меня, к сожалению, зависело очень немногое… Я понимал это.
За стеклянной перегородкой сидела та самая телеграфистка, у которой на кончике носа умещалось сразу двое очков и которая хорошо знала мою маму в детстве. Телеграфистка, как и раньше, читая телеграммы, глядела поверх очков, и, как и прежде, мне было непонятно, зачем же она обременяет свой нос.
Подчеркнув в телеграмме каждое слово, она повернулась ко мне и, видно не узнав меня, не поздоровалась, а коротко сообщила, сколько мне нужно платить. И тут только я вспомнил, что у меня нет ни одной копейки…
Сказать об этом просто так было неудобно, и я стал выворачивать все свои карманы, словно деньги у меня были, но куда-то запропастились. Сердитая телеграфистка терпеливо ждала.
– У меня… нет денег, – еле слышно сознался я наконец. – Забыл дома…
– Забыл? – спросила она так, словно в этом не было ничего особенного, словно большинство людей, отправляющих телеграммы, всегда забывают деньги.
Потом вновь прочла текст дедушкиной телеграммы, которая была подписана очень коротко и странно: «Твой Петя» (ведь дедушку-то моего звали Петром Алексеевичем, а для дяди Симы он, должно быть, с детских лет и навсегда остался просто Петей). – Значит, нет у тебя денег? – тихо, не желая позорить меня перед мужчиной, ставшим за мной в очередь, ещё раз переспросила телеграфистка. – Ну, да ладно… Завтра занесёшь. Я её сейчас же отправлю. Не волнуйся.
И тут я, набравшись смелости, тихо попросил:
– Допишите, пожалуйста, ещё два слова: «Приезжай немедленно!»
– Но тут ведь уже написано: «Приезжай побыстрее»…
– Побыстрее – это, может быть, и завтра, и послезавтра. А надо – сразу, немедленно!
– Зачем же дописывать? Я просто зачеркну слово «побыстрее» и напишу «немедленно»! Ты согласен?
– Согласен!.
И ЕЩЁ ПРЕКРАСНЕЕ…
Я никогда не думал, что неторопливый и рассудительный, одним словом, глубоко интеллигентный дядя Сима может так быстро собраться в дорогу. Уже через день он был в Белогорске…
Встречать его на вокзал поехала тётя Кланя. И дедушка тихонько попросил, чтобы никто из нас с ней не ездил. Оказывается, дядя Сима и тётя Кланя знали друг друга чуть ли не со дня рождения, дядя Сима даже был влюблён в Сашину бабушку «светлой юношеской любовью» (так мне сказал дедушка), он посвящал ей стихи, когда был всего года на два или на три старше меня. И дедушка не хотел, чтобы мы мешали их первой встрече после стольких лет разлуки.
Мы и не стали мешать. Но вообще-то я был очень удивлён этой «светлой юношеской любовью», потому что дядя Сима, такой обходительный, осторожный в каждом своём слове (не обидеть бы человека!), был очень уж не похож на суровую, прямую и даже чуть-чуть грубоватую тётю Кланю. Однако в их давно прошедшей «юношеской любви» можно было ничуть не сомневаться, потому что, отправляясь на вокзал, тётя Кланя сделала себе такую причёску, какой Саша не видел у неё ни разу за все тринадцать лет своей жизни, и надела такое платье, которого он тоже никогда не видел.
И дедушка мой очень волновался. Он при каждом автомобильном шуме выскакивал из комнаты на крыльцо. Это было напрасно, потому что шум автобусов, приходящих со станции, у нас в комнате не был слышен.
И всё же он не упустил торжественной минуты появления своего старинного друга у нас во дворе, несмотря на то что дядя Сима появился тихо, глубоко интеллигентно, без всякого шума. Но дедушка услышал или, вернее, почувствовал… Он не вышел, а прямо-таки выскочил на крыльцо, взмахнул руками, как никогда ещё раньше при мне не махал, и старые друзья несколько раз поцеловались. А потом стали, к моему необычайному удивлению, называть друг друга просто Симой и Петей. То есть я уже из телеграммы знал, что они так друг друга называют, но ведь одно дело прочитать, а другое – услышать своими собственными ушами.
Чтобы поразить дядю Симу, я с утра натянул на себя белый халат, подаренный Липучкой, нацепил на руку красную повязку и даже закрыл нос и рот продезинфицированной марлей, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости. А дядя Сима в первый момент даже ничуть не удивился. Он, кажется, вообще не обратил на меня внимания, а оглядывал только дедушку, да наш дворик, да ещё без конца повторял, что хочет скатиться (он так и сказал – «скатиться») вниз по холму на берег и всласть искупаться в Белогорке. То, что дядя Сима может скатываться вниз по холму и купаться всласть, было для меня большой неожиданностью. Но дедушка нисколько этому не поразился – значит, оба они, а может, ещё и вместе с Клавдией Архиповной, так раньше и делали: скатывались и всласть купались.
Дядя Сима и дедушка ещё несколько минут никак не могли прийти в себя: они похлопывали и даже поглаживали друг друга, будто не верили, что их долгожданная встреча состоялась, что они снова стоят рядом, разговаривают, видят друг друга. И глаза у обоих были помолодевшие, а дедушка даже два раза протирал платком своё чеховское пенсне. И тогда я подумал, что это очень" здорово – дружить с самых своих детских лет и на всю жизнь! Я подумал и о том, что, может быть, вот так же, на всю жизнь, подружусь с Сашей, что мы тоже будем часто переписываться, а когда-нибудь встретимся и будем вот так же похлопывать и нежно поглаживать друг друга, не находя от волнения, с чего начать разговор.
Так будет когда-нибудь у нас с Сашей… А у дедушки с дядей Симой разговор сейчас мог быть только один: об Андрее Никитиче. И, когда минут через пять или десять старые друзья пришли наконец в себя, они об этом и заговорили. А потом пошли в комнату и там вместе очень долго осматривали Андрея Никитича. После уж я узнал, что это называлось не просто осмотром, а консилиумом. Я тайком видел сквозь окно, как дедушка показывал дяде Симе все анализы и длинную ленту, по которой можно было судить о работе сердца.
Потом они вышли из комнаты во двор и присели возле садового столика, на котором не было уже ни книг, ни газет, ни журналов, ни самодельных дедушкиных шахмат (приём больных в нашей домашней поликлинике был временно прекращён).
Они долго совещались, а я стоял в стороне в своём белом халате и с марлей, мешавшей мне нормально дышать. Дедушка несколько раз указывал дяде Симе на меня, и я в этот момент весь вытягивался и поправлял красную повязку на белом рукаве, думая, что меня вот-вот позовут на помощь. Но позвали меня ещё не скоро, когда всё уже обговорили и обо всём переспорили.
Я подошёл к садовому столику и тут заметил, что дядя Сима после возвращения из комнаты от Андрея Никитича стал каким-то совсем другим. И даже не очень похожим на глубоко интеллигентного человека: он был суров, говорил резко, будто приказания отдавал, и, кажется, совершенно не интересовался тем, что другие, то есть в данном случае я, ему ответят. Он и не ждал никаких ответов… Куда девался его медленный, размеренный тон, его подчёркнутая, даже немного утомительная внимательность к каждому слову своего собеседника. И от того старинного дедушкиного друга, который стоял на крыльце всего час назад, тоже ничего не осталось: он уже не собирался скатываться к реке и купаться в Белогорке, и по сторонам не оглядывался, и не смотрел на всё вокруг, как смотрят на любимого человека после долгой разлуки.
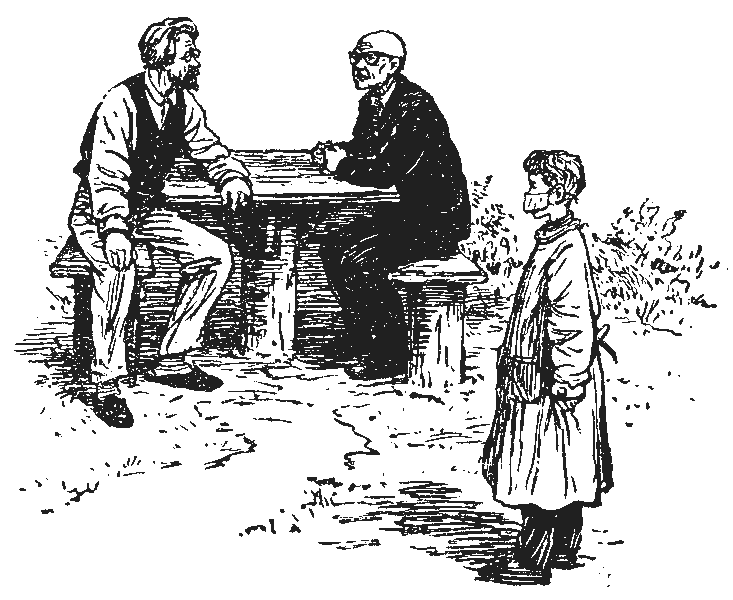 Дедушка мой тоже менялся, когда происходило что-нибудь серьёзное. Вот, например, тогда ночью, когда мы везли его на плоту. Но дядю Симу я не узнавал совсем…
Дедушка мой тоже менялся, когда происходило что-нибудь серьёзное. Вот, например, тогда ночью, когда мы везли его на плоту. Но дядю Симу я не узнавал совсем…
И поэтому я с ужасом подумал, что Андрею Никитичу, должно быть, сейчас так плохо, как не было ещё никогда: ведь это его болезнь, его состояние так изменили вдруг старинного дедушкиного товарища, сделали его совсем другим человеком.
– Марлю вы можете снять, – сказал дядя Сима. (И я стянул с носа свою продезинфицированную повязку.) Он продолжал называть меня на «вы» – и это, пожалуй, было единственным, что осталось от прежнего дедушкиного друга. – Пускать к нему никого нельзя. Лежать надо без движений. Как вы его тащили от крыльца до кровати?
– Осторожно, – ответил я.
– Это, быть может, было роковое передвижение…
– Но ведь он стоял на крыльце, надо же было…
– Да, я понимаю. И всё-таки… Ухаживать будут трое: дедушка, я и вы. Поскольку, как я узнал, у вас уже есть опыт. Ну, и, разумеется, медсестры из больницы.
Тут я набрался храбрости и тихо возразил новому, совершенно незнакомому мне дяде Симе:
– Он так не сможет… Он захочет знать, что делается в городе. И вообще обо всём! Он не сможет…
– Да, он не сможет, – поддержал меня дедушка.
– Что ж, не следует отключать его от того, что будет доставлять ему радость. Не волнения, не заботы, а одну только радость… Это ясно?
– Ясно…
– Кстати, и Клаша ведь может немного помогать, – обернувшись к дедушке, сказал дядя Сима.
Голос его при этом на миг дрогнул, стал мягким, прежним, и я внезапно представил себе дядю Симу сочиняющим стихи для той, кого он только что нежно назвал Клашей. Значит, Сашину бабушку все величали по-разному: посторонние люди – Клавдией Архиповной, я и моя мама – тётей Кланей, а вот дядя Сима, пожалуй, нежнее всех – Клашей…
Смягчившись немного, дядя Сима рассказал нам о том, что телеграмма застала его дома просто чудом: он собирался вот-вот уезжать в отпуск на Чёрное море. Значит, мы оба – и дядя Сима и я – пожертвовали в этом году ради Белогорска морем, и южным солнцем, и кипарисами… И я, стоя возле садового столика в своём белом халате, впервые ясно почувствовал, что это очень приятно – пожертвовать чем-то значительным и знать, что твоя жертва принесла пользу людям. Пусть даже не очень большую пользу, но принесла…
С этого дня я стал для Андрея Никитича «главным источником радости», как выразился дядя Сима. Я пересказывал ему всё хорошее, о чём сообщали мне во дворе его многочисленные друзья. А приходили они без конца… И я сам узнавал из их сообщений очень много нового.
Раньше, например, я думал, что мы, пионеры, чуть ли не самые главные борцы за город высокой культуры. И я очень гордился этим. Но, к сожалению, было немножко не так… Оказалось, что взрослые делают гораздо больше нас, а мы им вроде бы только помогаем.
Меня, например, просили сообщить, что «многие врачи-энтузиасты в городе поддержали ценный почин» и что горсовет собирается отвести специальное помещение для приёма и консультаций отдыхающих на общественных началах. Я даже подумал, честно говоря, что в городе может просто не хватить пациентов для всех врачей-энтузиастов, которые так горячо поддержали почин моего дедушки. Рабочие с ремзавода просили передать, что они твёрдо решили своими собственными силами, работая на воскресниках, построить ещё один клуб с читальней и комнатой для игр. А дедушкины сослуживцы из городской больницы сообщили о том, что они репетируют оперу в четырёх актах с прологом и покажут её на смотре художественной самодеятельности.
– И многие у вас поют? – недоверчиво спросил я.
– Многие. Твой дедушка, например.
– Мой дедушка?!
Я знал, что он собирает марки, выжигает и выпиливает по дереву, обтирается по утрам холодной водой, но что он ещё тайком от меня поёт – этого я даже не подозревал.
– И вы сами будете петь целую оперу? Которая в Большом театре идёт?
– А чего ты удивляешься? У нас свой театр будет: народный! Так и передай Андрею Никитичу… Когда ему легче станет, мы здесь, во дворе, или прямо в комнате устроим для него генеральную репетицию!
Но Андрею Никитичу не становилось легче. Он внимательно выслушивал меня, но я чувствовал, что слушать ему тяжело, а отвечать всё труднее и труднее…
И я рассказывал только о самом главном. И ещё обо всём, что придумывала наша «пятёрка».
Да, конечно, взрослые делали гораздо больше, чем мы, но Андрей Никитич почему-то особенно хотел услышать именно о наших, пионерских делах. И я ему подробно рассказывал о том, как Веник стал приучать ребят к классической литературе, читая им вслух в библиотеке «Записки охотника»; и о том, что у Кешки-Головастика родилась ещё одна неплохая мыслишка: подружиться с ребятами из Песчанска и ездить друг к другу в гости – с концертами самодеятельности, с выставками стенгазет и просто так – без всяких концертов и выставок. Саша и Кешка уже ездили туда на переговоры, которые прошли, как пишут в газетах, «в дружеской, сердечной обстановке».
Андрей Никитич до того любил обо всём этом слушать, что дядя Сима даже разрешил нашей «пятёрке» ежедневно навещать его. Родителей Кешки – брата Андрея Никитича и его жену – самых, так сказать, ближайших родственников, пускали в нашу домашнюю поликлинику, которая стала теперь домашней больницей, всего два раза в неделю, а нашу пионерскую «пятёрку» – каждый день. Правда, ненадолго, но пускали…
За порядком и дисциплиной следил я сам. Ребята входили в комнату по моей команде, а как только я замечал, что Андрей Никитич начинает уставать, так сразу же распоряжался, чтобы все потихоньку уходили. И меня слушались. Мне подчинялись тут же, сразу, ещё беспрекословнее, чем Саше, хоть командиром «пятёрки» был он, а не я.
Из всех частей суток для меня раньше быстрей всего пролетала ночь, потому что я беспробудно спал и даже снов почти никогда не видел. А теперь я узнал, что ночи – очень длинные, почти бесконечные, и очень мучительные, если не можешь уснуть. Мы с дедушкой теперь укладывались на полу, а дядя Сима – на моей раскладушке, головой к окну. Готовиться к ночи дедушка и дядя Сима начинали ещё днём: они применяли всё, что только возможно, чтобы Андрей Никитич пораньше и поспокойнее засыпал. Но болезнь не пускала к нему отдых и сон… И ночам, казалось, не было конца.
Мы по очереди дежурили у его постели. Он уговаривал нас не дежурить, притворялся даже, что спит, но мы по дыханию его определяли: нет, не приходит покой.
Однажды ночью я спросил его:
– Может быть, написать письмо? Вашим родным. Помните, я ведь уже писал однажды, прошлым летом…
– Сестре и её сыну? Незачем. Если бы они могли помочь… А так, без толку, зачем же волновать?
И, почувствовав, что я хочу ещё о чём-то спросить его, но не решаюсь, он добавил:
– А других родственников у меня нет. Жена и сын при бомбёжке погибли. Три тяжёлых ранения было у меня на войне. А то было четвёртым… самым тяжёлым. Кажется, неизлечимым…
А ещё через несколько дней, вечером, дядя Сима молча, знаками вызвал меня на крыльцо и тихо, перейдя вдруг со мной на «ты», сказал:
– Устал ты, наверно: каждую ночь на полу… Может быть, сегодня переночуешь у Саши?
Я понял, что дело совсем не в моей усталости, и, с трудом произнося каждое слово, спросил:
– Что?.. Андрею Никитичу очень плохо?
– Да, плохо.
– Совсем плохо?
– Совсем…
Он хотел, чтобы город был прекрасен, чтобы людям в нём жилось радостно и солнечно. И ещё хотел, чтобы мы с Сашей помирились, чтобы никогда больше не ссорились и дружили ещё крепче, чем раньше.
И после того как его не стало, мы с Сашей все дни почти что не разлучались. Мы забирались на самую верхушку зелёного холма, откуда был виден весь городок. Солнце светило ясно и горячо, и опять ни одна тучка не наползала на него, и Белогорка петляла меж берегов так же весело и беззаботно, как прежде. Его уже не было, а кругом ничего не изменилось, и я удивлялся этому, хоть так, наверное, и должно было быть…
Мы с Сашей тихо мечтали о том, чтобы город наш и в самом деле стал «фабрикой здоровья», чтобы люди никогда не мучились, не болели, не погибали от бомбёжек и вообще почти никогда не умирали…
Мы верили, что городок станет когда-нибудь таким, каким хотел увидеть его Андрей Никитич. И даже ещё прекраснее!

Встречать его на вокзал поехала тётя Кланя. И дедушка тихонько попросил, чтобы никто из нас с ней не ездил. Оказывается, дядя Сима и тётя Кланя знали друг друга чуть ли не со дня рождения, дядя Сима даже был влюблён в Сашину бабушку «светлой юношеской любовью» (так мне сказал дедушка), он посвящал ей стихи, когда был всего года на два или на три старше меня. И дедушка не хотел, чтобы мы мешали их первой встрече после стольких лет разлуки.
Мы и не стали мешать. Но вообще-то я был очень удивлён этой «светлой юношеской любовью», потому что дядя Сима, такой обходительный, осторожный в каждом своём слове (не обидеть бы человека!), был очень уж не похож на суровую, прямую и даже чуть-чуть грубоватую тётю Кланю. Однако в их давно прошедшей «юношеской любви» можно было ничуть не сомневаться, потому что, отправляясь на вокзал, тётя Кланя сделала себе такую причёску, какой Саша не видел у неё ни разу за все тринадцать лет своей жизни, и надела такое платье, которого он тоже никогда не видел.
И дедушка мой очень волновался. Он при каждом автомобильном шуме выскакивал из комнаты на крыльцо. Это было напрасно, потому что шум автобусов, приходящих со станции, у нас в комнате не был слышен.
И всё же он не упустил торжественной минуты появления своего старинного друга у нас во дворе, несмотря на то что дядя Сима появился тихо, глубоко интеллигентно, без всякого шума. Но дедушка услышал или, вернее, почувствовал… Он не вышел, а прямо-таки выскочил на крыльцо, взмахнул руками, как никогда ещё раньше при мне не махал, и старые друзья несколько раз поцеловались. А потом стали, к моему необычайному удивлению, называть друг друга просто Симой и Петей. То есть я уже из телеграммы знал, что они так друг друга называют, но ведь одно дело прочитать, а другое – услышать своими собственными ушами.
Чтобы поразить дядю Симу, я с утра натянул на себя белый халат, подаренный Липучкой, нацепил на руку красную повязку и даже закрыл нос и рот продезинфицированной марлей, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости. А дядя Сима в первый момент даже ничуть не удивился. Он, кажется, вообще не обратил на меня внимания, а оглядывал только дедушку, да наш дворик, да ещё без конца повторял, что хочет скатиться (он так и сказал – «скатиться») вниз по холму на берег и всласть искупаться в Белогорке. То, что дядя Сима может скатываться вниз по холму и купаться всласть, было для меня большой неожиданностью. Но дедушка нисколько этому не поразился – значит, оба они, а может, ещё и вместе с Клавдией Архиповной, так раньше и делали: скатывались и всласть купались.
Дядя Сима и дедушка ещё несколько минут никак не могли прийти в себя: они похлопывали и даже поглаживали друг друга, будто не верили, что их долгожданная встреча состоялась, что они снова стоят рядом, разговаривают, видят друг друга. И глаза у обоих были помолодевшие, а дедушка даже два раза протирал платком своё чеховское пенсне. И тогда я подумал, что это очень" здорово – дружить с самых своих детских лет и на всю жизнь! Я подумал и о том, что, может быть, вот так же, на всю жизнь, подружусь с Сашей, что мы тоже будем часто переписываться, а когда-нибудь встретимся и будем вот так же похлопывать и нежно поглаживать друг друга, не находя от волнения, с чего начать разговор.
Так будет когда-нибудь у нас с Сашей… А у дедушки с дядей Симой разговор сейчас мог быть только один: об Андрее Никитиче. И, когда минут через пять или десять старые друзья пришли наконец в себя, они об этом и заговорили. А потом пошли в комнату и там вместе очень долго осматривали Андрея Никитича. После уж я узнал, что это называлось не просто осмотром, а консилиумом. Я тайком видел сквозь окно, как дедушка показывал дяде Симе все анализы и длинную ленту, по которой можно было судить о работе сердца.
Потом они вышли из комнаты во двор и присели возле садового столика, на котором не было уже ни книг, ни газет, ни журналов, ни самодельных дедушкиных шахмат (приём больных в нашей домашней поликлинике был временно прекращён).
Они долго совещались, а я стоял в стороне в своём белом халате и с марлей, мешавшей мне нормально дышать. Дедушка несколько раз указывал дяде Симе на меня, и я в этот момент весь вытягивался и поправлял красную повязку на белом рукаве, думая, что меня вот-вот позовут на помощь. Но позвали меня ещё не скоро, когда всё уже обговорили и обо всём переспорили.
Я подошёл к садовому столику и тут заметил, что дядя Сима после возвращения из комнаты от Андрея Никитича стал каким-то совсем другим. И даже не очень похожим на глубоко интеллигентного человека: он был суров, говорил резко, будто приказания отдавал, и, кажется, совершенно не интересовался тем, что другие, то есть в данном случае я, ему ответят. Он и не ждал никаких ответов… Куда девался его медленный, размеренный тон, его подчёркнутая, даже немного утомительная внимательность к каждому слову своего собеседника. И от того старинного дедушкиного друга, который стоял на крыльце всего час назад, тоже ничего не осталось: он уже не собирался скатываться к реке и купаться в Белогорке, и по сторонам не оглядывался, и не смотрел на всё вокруг, как смотрят на любимого человека после долгой разлуки.
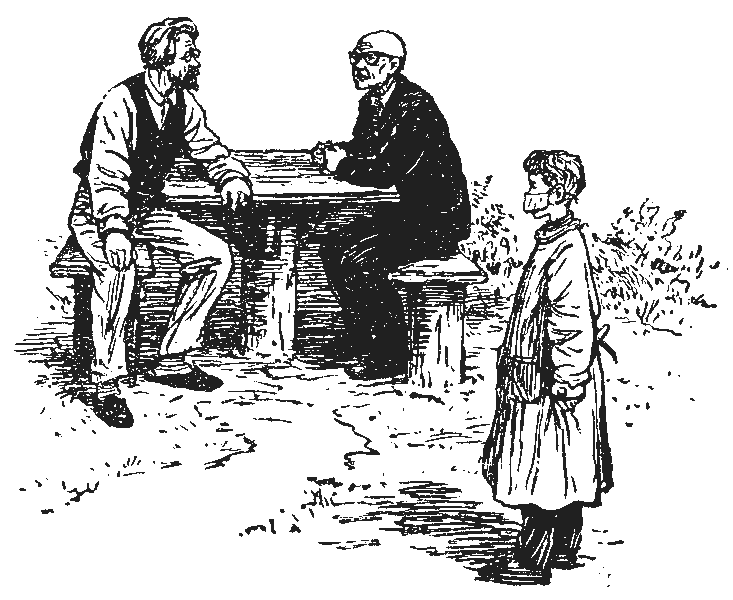
И поэтому я с ужасом подумал, что Андрею Никитичу, должно быть, сейчас так плохо, как не было ещё никогда: ведь это его болезнь, его состояние так изменили вдруг старинного дедушкиного товарища, сделали его совсем другим человеком.
– Марлю вы можете снять, – сказал дядя Сима. (И я стянул с носа свою продезинфицированную повязку.) Он продолжал называть меня на «вы» – и это, пожалуй, было единственным, что осталось от прежнего дедушкиного друга. – Пускать к нему никого нельзя. Лежать надо без движений. Как вы его тащили от крыльца до кровати?
– Осторожно, – ответил я.
– Это, быть может, было роковое передвижение…
– Но ведь он стоял на крыльце, надо же было…
– Да, я понимаю. И всё-таки… Ухаживать будут трое: дедушка, я и вы. Поскольку, как я узнал, у вас уже есть опыт. Ну, и, разумеется, медсестры из больницы.
Тут я набрался храбрости и тихо возразил новому, совершенно незнакомому мне дяде Симе:
– Он так не сможет… Он захочет знать, что делается в городе. И вообще обо всём! Он не сможет…
– Да, он не сможет, – поддержал меня дедушка.
– Что ж, не следует отключать его от того, что будет доставлять ему радость. Не волнения, не заботы, а одну только радость… Это ясно?
– Ясно…
– Кстати, и Клаша ведь может немного помогать, – обернувшись к дедушке, сказал дядя Сима.
Голос его при этом на миг дрогнул, стал мягким, прежним, и я внезапно представил себе дядю Симу сочиняющим стихи для той, кого он только что нежно назвал Клашей. Значит, Сашину бабушку все величали по-разному: посторонние люди – Клавдией Архиповной, я и моя мама – тётей Кланей, а вот дядя Сима, пожалуй, нежнее всех – Клашей…
Смягчившись немного, дядя Сима рассказал нам о том, что телеграмма застала его дома просто чудом: он собирался вот-вот уезжать в отпуск на Чёрное море. Значит, мы оба – и дядя Сима и я – пожертвовали в этом году ради Белогорска морем, и южным солнцем, и кипарисами… И я, стоя возле садового столика в своём белом халате, впервые ясно почувствовал, что это очень приятно – пожертвовать чем-то значительным и знать, что твоя жертва принесла пользу людям. Пусть даже не очень большую пользу, но принесла…
С этого дня я стал для Андрея Никитича «главным источником радости», как выразился дядя Сима. Я пересказывал ему всё хорошее, о чём сообщали мне во дворе его многочисленные друзья. А приходили они без конца… И я сам узнавал из их сообщений очень много нового.
Раньше, например, я думал, что мы, пионеры, чуть ли не самые главные борцы за город высокой культуры. И я очень гордился этим. Но, к сожалению, было немножко не так… Оказалось, что взрослые делают гораздо больше нас, а мы им вроде бы только помогаем.
Меня, например, просили сообщить, что «многие врачи-энтузиасты в городе поддержали ценный почин» и что горсовет собирается отвести специальное помещение для приёма и консультаций отдыхающих на общественных началах. Я даже подумал, честно говоря, что в городе может просто не хватить пациентов для всех врачей-энтузиастов, которые так горячо поддержали почин моего дедушки. Рабочие с ремзавода просили передать, что они твёрдо решили своими собственными силами, работая на воскресниках, построить ещё один клуб с читальней и комнатой для игр. А дедушкины сослуживцы из городской больницы сообщили о том, что они репетируют оперу в четырёх актах с прологом и покажут её на смотре художественной самодеятельности.
– И многие у вас поют? – недоверчиво спросил я.
– Многие. Твой дедушка, например.
– Мой дедушка?!
Я знал, что он собирает марки, выжигает и выпиливает по дереву, обтирается по утрам холодной водой, но что он ещё тайком от меня поёт – этого я даже не подозревал.
– И вы сами будете петь целую оперу? Которая в Большом театре идёт?
– А чего ты удивляешься? У нас свой театр будет: народный! Так и передай Андрею Никитичу… Когда ему легче станет, мы здесь, во дворе, или прямо в комнате устроим для него генеральную репетицию!
Но Андрею Никитичу не становилось легче. Он внимательно выслушивал меня, но я чувствовал, что слушать ему тяжело, а отвечать всё труднее и труднее…
И я рассказывал только о самом главном. И ещё обо всём, что придумывала наша «пятёрка».
Да, конечно, взрослые делали гораздо больше, чем мы, но Андрей Никитич почему-то особенно хотел услышать именно о наших, пионерских делах. И я ему подробно рассказывал о том, как Веник стал приучать ребят к классической литературе, читая им вслух в библиотеке «Записки охотника»; и о том, что у Кешки-Головастика родилась ещё одна неплохая мыслишка: подружиться с ребятами из Песчанска и ездить друг к другу в гости – с концертами самодеятельности, с выставками стенгазет и просто так – без всяких концертов и выставок. Саша и Кешка уже ездили туда на переговоры, которые прошли, как пишут в газетах, «в дружеской, сердечной обстановке».
Андрей Никитич до того любил обо всём этом слушать, что дядя Сима даже разрешил нашей «пятёрке» ежедневно навещать его. Родителей Кешки – брата Андрея Никитича и его жену – самых, так сказать, ближайших родственников, пускали в нашу домашнюю поликлинику, которая стала теперь домашней больницей, всего два раза в неделю, а нашу пионерскую «пятёрку» – каждый день. Правда, ненадолго, но пускали…
За порядком и дисциплиной следил я сам. Ребята входили в комнату по моей команде, а как только я замечал, что Андрей Никитич начинает уставать, так сразу же распоряжался, чтобы все потихоньку уходили. И меня слушались. Мне подчинялись тут же, сразу, ещё беспрекословнее, чем Саше, хоть командиром «пятёрки» был он, а не я.
Из всех частей суток для меня раньше быстрей всего пролетала ночь, потому что я беспробудно спал и даже снов почти никогда не видел. А теперь я узнал, что ночи – очень длинные, почти бесконечные, и очень мучительные, если не можешь уснуть. Мы с дедушкой теперь укладывались на полу, а дядя Сима – на моей раскладушке, головой к окну. Готовиться к ночи дедушка и дядя Сима начинали ещё днём: они применяли всё, что только возможно, чтобы Андрей Никитич пораньше и поспокойнее засыпал. Но болезнь не пускала к нему отдых и сон… И ночам, казалось, не было конца.
Мы по очереди дежурили у его постели. Он уговаривал нас не дежурить, притворялся даже, что спит, но мы по дыханию его определяли: нет, не приходит покой.
Однажды ночью я спросил его:
– Может быть, написать письмо? Вашим родным. Помните, я ведь уже писал однажды, прошлым летом…
– Сестре и её сыну? Незачем. Если бы они могли помочь… А так, без толку, зачем же волновать?
И, почувствовав, что я хочу ещё о чём-то спросить его, но не решаюсь, он добавил:
– А других родственников у меня нет. Жена и сын при бомбёжке погибли. Три тяжёлых ранения было у меня на войне. А то было четвёртым… самым тяжёлым. Кажется, неизлечимым…
А ещё через несколько дней, вечером, дядя Сима молча, знаками вызвал меня на крыльцо и тихо, перейдя вдруг со мной на «ты», сказал:
– Устал ты, наверно: каждую ночь на полу… Может быть, сегодня переночуешь у Саши?
Я понял, что дело совсем не в моей усталости, и, с трудом произнося каждое слово, спросил:
– Что?.. Андрею Никитичу очень плохо?
– Да, плохо.
– Совсем плохо?
– Совсем…
* * *
Андрей Никитич прожил в Белогорске недолго… Но дело ведь не в том, сколько прожить, а главное – как: в городе его знали все.Он хотел, чтобы город был прекрасен, чтобы людям в нём жилось радостно и солнечно. И ещё хотел, чтобы мы с Сашей помирились, чтобы никогда больше не ссорились и дружили ещё крепче, чем раньше.
И после того как его не стало, мы с Сашей все дни почти что не разлучались. Мы забирались на самую верхушку зелёного холма, откуда был виден весь городок. Солнце светило ясно и горячо, и опять ни одна тучка не наползала на него, и Белогорка петляла меж берегов так же весело и беззаботно, как прежде. Его уже не было, а кругом ничего не изменилось, и я удивлялся этому, хоть так, наверное, и должно было быть…
Мы с Сашей тихо мечтали о том, чтобы город наш и в самом деле стал «фабрикой здоровья», чтобы люди никогда не мучились, не болели, не погибали от бомбёжек и вообще почти никогда не умирали…
Мы верили, что городок станет когда-нибудь таким, каким хотел увидеть его Андрей Никитич. И даже ещё прекраснее!

