Страница:
Надо признаться, что в обширной истории мировых кругосветных путешествий научное турне Пуделякина занимает далеко не последнее место. Поэтому я считаю своим нравственным долгом поведать всему цивилизованному человечеству историю о том, как путешествовал мой друг художник Игнатий Пуделякин вокруг света.
Еще задолго до отъезда Пуделякина вокруг света я сказал Пуделякину:
– Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают. Что подумают о тебе, Пуделякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совестно!
Однако у Пуделякина, по-видимому, была своя точка зрения на общественное мнение Западной Европы и Северной Америки. Не такой был человек Игнатий Пуделякин, чтобы унывать. Наоборот, Игнатий Пуделякин загадочно усмехнулся и зашипел:
– Ни хрена! Туфли – это пустяк. Главное – визы. А пальцы пускай, если хотят, выглядывают, это их частное дело. Вот приеду в Европу – в Европе, между прочим, обувь дешевая. Замечательные штиблеты – восемь рублей на наши деньги. Факт!
На вокзале я нежно обнял Пуделякина.
– Смотри же, не забывай, пиши. На твою долю выпало редкое счастье – объехать вокруг света. Не упускай случая.
– Уж не упущу, – задумчиво подтвердил Пуделякин. – Будьте уверены.
Я прослезился.
– Ну, всего тебе, Пуделякин, доброго! Я с нетерпением буду ожидать от тебя открыток. Пиши обо всем, не упускай ни одной подробности. Опиши сиреневые огни Парижа, когда весенние сумерки ласково окутывают мощный скелет Эйфелевой башни, опиши жемчужные струи Рейна, опиши величественные очертания римского Колизея и геометрическую мощь Бруклинского моста в Нью-Йорке. Не позабудь, Пуделякин, также загадочного сфинкса и трансатлантического парохода, на борту которого тебе, Пуделякин, предстоит пересечь Атлантический океан.
– Уж не забуду, – бесшабашно пообещал Пуделякин, нетерпеливо двигая большим пальцем правой ноги, выглядывающим из совершенно дырявой туфли. – Мне бы только до Европы дорваться, а там – ого-го!
– Смотри же, Пуделякин! Я твердо рассчитываю, Пуделякин, на тебя. Я надеюсь, Пуделякин, что от твоего зоркого глаза не укроется ничто: ни желтые воды Тибра, когда, колеблемые смуглым ветром долин, они струятся широким потоком, который…
– Уж не укроется, будьте уверены, – сказал Пуделякин и уехал в Западную Европу и Северную Америку.
Пуделякин сдержал свое обещание. Через неделю я получил от Пуделякина первую открытку.
Но я не пошел на лекцию Пуделякина…
…Где-то ты теперь читаешь, Пуделякин? Ау, Пуделякин!..
1927
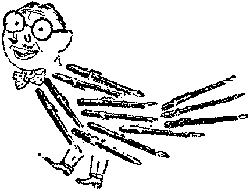
Мрачный случай
Самоубийца поневоле
Лев Славин
Юрий Олеша
Еще задолго до отъезда Пуделякина вокруг света я сказал Пуделякину:
– Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают. Что подумают о тебе, Пуделякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совестно!
Однако у Пуделякина, по-видимому, была своя точка зрения на общественное мнение Западной Европы и Северной Америки. Не такой был человек Игнатий Пуделякин, чтобы унывать. Наоборот, Игнатий Пуделякин загадочно усмехнулся и зашипел:
– Ни хрена! Туфли – это пустяк. Главное – визы. А пальцы пускай, если хотят, выглядывают, это их частное дело. Вот приеду в Европу – в Европе, между прочим, обувь дешевая. Замечательные штиблеты – восемь рублей на наши деньги. Факт!
На вокзале я нежно обнял Пуделякина.
– Смотри же, не забывай, пиши. На твою долю выпало редкое счастье – объехать вокруг света. Не упускай случая.
– Уж не упущу, – задумчиво подтвердил Пуделякин. – Будьте уверены.
Я прослезился.
– Ну, всего тебе, Пуделякин, доброго! Я с нетерпением буду ожидать от тебя открыток. Пиши обо всем, не упускай ни одной подробности. Опиши сиреневые огни Парижа, когда весенние сумерки ласково окутывают мощный скелет Эйфелевой башни, опиши жемчужные струи Рейна, опиши величественные очертания римского Колизея и геометрическую мощь Бруклинского моста в Нью-Йорке. Не позабудь, Пуделякин, также загадочного сфинкса и трансатлантического парохода, на борту которого тебе, Пуделякин, предстоит пересечь Атлантический океан.
– Уж не забуду, – бесшабашно пообещал Пуделякин, нетерпеливо двигая большим пальцем правой ноги, выглядывающим из совершенно дырявой туфли. – Мне бы только до Европы дорваться, а там – ого-го!
– Смотри же, Пуделякин! Я твердо рассчитываю, Пуделякин, на тебя. Я надеюсь, Пуделякин, что от твоего зоркого глаза не укроется ничто: ни желтые воды Тибра, когда, колеблемые смуглым ветром долин, они струятся широким потоком, который…
– Уж не укроется, будьте уверены, – сказал Пуделякин и уехал в Западную Европу и Северную Америку.
Пуделякин сдержал свое обещание. Через неделю я получил от Пуделякина первую открытку.
«Дорогой Саша! Ура! ура! ура! Наконец-то я в Западной Европе, которая так необходима для расширения моего умственного кругозора. Вчера приехал в Варшаву. Первым делом, прямо с вокзала, отправился покупать штиблеты. Дешевизна феноменальная. Пара прекрасных штиблет на наши деньги стоит (можешь себе представить!) всего десять рублей. Нечто совершенно фантастическое! У нас таких и за сорок не найдешь. Впрочем, штиблеты не купил. Говорят, в Вене штиблеты вдвое дешевле и втрое лучше. Ужасно рад, что наконец-то в Западной Европе! Целую тебя нежно. В Варшаве дожди. Завтра выезжаю в Вену.
Твой Пуделякин».
«Здорово, Сашка! Пишу тебе из Вены. Действительно феноменально. Ботиночки что надо. Красота: девять целковых на наши деньги. Хотя, говорят, в Берлине еще дешевле и лучше. Так что пока не купил. В 9.40 выезжаю в Берлин. Лучше подождать сутки, но зато купить действительно вещь, не правда ли? А хорошо в Западной Европе, черт ее подери, только удобств маловато: на улицах, например, осколки всякие валяются, и я здорово порезал себе на левой ноге пятку. Впрочем, Вена – городок что надо! Ну, пока.
Твой Пуделякин».
«Саша! Штиблеты – семь целковых на наши деньги! Феерия! Хотя, говорят, в Гамбурге вполовину дешевле. Думаю смотаться в Гамбург, зверинец кстати посмотрю. Семь целковых, а? Это тебе не ГУМ. Ну, пока.
Твой Пуделякин».
«Понимаешь, какая неприятность: приехал в Гамбург в субботу вечером, магазины закрыты. Все воскресенье как дурак проторчал в номере, никуда не выходил. В ресторан почему-то не пустили. Едва дождался понедельника. Штиблеты действительно феноменально дешевые. На наши деньги что-то рублей шесть. Невероятно, но факт! Один русский сказал, что в Бельгии обувь можно приобрести буквально задаром. Подожду до Льежа. Не горит. Пока.
Пуделякин».
«Пишу из Парижа. Штиблеты – четыре рубля на наши деньги. В Марселе еще дешевле. Сижу по случаю дождя дома. Вечером выезжаю в Марсель. Пока.
Пуделякин».
«Чуть было не купил штиблеты в Марселе. Вечером выезжаю в Неаполь. Там, говорят, феноменально дешевая обувь. А еще все кричат, что Италия – земледельческая страна. Мостовые в Марселе плохие – все ноги побил к чертовой матери. Пока.
Пуделякин».
«Неаполь. Обувь не стоит выплываю Индию феноменально.
Пуделякин».
«Бомбей. Похабные мостовые штиблеты бесценок Америка дешевле понедельник Сан-Франциско.
Пуделякин».
«Чикаго. Штиблеты гроши умоляю телеграфом 300 Мельбурн феноменально разоренный.Я послал Пуделякину триста. После того прошло четыре месяца. О Пуделякине не было ни слуху ни духу. В начале пятого я получил от Пуделякина открытку из Одессы. Вот она:
Пуделякин».
«Дорогой Саша! Чуть было не купил в Константинополе обувь. Феноменально дешево! Что-то полтора рубля на наши деньги. Однако, спасибо, встретил одного человека. Узнав, что я русский и иду покупать обувь, он всплеснул руками и воскликнул: «Милый! Вы с ума сошли! Россия – это же классическая страна кожи! В Тверской губернии есть уезд, где все население занимается исключительно выработкой хорошей и дешевой обуви!»На днях я видел большую красивую афишу, где сообщалось, что известный Игнатий Пуделякин прочтет лекцию о Западной Европе и Северной Америке. Тезисы были заманчивы.
Думаю смотаться в Кимры. Кстати, это недалеко от Москвы. В Константинополе собак не так уж и много. Ноги, представь себе, привыкли. Пожалуйста, продай мой синий костюм за шестьдесят рублей и вышли деньги телеграфом. В пятницу выезжаю в Кимры. Целую тебя нежно.
Пуделякин».
Но я не пошел на лекцию Пуделякина…
…Где-то ты теперь читаешь, Пуделякин? Ау, Пуделякин!..
1927
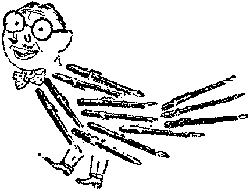
Мрачный случай
Председатель правления побегал рысью по кабинету и снова тяжело опустился в кресло.
– Так что же, товарищи, делать? Как быть? Быть-то как?
Члены тяжело молчали. Председатель прочно взял себя за волосы и зашептал:
– Боже… Боже… Как быть? Быть-то как? В понедельник кассир «Химвилки» спер двенадцать тысяч наличными и бежал. Во вторник главбух «Красного мела» постарался… восемь тысяч… подложный ордер… Бежал… Третьего дня – «Иголки-булавки». Артельщик… Десять тысяч спер… Бежал… Позавчера и вчера целый день крали в соседнем кооперативе – двадцать одну тысячу сперли. Заведующий и председатель бежали… О Боже! На нашей улице кроме нас один только «Дело табак» и остался нерастраченный. Так сказать… положение угро…
В этот момент в кабинет ворвался курьер Никита.
– Так что, – сказал он одним духом, – который кассир из треста «Дело табак» только что пятнадцать тысяч на извозчике упер на вокзал!
Повисло тягостное молчание.
– Я так и предчувствовал, – глухо зашептал председатель, покрываясь смертельной бледностью, – так и предчувствовал… Ну-с, товарищи… Теперь, значит, мы… на очереди… Больше некому… Мы одни не этого самого…
Председатель снова забегал по кабинету, тревожно поглядывая на часы.
– Что же делать? Боже, что же делать? Никита, позови бухгалтера и кассира. Только, ради Бога, поскорее. А то знаешь, Никита… это самое… Ну, голубчик, беги!
Через пять минут в кабинет с достоинством вошли бухгалтер и кассир.
– Милые вы мои! Дорогие друзья! – воскликнул радостно председатель правления. – Как это мило с вашей стороны, что зашли! Что же вы не садитесь? Никита, стулья!.. Впрочем, что это я! Никита, кресла! Чайку? Кофейку? Иван Иваныч, вам сколько кусочков сахару? Павел Васильевич, а лимончику чего же не берете? Лимончик, знаете ли, согласно последним научным данным, весьма и весьма способствует, это самое… внутренней секреции… как говорится, в той стране, где зреют апельсины. Хе-хе-с…
Председатель вплотную придвинулся к бухгалтеру и кассиру, сердечно взял их за руки и, задушевно заглянув им в глаза, вкрадчиво сказал:
– А ведь «Дело табак» того… Пятнадцать тысяч… На извозчике… Кассир… Увез, знаете…
Бухгалтер и кассир молчали.
– Увез, знаете ли… – тоскливо сказал председатель. – Прямо, знаете ли, сел на извозчика и – тово… Одни мы теперь на всей улице, так сказать, и остались…
Бухгалтер и кассир молчали.
– Дорогие мои друзья Иван Иванович и Павел Васильевич! – воскликнул председатель с полными слез глазами. – Голубчики вы мои! На вас вся наша надежда! На вас, так сказать, с любовью и упованием смотрит все правление… Не надо, милые! Ей-богу, не надо! Стоит ли мараться? Какая у нас наличность! Ерунда! Какие-нибудь одиннадцать тысяч!
– Двенадцать с половиной, – хрипло сказал кассир.
– Ну вот видите! – оживился председатель. – Двенадцать с половиной… Я еще понимаю, если бы там было тысяч тридцать-сорок! А то двенадцать! Ей-богу, милые, не стоит. Ну, прошу вас! Не как начальник подчиненных… Боже меня сохрани! А как человек человеков прошу! Не делайте этого. Не надо. Ну, даете слово?
Кассир и бухгалтер молчали, косо глядя в землю. Председатель тоскливо махнул рукой:
– Ну, идите!
– Товарищи, вы заметили, какие глаза у кассира?
– Н-да… Странноватые глаза. У бухгалтера тоже… как-то подозрительно бегают… Ох!
– Ну что же делать? Делать-то что? Степан Адольфович, будьте любезны, спуститесь вниз, в кассу, и поглядите там за ними. Будто бы нечаянно зашли, а на самом деле того… присматривайте. Ну, с Богом. Никита! Беги вниз, гони в шею к чертовой матери всех извозчиков от подъезда!
– Товарищи, а вы заметили, какие глаза у Степана Адольфовича?
– К… к… какие? – побледнел председатель.
– А такие… странноватые… И у Никиты тоже… как-то подозрительно бегали…
– Боже, Боже! – застонал председатель. – Голубчик, Влас Егорович, на вас, как на каменную гору… Сбегайте в кассу. Поглядите за Степаном Адольфовичем. И за Никитой. И чтоб извозчиков к чертовой матери. Бегите, золотко!
– Глаза видели у Власа Егоровича?
– Видел. Странноватые…
– Гм… Николай Николаевич… Сбегайте, милый, посмотрите. И чтоб извозчиков всех к черту…
– Боже! Что же делать? Делать-то что?
– Придумал! – закричал секретарь. – Ей-богу, придумал! Спасены! Скорее! Торопитесь. Всю наличность кассы наменять на медь. Чтоб по три копейки все двенадцать тысяч были. Десять больших мешков! Пусть-ка попробуют сопрут! Пудов сорок! Ха-ха!
– Душечка, дайте я вас поцелую! Ура! Ура! Ура! Пошлите курьеров во все лавки, учреждения, банки. Вывесьте спешно плакат: «За каждые десять рублей медными деньгами немедленно выдаем одиннадцать рублей серебром и кредитками». Черт с ними, потеряем десять процентов, зато от растраты гарантированы. Да поскорее бегите, дорогой! Авось до закрытия кассы успеем.
Через три часа в будке кассира стояло пять больших туго завязанных мешков с медью. Председатель любовно похлопал по ним ладонью, ласково улыбнулся кассиру, дружественно обнял бухгалтера и глубоко вздохнул, надевая внизу галоши.
– Фу! Гора с плеч!
На следующее утро, придя на службу, председатель правления прежде всего наткнулся на бледное, убитое лицо секретаря.
– Что? Что случилось?! – воскликнул председатель в сильном волнении.
– Увезли… – глухо сказал секретарь.
– Кого увезли?
– Двенадцать с половиной тысяч увезли. Как одну копейку. Всю ночь таскали…
– Прямо потеха! – подтвердил Никита. – На двух ломовиках. Уж таскали они эти мешки по лестнице, таскали! Аж взопрели, сердешные. В семь часов утра кончили. Оно, конечно, ежели…
– Куда же они их повезли? – завизжал председатель.
– Известно куда. Иван Иванович свою долю повезли в казино, а Павел Васильевич уж, натурально, на вокзал… Оно, конечно, ежели…
– Подите к черту! Подите к черту! Подите к черту! – захрипел председатель и упал без чувств.
1925
– Так что же, товарищи, делать? Как быть? Быть-то как?
Члены тяжело молчали. Председатель прочно взял себя за волосы и зашептал:
– Боже… Боже… Как быть? Быть-то как? В понедельник кассир «Химвилки» спер двенадцать тысяч наличными и бежал. Во вторник главбух «Красного мела» постарался… восемь тысяч… подложный ордер… Бежал… Третьего дня – «Иголки-булавки». Артельщик… Десять тысяч спер… Бежал… Позавчера и вчера целый день крали в соседнем кооперативе – двадцать одну тысячу сперли. Заведующий и председатель бежали… О Боже! На нашей улице кроме нас один только «Дело табак» и остался нерастраченный. Так сказать… положение угро…
В этот момент в кабинет ворвался курьер Никита.
– Так что, – сказал он одним духом, – который кассир из треста «Дело табак» только что пятнадцать тысяч на извозчике упер на вокзал!
Повисло тягостное молчание.
– Я так и предчувствовал, – глухо зашептал председатель, покрываясь смертельной бледностью, – так и предчувствовал… Ну-с, товарищи… Теперь, значит, мы… на очереди… Больше некому… Мы одни не этого самого…
Председатель снова забегал по кабинету, тревожно поглядывая на часы.
– Что же делать? Боже, что же делать? Никита, позови бухгалтера и кассира. Только, ради Бога, поскорее. А то знаешь, Никита… это самое… Ну, голубчик, беги!
Через пять минут в кабинет с достоинством вошли бухгалтер и кассир.
– Милые вы мои! Дорогие друзья! – воскликнул радостно председатель правления. – Как это мило с вашей стороны, что зашли! Что же вы не садитесь? Никита, стулья!.. Впрочем, что это я! Никита, кресла! Чайку? Кофейку? Иван Иваныч, вам сколько кусочков сахару? Павел Васильевич, а лимончику чего же не берете? Лимончик, знаете ли, согласно последним научным данным, весьма и весьма способствует, это самое… внутренней секреции… как говорится, в той стране, где зреют апельсины. Хе-хе-с…
Председатель вплотную придвинулся к бухгалтеру и кассиру, сердечно взял их за руки и, задушевно заглянув им в глаза, вкрадчиво сказал:
– А ведь «Дело табак» того… Пятнадцать тысяч… На извозчике… Кассир… Увез, знаете…
Бухгалтер и кассир молчали.
– Увез, знаете ли… – тоскливо сказал председатель. – Прямо, знаете ли, сел на извозчика и – тово… Одни мы теперь на всей улице, так сказать, и остались…
Бухгалтер и кассир молчали.
– Дорогие мои друзья Иван Иванович и Павел Васильевич! – воскликнул председатель с полными слез глазами. – Голубчики вы мои! На вас вся наша надежда! На вас, так сказать, с любовью и упованием смотрит все правление… Не надо, милые! Ей-богу, не надо! Стоит ли мараться? Какая у нас наличность! Ерунда! Какие-нибудь одиннадцать тысяч!
– Двенадцать с половиной, – хрипло сказал кассир.
– Ну вот видите! – оживился председатель. – Двенадцать с половиной… Я еще понимаю, если бы там было тысяч тридцать-сорок! А то двенадцать! Ей-богу, милые, не стоит. Ну, прошу вас! Не как начальник подчиненных… Боже меня сохрани! А как человек человеков прошу! Не делайте этого. Не надо. Ну, даете слово?
Кассир и бухгалтер молчали, косо глядя в землю. Председатель тоскливо махнул рукой:
– Ну, идите!
– Товарищи, вы заметили, какие глаза у кассира?
– Н-да… Странноватые глаза. У бухгалтера тоже… как-то подозрительно бегают… Ох!
– Ну что же делать? Делать-то что? Степан Адольфович, будьте любезны, спуститесь вниз, в кассу, и поглядите там за ними. Будто бы нечаянно зашли, а на самом деле того… присматривайте. Ну, с Богом. Никита! Беги вниз, гони в шею к чертовой матери всех извозчиков от подъезда!
– Товарищи, а вы заметили, какие глаза у Степана Адольфовича?
– К… к… какие? – побледнел председатель.
– А такие… странноватые… И у Никиты тоже… как-то подозрительно бегали…
– Боже, Боже! – застонал председатель. – Голубчик, Влас Егорович, на вас, как на каменную гору… Сбегайте в кассу. Поглядите за Степаном Адольфовичем. И за Никитой. И чтоб извозчиков к чертовой матери. Бегите, золотко!
– Глаза видели у Власа Егоровича?
– Видел. Странноватые…
– Гм… Николай Николаевич… Сбегайте, милый, посмотрите. И чтоб извозчиков всех к черту…
– Боже! Что же делать? Делать-то что?
– Придумал! – закричал секретарь. – Ей-богу, придумал! Спасены! Скорее! Торопитесь. Всю наличность кассы наменять на медь. Чтоб по три копейки все двенадцать тысяч были. Десять больших мешков! Пусть-ка попробуют сопрут! Пудов сорок! Ха-ха!
– Душечка, дайте я вас поцелую! Ура! Ура! Ура! Пошлите курьеров во все лавки, учреждения, банки. Вывесьте спешно плакат: «За каждые десять рублей медными деньгами немедленно выдаем одиннадцать рублей серебром и кредитками». Черт с ними, потеряем десять процентов, зато от растраты гарантированы. Да поскорее бегите, дорогой! Авось до закрытия кассы успеем.
Через три часа в будке кассира стояло пять больших туго завязанных мешков с медью. Председатель любовно похлопал по ним ладонью, ласково улыбнулся кассиру, дружественно обнял бухгалтера и глубоко вздохнул, надевая внизу галоши.
– Фу! Гора с плеч!
На следующее утро, придя на службу, председатель правления прежде всего наткнулся на бледное, убитое лицо секретаря.
– Что? Что случилось?! – воскликнул председатель в сильном волнении.
– Увезли… – глухо сказал секретарь.
– Кого увезли?
– Двенадцать с половиной тысяч увезли. Как одну копейку. Всю ночь таскали…
– Прямо потеха! – подтвердил Никита. – На двух ломовиках. Уж таскали они эти мешки по лестнице, таскали! Аж взопрели, сердешные. В семь часов утра кончили. Оно, конечно, ежели…
– Куда же они их повезли? – завизжал председатель.
– Известно куда. Иван Иванович свою долю повезли в казино, а Павел Васильевич уж, натурально, на вокзал… Оно, конечно, ежели…
– Подите к черту! Подите к черту! Подите к черту! – захрипел председатель и упал без чувств.
1925
Самоубийца поневоле
Со стороны Гражданина это было свинство во всех отношениях. Тем не менее он решился на это, тем более что самоубийство уголовным кодексом не наказуемо.
Одним словом, некий Гражданин, разочаровавшись в советской действительности, решил повернуться лицом к могиле.
Печально, но факт.
Спешно получив выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, Гражданин лихорадочно написал предсмертное заявление в местком, купил большой и красивый гвоздь, кусок туалетного мыла, три метра веревки, пришел домой, подставил стул к стене и влез на него.
Кр-р-рак!
– Черт возьми! Ну и сиденьице! Не может выдержать веса молодого интеллигентного самоубийцы. А еще называется борьба за качество! А еще называется Древтрест! Тьфу!
Но не такой был человек Гражданин, чтобы склоняться под ударами фатума, который есть не что иное, как теория вероятностей, не более!
Кое-как он влез на подоконник, приложил гвоздь к стене и ударил по гвоздю пресс-папье.
Кр-р-рак!
– Ну, знаете ли, и гвоздик! Вдребезги. Борьба-с за качество? Мерси. Не на чем порядочному человеку повеситься, прости Господи. Придется непосредственно привязать веревку к люстре. Она, матушка, старорежимная! Не выдаст!
Гражданин привязал к люстре веревку, сделал элегантную петлю и принялся ее намыливать.
– Ну и мыльце, доложу я вам! Во-первых, не мылится, а во-вторых, пахнет не ландышем, а, извините за выражение, козлом. Даже вешаться противно.
Скрывая отвращение, Гражданин сунул голову в петлю и спрыгнул в неизвестное.
Кр-р-р-ак!
– А будь она трижды проклята! Порвалась, проклятая. А еще веревкой смеет называться. На самом интересном месте. Прошу убедиться… Качество-с… Глаза б мои не видели… К черту! Попробуем чего-нибудь попроще! Ба! Столовый нож! Паду ли я, как говорится, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она…
Кр-р-рак!
И стрела действительно пролетела мимо: рука – в одну сторону, лезвие – в другую. Гражданин дико захохотал.
– Будьте уверены! Ха-ха-ха! Качество! И как после этого не кончать с собой!
«Умирать так умирать! К черту нож, этот пережиток гнилого средневекового романтизма! Опытные самоубийцы утверждают, что для самоубийства могут очень и очень пригодиться спички. Натолчешь в стакан штук пятьдесят головок, выпьешь – и амба. Здорово удумано. Как это я раньше не догадался?»
Повеселевший Гражданин распечатал свеженькую коробку спичек и стал жизнерадостно обламывать головки.
– Раз, два, три… десять… двадцать… Гм… В коробке всего двадцать восемь спичек, между тем как полагается шестьдесят.
Гражданин глухо зарыдал.
– Граждане, родимые! Что же это, братцы?! Я еще понимаю – качество, но где же это видано, чтобы честный советский гражданин так страдал из-за количества?
«К черту спички! Ударюсь хорошенько головой об стенку – и дело с концом. Добьемся мы, как говорится, своею собственной головой!»
Гражданин зажмурился, разбежался и…
Кррак!!!
Термолитовая стена свеженького коттеджика с треском проломилась, и Гражданин вылетел на улицу.
– Ну-ну! Мерси! Да здравствует качество, которое количество! Ур-р-ра! Ха-ха-ха!
С ума он, впрочем, не сошел, и в больницу его не отправили.
Гражданин посмотрел на склянку и сказал со вздохом облегчения:
– Вот. Наконец. Это как раз то, что мне нужно. Уксусная эссенция. Уж она, матушка, не подведет. В смерти моей прошу никого не винить.
Гражданин с жадностью припал воспаленными губами к склянке и осушил ее до дна.
– Гм… Приятная штука. Вроде виноградного вина, только мягче. Еще разве дернуть баночку?
Гражданин выпил еще баночку, крякнул и покрутил перед собой пальцами.
– Колбаски бы… И икорки бы… А я еще, дурак, на самоубийство покушался! Жизнь так прекрасна! Вот это качество! Марья, сбегай-ка, голубушка, принеси парочку уксусной эссенции да колбаски захвати. Дьявольский аппетит разгулялся.
«Ну-с, а теперь, закусив, можно помечтать и о радостях жиз… Тьфу, что это у меня такое в животе делается? Ох, и в глазах темно! Колбаса, ох, колбаса! Погиб я, товарищи, в борьбе с качеством! А жизнь так прекра…»
С этими словами Гражданин лег животом вверх и умер.
Что, впрочем, и входило в его первоначальные планы.
1926
Одним словом, некий Гражданин, разочаровавшись в советской действительности, решил повернуться лицом к могиле.
Печально, но факт.
Спешно получив выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, Гражданин лихорадочно написал предсмертное заявление в местком, купил большой и красивый гвоздь, кусок туалетного мыла, три метра веревки, пришел домой, подставил стул к стене и влез на него.
Кр-р-рак!
– Черт возьми! Ну и сиденьице! Не может выдержать веса молодого интеллигентного самоубийцы. А еще называется борьба за качество! А еще называется Древтрест! Тьфу!
Но не такой был человек Гражданин, чтобы склоняться под ударами фатума, который есть не что иное, как теория вероятностей, не более!
Кое-как он влез на подоконник, приложил гвоздь к стене и ударил по гвоздю пресс-папье.
Кр-р-рак!
– Ну, знаете ли, и гвоздик! Вдребезги. Борьба-с за качество? Мерси. Не на чем порядочному человеку повеситься, прости Господи. Придется непосредственно привязать веревку к люстре. Она, матушка, старорежимная! Не выдаст!
Гражданин привязал к люстре веревку, сделал элегантную петлю и принялся ее намыливать.
– Ну и мыльце, доложу я вам! Во-первых, не мылится, а во-вторых, пахнет не ландышем, а, извините за выражение, козлом. Даже вешаться противно.
Скрывая отвращение, Гражданин сунул голову в петлю и спрыгнул в неизвестное.
Кр-р-р-ак!
– А будь она трижды проклята! Порвалась, проклятая. А еще веревкой смеет называться. На самом интересном месте. Прошу убедиться… Качество-с… Глаза б мои не видели… К черту! Попробуем чего-нибудь попроще! Ба! Столовый нож! Паду ли я, как говорится, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она…
Кр-р-рак!
И стрела действительно пролетела мимо: рука – в одну сторону, лезвие – в другую. Гражданин дико захохотал.
– Будьте уверены! Ха-ха-ха! Качество! И как после этого не кончать с собой!
«Умирать так умирать! К черту нож, этот пережиток гнилого средневекового романтизма! Опытные самоубийцы утверждают, что для самоубийства могут очень и очень пригодиться спички. Натолчешь в стакан штук пятьдесят головок, выпьешь – и амба. Здорово удумано. Как это я раньше не догадался?»
Повеселевший Гражданин распечатал свеженькую коробку спичек и стал жизнерадостно обламывать головки.
– Раз, два, три… десять… двадцать… Гм… В коробке всего двадцать восемь спичек, между тем как полагается шестьдесят.
Гражданин глухо зарыдал.
– Граждане, родимые! Что же это, братцы?! Я еще понимаю – качество, но где же это видано, чтобы честный советский гражданин так страдал из-за количества?
«К черту спички! Ударюсь хорошенько головой об стенку – и дело с концом. Добьемся мы, как говорится, своею собственной головой!»
Гражданин зажмурился, разбежался и…
Кррак!!!
Термолитовая стена свеженького коттеджика с треском проломилась, и Гражданин вылетел на улицу.
– Ну-ну! Мерси! Да здравствует качество, которое количество! Ур-р-ра! Ха-ха-ха!
С ума он, впрочем, не сошел, и в больницу его не отправили.
Гражданин посмотрел на склянку и сказал со вздохом облегчения:
– Вот. Наконец. Это как раз то, что мне нужно. Уксусная эссенция. Уж она, матушка, не подведет. В смерти моей прошу никого не винить.
Гражданин с жадностью припал воспаленными губами к склянке и осушил ее до дна.
– Гм… Приятная штука. Вроде виноградного вина, только мягче. Еще разве дернуть баночку?
Гражданин выпил еще баночку, крякнул и покрутил перед собой пальцами.
– Колбаски бы… И икорки бы… А я еще, дурак, на самоубийство покушался! Жизнь так прекрасна! Вот это качество! Марья, сбегай-ка, голубушка, принеси парочку уксусной эссенции да колбаски захвати. Дьявольский аппетит разгулялся.
«Ну-с, а теперь, закусив, можно помечтать и о радостях жиз… Тьфу, что это у меня такое в животе делается? Ох, и в глазах темно! Колбаса, ох, колбаса! Погиб я, товарищи, в борьбе с качеством! А жизнь так прекра…»
С этими словами Гражданин лег животом вверх и умер.
Что, впрочем, и входило в его первоначальные планы.
1926
Лев Славин
Одесские гасконцы
– Не верьте одесситам, – предупреждали меня сведущие люди, – они легкомысленны, вероломны, хвастливы и двоедушны. Одесса – это советская Гасконь.
Первый гасконец, которого я увидел в Одессе, был парикмахер. Осведомившись о моем отрицательном отношении к последним завоеваниям парикмахерской техники – прическе «бокс» и помаде «Люсьен Можи па-де Вале», он обнажил бритву жестом профессионального убийцы.
Как известно, искусство парикмахера со времен Фигаро разделяется на два направления – одни бреют в чистом халате, не хватаясь за нос и молча. Другие, как говорят в Одессе, совсем наоборот.
Мой парикмахер принадлежал к классической школе. Это старый мастер, Рембрандт шампуней, чемпион извозчичьих затылков. В течение 15 минут ему удалось высказать свои сокровенные убеждения о моей профессии, полете «АНТ», хлебозаготовках и борьбе с перхотью. Это занятие нисколько не помешало гасконцу уверенной рукой нанести мне три резаные раны на щеке и одну рваную на подбородке. Когда, облитый кровью и недорезанный, я встал с кресла, он приветствовал меня придворным поклоном и словами:
– За бритье – 50 копеек!
– А за татуировку? – ехидно осведомился я.
– Бесплатно, – сказал он тоном хлебосольного хозяина. – Приходите, я уже привык к вашему лицу.
Второй гасконец лежал на улице. Закинув голову на урну и не без комфорта уперев ноги в телеграфный столб, он взирал на мир с видом благожелательного участия. Рядом стоял плакат:
«У.С.С.Р. Внимание! Граждане! Пожертвуйте больному человеку, который болен сонным энцефалитом, так как раньше было чем открывать рот, а теперь вставлен золотой аппарат и рот закрыт. Прошу я жертвовать золотой аппарат на другую сторону челюсти, иначе я пропащий человек, потому что золотой аппарат стоит 120 рублей».
Я попытался выяснить положение:
– Значит, вы не можете открыть рта?
– Совершенно верно, не могу, – весело признался энцефалитный гасконец.
– Но вот же вы открыли! – неблагоразумно настаивал я.
Тут в разговор вступил сосед энцефалитика и, видимо, компаньон в деле. Глаза его были загадочно прикрыты темными очками, на груди висела дощечка «Жертва импербойни».
– Не верите? – сказала жертва импербойни, яростно вращая белками. – Может, вы не верите, что я слепой? – продолжал он. – Может, вы думаете, – настаивала жертва, – что, слепой, я вам не могу морду набить?
– Можете, – сказал я с глубокой уверенностью и быстро удалился.
Третьего гасконца я увидел в редакции местной газеты. Это был рабочий час, и мне посчастливилось лицезреть тайны литературного творчества. В одной руке у него были ножницы, в другой – клей. Жестами старшего закройщика бывшей фирмы Альшванг он вырезывал из столичных газет изящные куски и наклеивал их на бумагу. Потом он швырнул нарезанное и наклеенное курьеру, сказавши:
– В набор!
«Странный город, – подумал я, – где парикмахеры работают языком, а журналисты ножницами».
– Гражданин, – сказал я вслух, – вы перепечатывали мои фельетоны в течение двух лет. Я хочу получить гонорар. Стоимость клея можете вычесть.
Гасконец посмотрел на меня почти с научным интересом.
– Молодой человек, – сказал он, воинственно лязгая ножницами, – платить не в наших традициях.
Я вскочил со стула и подал гасконцу руку, горячо поздравляя его с верностью старым живописным традициям.
– Газета, – кричал я, – где крепки моральные устои, не пропадет! Работайте! Режьте! Клейте! Блюдите священные традиции Бени Крика!
Насытившись гасконцами, я обратился к памятникам.
Одесские памятники делятся на дореволюционные и пореволюционные.
До: герцог Ришелье, стоящий на бульваре в нижнем белье древнеримского образца, и Пушкин, на бронзовом лице которого застыла гримаса отвращения. Отвращение относится к скульптору, которому удалось сообщить памятнику незабываемое сходство с канцелярской чернильницей.
По: богиня Диана с тремя собачками, воздвигнутая у бульвара на десятом году Октябрьской революции, и каменная львица в городском саду, обращенная мощным задом к кафе «Меркурий», что должно знаменовать собой презрение к частновладельческому капиталу.
Самый большой памятник в Одессе – фельдмаршал Суворов на коне, помещающийся во дворе жилтоварищества № 7 по Софиевскому переулку. Гигантский конь скачет, распустив по ветру бронзовый хвост, что представляет немалое удобство для домашних хозяек, просушивающих на хвосте белье. Безумное лицо фельдмаршала задрано к небесам, в огромных глазищах ласточки вьют гнезда, древко победоносного знамени украшено отличной радиоантенной.
Памятник этот был закончен скульптором Эдуардсом 1 марта 1917 года; вследствие внезапного падения популярности фельдмаршала среди трудящихся масс остался здесь, во дворе, подле ателье. Он причиняет немало огорчений домоуправлению, ибо не поддается никаким законам об оплате жилплощади, включая сюда целевой сбор и коммунальные услуги.
Не платит, да и только. Гасконец.
1929
Первый гасконец, которого я увидел в Одессе, был парикмахер. Осведомившись о моем отрицательном отношении к последним завоеваниям парикмахерской техники – прическе «бокс» и помаде «Люсьен Можи па-де Вале», он обнажил бритву жестом профессионального убийцы.
Как известно, искусство парикмахера со времен Фигаро разделяется на два направления – одни бреют в чистом халате, не хватаясь за нос и молча. Другие, как говорят в Одессе, совсем наоборот.
Мой парикмахер принадлежал к классической школе. Это старый мастер, Рембрандт шампуней, чемпион извозчичьих затылков. В течение 15 минут ему удалось высказать свои сокровенные убеждения о моей профессии, полете «АНТ», хлебозаготовках и борьбе с перхотью. Это занятие нисколько не помешало гасконцу уверенной рукой нанести мне три резаные раны на щеке и одну рваную на подбородке. Когда, облитый кровью и недорезанный, я встал с кресла, он приветствовал меня придворным поклоном и словами:
– За бритье – 50 копеек!
– А за татуировку? – ехидно осведомился я.
– Бесплатно, – сказал он тоном хлебосольного хозяина. – Приходите, я уже привык к вашему лицу.
Второй гасконец лежал на улице. Закинув голову на урну и не без комфорта уперев ноги в телеграфный столб, он взирал на мир с видом благожелательного участия. Рядом стоял плакат:
«У.С.С.Р. Внимание! Граждане! Пожертвуйте больному человеку, который болен сонным энцефалитом, так как раньше было чем открывать рот, а теперь вставлен золотой аппарат и рот закрыт. Прошу я жертвовать золотой аппарат на другую сторону челюсти, иначе я пропащий человек, потому что золотой аппарат стоит 120 рублей».
Я попытался выяснить положение:
– Значит, вы не можете открыть рта?
– Совершенно верно, не могу, – весело признался энцефалитный гасконец.
– Но вот же вы открыли! – неблагоразумно настаивал я.
Тут в разговор вступил сосед энцефалитика и, видимо, компаньон в деле. Глаза его были загадочно прикрыты темными очками, на груди висела дощечка «Жертва импербойни».
– Не верите? – сказала жертва импербойни, яростно вращая белками. – Может, вы не верите, что я слепой? – продолжал он. – Может, вы думаете, – настаивала жертва, – что, слепой, я вам не могу морду набить?
– Можете, – сказал я с глубокой уверенностью и быстро удалился.
Третьего гасконца я увидел в редакции местной газеты. Это был рабочий час, и мне посчастливилось лицезреть тайны литературного творчества. В одной руке у него были ножницы, в другой – клей. Жестами старшего закройщика бывшей фирмы Альшванг он вырезывал из столичных газет изящные куски и наклеивал их на бумагу. Потом он швырнул нарезанное и наклеенное курьеру, сказавши:
– В набор!
«Странный город, – подумал я, – где парикмахеры работают языком, а журналисты ножницами».
– Гражданин, – сказал я вслух, – вы перепечатывали мои фельетоны в течение двух лет. Я хочу получить гонорар. Стоимость клея можете вычесть.
Гасконец посмотрел на меня почти с научным интересом.
– Молодой человек, – сказал он, воинственно лязгая ножницами, – платить не в наших традициях.
Я вскочил со стула и подал гасконцу руку, горячо поздравляя его с верностью старым живописным традициям.
– Газета, – кричал я, – где крепки моральные устои, не пропадет! Работайте! Режьте! Клейте! Блюдите священные традиции Бени Крика!
Насытившись гасконцами, я обратился к памятникам.
Одесские памятники делятся на дореволюционные и пореволюционные.
До: герцог Ришелье, стоящий на бульваре в нижнем белье древнеримского образца, и Пушкин, на бронзовом лице которого застыла гримаса отвращения. Отвращение относится к скульптору, которому удалось сообщить памятнику незабываемое сходство с канцелярской чернильницей.
По: богиня Диана с тремя собачками, воздвигнутая у бульвара на десятом году Октябрьской революции, и каменная львица в городском саду, обращенная мощным задом к кафе «Меркурий», что должно знаменовать собой презрение к частновладельческому капиталу.
Самый большой памятник в Одессе – фельдмаршал Суворов на коне, помещающийся во дворе жилтоварищества № 7 по Софиевскому переулку. Гигантский конь скачет, распустив по ветру бронзовый хвост, что представляет немалое удобство для домашних хозяек, просушивающих на хвосте белье. Безумное лицо фельдмаршала задрано к небесам, в огромных глазищах ласточки вьют гнезда, древко победоносного знамени украшено отличной радиоантенной.
Памятник этот был закончен скульптором Эдуардсом 1 марта 1917 года; вследствие внезапного падения популярности фельдмаршала среди трудящихся масс остался здесь, во дворе, подле ателье. Он причиняет немало огорчений домоуправлению, ибо не поддается никаким законам об оплате жилплощади, включая сюда целевой сбор и коммунальные услуги.
Не платит, да и только. Гасконец.
1929
Юрий Олеша
Зависть
Глава из романа
Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:
«Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-ти-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»
Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.
В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.
Это образцовая мужская особь.
Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объекте пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.
Он моется, как мальчик: дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.
Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.
(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка – падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)
Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)
«Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-ти-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»
Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.
В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.
Это образцовая мужская особь.
Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объекте пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.
Он моется, как мальчик: дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.
Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.
(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка – падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)
Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)
