Страница:
О военных приготовлениях говорить особенно нечего — тут со времен греко-персидских войн и вплоть до недавней Иракской кампании мало что изменилось. На протяжении 484—481 годов до Р.Х. под Сардами шло сосредоточение войск, пока не была сформирована армия вторжения, насчитывавшая до 200 000 человек [366] — возможно, самая многочисленная из дотоле кем-либо собранных. Одновременно для ее транспортировки строился многочисленный (до 1200 вымпелов) флот — как военный, так и транспортный. Заготовлялись снаряжение и припасы; на покоренных еще Дарием I землях, лежащих по северному берегу Эгейского моря (в частности, на территории признавшей персидский протекторат Македонии), создавались магазины и склады. А чтобы избежать опасностей плавания в районе Афонского мыса, где в 492 году до Р.Х. быстрые течения и многочисленные рифы погубили флот Дария I [367], у основания полуострова Акте был прорыт двухкилометровый канал. Наконец, через Геллеспонт (современные Дарданеллы) были наведены два длинных плавучих моста, по которым великая армия могла двигаться параллельными колоннами.
Дипломатические интриги были куда сложнее и разнообразнее. Прежде всего, чтобы не допустить помощи греческим государствам со стороны их богатых колоний в Сицилии, Ксеркс заключил договор с Карфагеном, согласившимся напасть на Сицилию, когда персы начнут вторжение в Грецию. Затем путем уговоров, обещаний, подкупа и т.д. — то есть всего традиционного арсенала международной дипломатии — Ксеркс добился поддержки аристократических полисов (городов-государств) Фессалии и Беотии, а также нейтралитета со стороны Аргоса.
Несмотря на одержанную десятилетием раньше победу при Марафоне, греки все еще уважали военную мощь Персии и были откровенно встревожены приготовлениями Ксеркса. Следствием этой тревоги явилось создание в 481 году до Р.Х. военно-оборонительного союза во главе со Спартой, в состав которого вошло тридцать одно эллинское государство. Правда, по-настоящему единого антиперсидского объединения сформировать так и не удалось — с одной стороны, вследствие успехов дипломатии Ксеркса, с другой — из-за традиционной разобщенности самих греков.
На следующий год персидский экспедиционный корпус пересек Геллеспонт и направился сперва на запад — вдоль берегов Фракии и Македонии, а затем на юг, в Фессалию. Командовал войском Мардоний — зять Дария I, искусный и многоопытный полководец и дипломат, возглавлявший армию вторжения еще в предыдущее царствование. Персидский флот держался рядом, прибрежными водами следуя за воинством Мардония [368].
Согласно эллинскому стратегическому плану, первым оборонительным рубежом должен был послужить узкий вход Темпейской долины в Северной Фессалии, и даже выслали туда десятитысячный отряд. Однако некоторые фессалийские полисы уже перешли на сторону персов, которых считали непобедимыми, и союзники резонно опасались, что их примеру последуют остальные тамошние государства. В результате Северная Греция была оставлена без боя, тем более что оборона проходов, расположенных южнее горы Олимп, требовала слишком многочисленной армии.
Следующим сухопутным рубежом являлось дефиле у Фермопил. Подле Западных и Средних его ворот Теснина, вероятно (сегодня вследствие изменений рельефа об этом трудно судить), достигала лишь нескольких метров в ширину и представляла собой идеальную естественную позицию, где даже малый отряд решительных тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов мог бесконечно долго удерживать любое число наступающих. Судя по итогам археологических раскопок 1938—1939 годов, там имелись и достаточно мощные фортификационные сооружения (стена и башни), в преддверии сражения срочно отремонтированные и усиленные [369].
К Фермопилам выступил спартанский царь Леонид I во главе отряда из 7000 гоплитов и 2000 лучников (замечу, что за исключением трехсот царских телохранителей, спартанцев среди них не было). Тот факт, что пелопонесские государства не направили для обороны Фермопил большего числа войск, свидетельствует об их неохотном согласии вести какую-либо оборону севернее Коринфа.
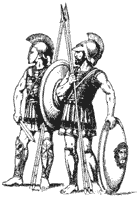
Одновременно соединенный эллинский флот — около 330 трирем — занял позицию в узком проливе у мыса Артемисий, что на северо-восточной оконечности острова Эвбея, перекрывая персам единственный удобный морской путь вторжения в Центральную Грецию. Номинальным командиром являлся спартанец Эврибиад, хотя решающим голосом на военном совете располагал афинянин Фемистокл, возглавлявший едва ли не две трети всех эллинских военно-морских сил. Когда в конце августа 480 года до Р.Х. персидский флот приблизился к Эвбее, вмешались силы стихии: жестокий шторм нанес ему существенный урон, отчего грозная армада утратила едва ли не половину боевой мощи. Греки — частично ввиду большей защищенности своих кораблей в укрытой бухте, отчасти в силу лучших мореходных качеств эллинских трирем — пострадали куда менее серьезно.
Надо сказать, конфликт у мыса Артемисий не относился к числу решающих — в двух столкновениях, последовавших одно за другим на протяжении двух дней, обе стороны понесли весьма незначительные потери. На третий день греки были готовы к более решительному сражению, однако, получив неутешительные известия из-под Фермопил, поспешили к Афинам — вернее, к расположенному рядом с ними острову Саламин.
Легенда о Леониде

Хотя битва у Фермопил, как и морское сражение у мыса Артемисий, преследовала весьма ограниченные цели — проверить боеспособность персов, одновременно сплотив совместными военными действиями собственные сводные войска, — царь Леонид I приготовился к обороне продуманно и тщательно.
С главными силами, насчитывавшими около 6000 человек, он удерживал Средние ворота, а тысячный отряд и значительную часть лучников разместил на склоне расположенной на левом фланге горы, чтобы перекрыть тропу, ведшую в обход дефиле. Как он и ожидал, персы попытались форсировать проход, но греки отразили атаку. Ксеркс негодовал, однако все было тщетно. Сложилась парадоксальная ситуация: самая подготовленная и многочисленная армия мира оказалась бессильна против горстки эллинов. Дошло до того, что устрашенные героизмом эллинов персидские воины отказались идти в очередную атаку, и по приказу взбешенного Ксеркса их погнали вперед бичами. В конце концов персидский царь оказался вынужден использовать свою не знающую поражений гвардию — десятитысячный отряд личных телохранителей, «бессмертных». Их, надо сказать, вводили в бой лишь в самых исключительных случаях. Но и те бесславно откатились от греческих позиций.

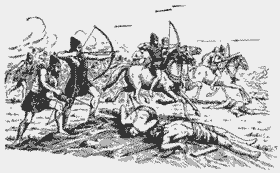
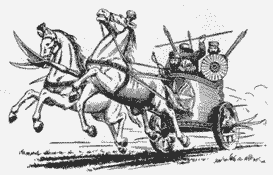
Так продолжалось три дня, после чего предатель, грек-фессалиец по имени Эфиальт, рассказал персам о тропе, ведущей в тыл обороняющимся в обход Фермопил. Ксеркс немедленно направил туда «бессмертных», и те внезапной атакой смели греческое охранение. Хотя Леонид и отрядил 4500 человек, чтобы предотвратить окружение, однако они опоздали и были разгромлены «бессмертными».
Считая дальнейшую оборону бессмысленной и стремясь спасти большую часть отряда, Леонид приказал им отступить на соединение с главными эллинскими силами, сосредоточенными в это время за укреплениями на Коринфском перешейке. Сам же во главе трехсот личных телохранителей принял последний бой, продолжавшийся, покуда спартанцы не полегли до единого, смертью своей показав Ксерксу, сколь доблестных воинов встретит он на земле Эллады.
Героическая гибель защитников Фермопил вошла в мировую историю как символ беззаветной верности воинскому долгу. Воздавая должное противнику, рыцарственные персы погребли павших со всеми подобающими героям почестями. Впоследствии над их могилой был воздвигнут памятник в виде сидящего льва (ведь Леонид означает Львинородный), а на постаменте высечена эпитафия, сочиненная знаменитым поэтом Симонидом Кеосским и начинающаяся словами:
Преданные забвению
В защиту Эфиальта и Плутарха
Дипломатические интриги были куда сложнее и разнообразнее. Прежде всего, чтобы не допустить помощи греческим государствам со стороны их богатых колоний в Сицилии, Ксеркс заключил договор с Карфагеном, согласившимся напасть на Сицилию, когда персы начнут вторжение в Грецию. Затем путем уговоров, обещаний, подкупа и т.д. — то есть всего традиционного арсенала международной дипломатии — Ксеркс добился поддержки аристократических полисов (городов-государств) Фессалии и Беотии, а также нейтралитета со стороны Аргоса.
Несмотря на одержанную десятилетием раньше победу при Марафоне, греки все еще уважали военную мощь Персии и были откровенно встревожены приготовлениями Ксеркса. Следствием этой тревоги явилось создание в 481 году до Р.Х. военно-оборонительного союза во главе со Спартой, в состав которого вошло тридцать одно эллинское государство. Правда, по-настоящему единого антиперсидского объединения сформировать так и не удалось — с одной стороны, вследствие успехов дипломатии Ксеркса, с другой — из-за традиционной разобщенности самих греков.
На следующий год персидский экспедиционный корпус пересек Геллеспонт и направился сперва на запад — вдоль берегов Фракии и Македонии, а затем на юг, в Фессалию. Командовал войском Мардоний — зять Дария I, искусный и многоопытный полководец и дипломат, возглавлявший армию вторжения еще в предыдущее царствование. Персидский флот держался рядом, прибрежными водами следуя за воинством Мардония [368].
Согласно эллинскому стратегическому плану, первым оборонительным рубежом должен был послужить узкий вход Темпейской долины в Северной Фессалии, и даже выслали туда десятитысячный отряд. Однако некоторые фессалийские полисы уже перешли на сторону персов, которых считали непобедимыми, и союзники резонно опасались, что их примеру последуют остальные тамошние государства. В результате Северная Греция была оставлена без боя, тем более что оборона проходов, расположенных южнее горы Олимп, требовала слишком многочисленной армии.
Следующим сухопутным рубежом являлось дефиле у Фермопил. Подле Западных и Средних его ворот Теснина, вероятно (сегодня вследствие изменений рельефа об этом трудно судить), достигала лишь нескольких метров в ширину и представляла собой идеальную естественную позицию, где даже малый отряд решительных тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов мог бесконечно долго удерживать любое число наступающих. Судя по итогам археологических раскопок 1938—1939 годов, там имелись и достаточно мощные фортификационные сооружения (стена и башни), в преддверии сражения срочно отремонтированные и усиленные [369].
К Фермопилам выступил спартанский царь Леонид I во главе отряда из 7000 гоплитов и 2000 лучников (замечу, что за исключением трехсот царских телохранителей, спартанцев среди них не было). Тот факт, что пелопонесские государства не направили для обороны Фермопил большего числа войск, свидетельствует об их неохотном согласии вести какую-либо оборону севернее Коринфа.
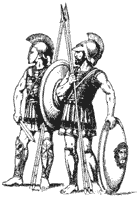
Спартанские гоплиты
Одновременно соединенный эллинский флот — около 330 трирем — занял позицию в узком проливе у мыса Артемисий, что на северо-восточной оконечности острова Эвбея, перекрывая персам единственный удобный морской путь вторжения в Центральную Грецию. Номинальным командиром являлся спартанец Эврибиад, хотя решающим голосом на военном совете располагал афинянин Фемистокл, возглавлявший едва ли не две трети всех эллинских военно-морских сил. Когда в конце августа 480 года до Р.Х. персидский флот приблизился к Эвбее, вмешались силы стихии: жестокий шторм нанес ему существенный урон, отчего грозная армада утратила едва ли не половину боевой мощи. Греки — частично ввиду большей защищенности своих кораблей в укрытой бухте, отчасти в силу лучших мореходных качеств эллинских трирем — пострадали куда менее серьезно.
Надо сказать, конфликт у мыса Артемисий не относился к числу решающих — в двух столкновениях, последовавших одно за другим на протяжении двух дней, обе стороны понесли весьма незначительные потери. На третий день греки были готовы к более решительному сражению, однако, получив неутешительные известия из-под Фермопил, поспешили к Афинам — вернее, к расположенному рядом с ними острову Саламин.
Легенда о Леониде

Спартанский царь Леонид I.
Деталь скульптуры V в. до Р.Х..
Хотя битва у Фермопил, как и морское сражение у мыса Артемисий, преследовала весьма ограниченные цели — проверить боеспособность персов, одновременно сплотив совместными военными действиями собственные сводные войска, — царь Леонид I приготовился к обороне продуманно и тщательно.
С главными силами, насчитывавшими около 6000 человек, он удерживал Средние ворота, а тысячный отряд и значительную часть лучников разместил на склоне расположенной на левом фланге горы, чтобы перекрыть тропу, ведшую в обход дефиле. Как он и ожидал, персы попытались форсировать проход, но греки отразили атаку. Ксеркс негодовал, однако все было тщетно. Сложилась парадоксальная ситуация: самая подготовленная и многочисленная армия мира оказалась бессильна против горстки эллинов. Дошло до того, что устрашенные героизмом эллинов персидские воины отказались идти в очередную атаку, и по приказу взбешенного Ксеркса их погнали вперед бичами. В конце концов персидский царь оказался вынужден использовать свою не знающую поражений гвардию — десятитысячный отряд личных телохранителей, «бессмертных». Их, надо сказать, вводили в бой лишь в самых исключительных случаях. Но и те бесславно откатились от греческих позиций.

«Бессмертные» — личная гвардия царя Ксеркса
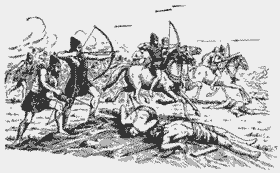
Персидские лучники — конные и пешие
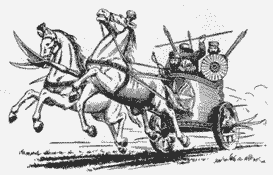
Персидская боевая колесница
Так продолжалось три дня, после чего предатель, грек-фессалиец по имени Эфиальт, рассказал персам о тропе, ведущей в тыл обороняющимся в обход Фермопил. Ксеркс немедленно направил туда «бессмертных», и те внезапной атакой смели греческое охранение. Хотя Леонид и отрядил 4500 человек, чтобы предотвратить окружение, однако они опоздали и были разгромлены «бессмертными».
Считая дальнейшую оборону бессмысленной и стремясь спасти большую часть отряда, Леонид приказал им отступить на соединение с главными эллинскими силами, сосредоточенными в это время за укреплениями на Коринфском перешейке. Сам же во главе трехсот личных телохранителей принял последний бой, продолжавшийся, покуда спартанцы не полегли до единого, смертью своей показав Ксерксу, сколь доблестных воинов встретит он на земле Эллады.
Героическая гибель защитников Фермопил вошла в мировую историю как символ беззаветной верности воинскому долгу. Воздавая должное противнику, рыцарственные персы погребли павших со всеми подобающими героям почестями. Впоследствии над их могилой был воздвигнут памятник в виде сидящего льва (ведь Леонид означает Львинородный), а на постаменте высечена эпитафия, сочиненная знаменитым поэтом Симонидом Кеосским и начинающаяся словами:
Такова легенда, с которой вы можете познакомиться, заглянув в любой учебник и даже почти во всякий куда более серьезный исторический труд. В общем и целом это правда — только, увы, не вся…
Спутник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона [370]:
Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг.
Преданные забвению
Правда же заключается в следующем.
Для начала займемся арифметикой. В совокупности под командованием Леонида I, как вы помните, находилось около 9000 человек. Усиленное отрядом лучников тысячное охранение он разместил на левофланговом горном склоне — оно было истреблено «бессмертными» поголовно. Из числа направленного туда подкрепления (4500 человек) около половины вернулось к основным силам. Следовательно, к моменту последнего героического сражения под рукой Леонида I пребывало несколько больше 5000 воинов. Около 2000 ушли по приказу спартанского царя на юг, чтобы на укреплениях Коринфского перешейка соединиться с союзными эллинскими войсками. Однако отряды опунтского, феспийского и фиванского ополчений общей численностью около 2000 человек остались у Фермопил и приняли бой и смерть плечом к плечу со спартанцами [371]. По сравнению с более чем стотысячным воинством Ксеркса, стоявшим у Фермопил, что 300 человек, что 2300 [372] — разница, прямо скажем, невелика. А вот по отношению к памяти павших…
Триста спартанцев вошли в легенду на века. А тысяча павших в боевом охранении на горном склоне, две тысячи из числа шедших им на выручку, две тысячи лучников и две тысячи ополченцев из Опунта, Фив и Феспия — всех их под Фермопилами словно и не было. Но, собственно, почему?
«Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона…» — говорится в эпитафии Симонида. Следовательно, слова обращены исключительно к спартанцам, и это многое объясняет.

Еще со времен не то легендарного, не то вовсе мифического Ликурга, сформулировавшего свод спартанских законов примерно за четыре столетия до описываемых событий, Спарта стала до предела милитаризированным обществом, постоянно поддерживаемым в боевой готовности. С младых ногтей всякий лакедемонянин преследовал единственную цель — воинскую службу: государство было армией, и армия была государством. Следствием этого явилось появление лучших в Греции солдат, а также лучшей, может быть, на всем протяжении мировой истории (для своих численности и времени) маленькой армии. По структуре, вооружению или тактике спартанская армия не слишком отличалась от войск других греческих городов-государств; ее составляли преимущественно пехотинцы-копьеносцы в защитном вооружении, набираемые из свободнорожденных граждан высшего и среднего классов. Принципиальными отличиями были более совершенное индивидуальное воинское мастерство, значительно более высокая организация, более строгий порядок, маневренность отдельных соединений и железная дисциплина, прославившая спартанцев на всю Грецию. Но главное — в спартанцах с младых ногтей воспитывался шовинизм, позволивший в наши дни французскому историку культуры Анри Боннару применительно к Спарте говорить в «Греческой цивилизации» об «античном фашизме». В собственных глазах лакедемоняне были единственными полноценными людьми, тогда как все прочие — так, получеловеками. И потому среди героев Фермопил для них имели значение только Леонид с его телохранителями — остальные не в счет.
Симонид Кеосский (556—468 гг. до Р.Х.) был первым в античной истории профессиональным поэтом, претворявшим в жизнь принцип, согласно которому торговать вдохновением, может, и грешно, а вот рукописями — отнюдь не зазорно. Он писал на заказ, зарабатывая тем (и замечу, весьма неплохо) средства к существованию. Вот и эту эпитафию — общепризнанно одну из лучших — он писал по спартанскому заказу, отсюда и «Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона». Правда, будучи внутренне честен, Симонид вопреки древнегреческой любви к точности ни словом не обмолвился о трехстах героях: «Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг». Его «мы» включает всех, а не только лакедемонян. Тем более что он прекрасно понимал: в некотором отношении подвиг фиванцев и феспийцев даже выше спартанского.
Дело в том, что спартанская военная доктрина вообще не предусматривала такого понятия, как отступление. Подобно тому, как двумя с половиной тысячелетиями позже маршал Сталин заявлял, что «у нас нет военно-пленных — только предатели родины», для лакедемонян не существовало отступивших — тоже только предатели. А предательство каралось смертью — других наказаний Спарта попросту не знала. Не случайно в другом переводе Симонидовой эпитафии говорится: «…в могиле лежим, честно закон соблюдя». Кстати, в значительной мере именно эта тактическая негибкость и не позволила Спарте возобладать над всеми прочими греческими полисами; но это уже a propos… Так или иначе, воины Леонида не отступили, ибо не имели на это права. А вот союзники их этим правом обладали. Более того, Леонид прямо приказал им уходить, но они отказались, сознательно обрекая себя на гибель. Не профессиональные солдаты, но воины-ополченцы, они и здесь выбрали свою участь добровольно.
Правда, благодарное отечество им тоже воздвигло памятник. Там же, под Фермопилами, были установлены пять (по числу городов, откуда прибыли сюда ополченцы) каменных стел — как пишет Страбон [373], «столбов на месте погребения многих героев». Несколько Бог весть кем сочиненных слов, высеченных на одной из этих стел, дошли до нас, поскольку были процитированы античным автором:
Для начала займемся арифметикой. В совокупности под командованием Леонида I, как вы помните, находилось около 9000 человек. Усиленное отрядом лучников тысячное охранение он разместил на левофланговом горном склоне — оно было истреблено «бессмертными» поголовно. Из числа направленного туда подкрепления (4500 человек) около половины вернулось к основным силам. Следовательно, к моменту последнего героического сражения под рукой Леонида I пребывало несколько больше 5000 воинов. Около 2000 ушли по приказу спартанского царя на юг, чтобы на укреплениях Коринфского перешейка соединиться с союзными эллинскими войсками. Однако отряды опунтского, феспийского и фиванского ополчений общей численностью около 2000 человек остались у Фермопил и приняли бой и смерть плечом к плечу со спартанцами [371]. По сравнению с более чем стотысячным воинством Ксеркса, стоявшим у Фермопил, что 300 человек, что 2300 [372] — разница, прямо скажем, невелика. А вот по отношению к памяти павших…
Триста спартанцев вошли в легенду на века. А тысяча павших в боевом охранении на горном склоне, две тысячи из числа шедших им на выручку, две тысячи лучников и две тысячи ополченцев из Опунта, Фив и Феспия — всех их под Фермопилами словно и не было. Но, собственно, почему?
«Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона…» — говорится в эпитафии Симонида. Следовательно, слова обращены исключительно к спартанцам, и это многое объясняет.

Современный мемориал неподалеку от Фермопил.
На переднем плане — фигура царя Леонида
Еще со времен не то легендарного, не то вовсе мифического Ликурга, сформулировавшего свод спартанских законов примерно за четыре столетия до описываемых событий, Спарта стала до предела милитаризированным обществом, постоянно поддерживаемым в боевой готовности. С младых ногтей всякий лакедемонянин преследовал единственную цель — воинскую службу: государство было армией, и армия была государством. Следствием этого явилось появление лучших в Греции солдат, а также лучшей, может быть, на всем протяжении мировой истории (для своих численности и времени) маленькой армии. По структуре, вооружению или тактике спартанская армия не слишком отличалась от войск других греческих городов-государств; ее составляли преимущественно пехотинцы-копьеносцы в защитном вооружении, набираемые из свободнорожденных граждан высшего и среднего классов. Принципиальными отличиями были более совершенное индивидуальное воинское мастерство, значительно более высокая организация, более строгий порядок, маневренность отдельных соединений и железная дисциплина, прославившая спартанцев на всю Грецию. Но главное — в спартанцах с младых ногтей воспитывался шовинизм, позволивший в наши дни французскому историку культуры Анри Боннару применительно к Спарте говорить в «Греческой цивилизации» об «античном фашизме». В собственных глазах лакедемоняне были единственными полноценными людьми, тогда как все прочие — так, получеловеками. И потому среди героев Фермопил для них имели значение только Леонид с его телохранителями — остальные не в счет.
Симонид Кеосский (556—468 гг. до Р.Х.) был первым в античной истории профессиональным поэтом, претворявшим в жизнь принцип, согласно которому торговать вдохновением, может, и грешно, а вот рукописями — отнюдь не зазорно. Он писал на заказ, зарабатывая тем (и замечу, весьма неплохо) средства к существованию. Вот и эту эпитафию — общепризнанно одну из лучших — он писал по спартанскому заказу, отсюда и «Путник, коль сможешь, поведай всем гражданам Лакедемона». Правда, будучи внутренне честен, Симонид вопреки древнегреческой любви к точности ни словом не обмолвился о трехстах героях: «Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг». Его «мы» включает всех, а не только лакедемонян. Тем более что он прекрасно понимал: в некотором отношении подвиг фиванцев и феспийцев даже выше спартанского.
Дело в том, что спартанская военная доктрина вообще не предусматривала такого понятия, как отступление. Подобно тому, как двумя с половиной тысячелетиями позже маршал Сталин заявлял, что «у нас нет военно-пленных — только предатели родины», для лакедемонян не существовало отступивших — тоже только предатели. А предательство каралось смертью — других наказаний Спарта попросту не знала. Не случайно в другом переводе Симонидовой эпитафии говорится: «…в могиле лежим, честно закон соблюдя». Кстати, в значительной мере именно эта тактическая негибкость и не позволила Спарте возобладать над всеми прочими греческими полисами; но это уже a propos… Так или иначе, воины Леонида не отступили, ибо не имели на это права. А вот союзники их этим правом обладали. Более того, Леонид прямо приказал им уходить, но они отказались, сознательно обрекая себя на гибель. Не профессиональные солдаты, но воины-ополченцы, они и здесь выбрали свою участь добровольно.
Правда, благодарное отечество им тоже воздвигло памятник. Там же, под Фермопилами, были установлены пять (по числу городов, откуда прибыли сюда ополченцы) каменных стел — как пишет Страбон [373], «столбов на месте погребения многих героев». Несколько Бог весть кем сочиненных слов, высеченных на одной из этих стел, дошли до нас, поскольку были процитированы античным автором:
Увы, папирус оказался долговечнее камня: Фермопилы исчезли под наносами Сперхея, с ними исчезли и эти стелы, а вслед за ними мало-помалу стерлась и память [375].
Плачет о сих от персидской руки за Элладу погибших
Мать городов локриян [374], мудрозаконный Опунт.
В защиту Эфиальта и Плутарха
Начнем с последнего, понимая под этим именем не только его самого, но и античных историков вообще. Ведь они прекрасно знали, как обстояло дело, — так неужели же в их сердца не стучал прах неправедно забытых героев? Наверное, стучал — только звук этот заглушался иным, более настойчивым и громким.
Дело в том, что в тогдашнем представлении (как, впрочем, в гораздо более поздние времена и в представлении древнерусских летописцев, например) историк не может быть просто скрупулезным хронистом, бесстрастно описывающим ход событий, перечисляющим исключительно факты и даты. Всякая история — непременный нравственный урок ныне живущим, сотворение для них зримых символов добра и зла.
Если разобраться, то сражения при Фермопилах и у мыса Артемисий стратегически ровным счетом ничего не решали. Да, персидскую армию удалось задержать на четыре дня. Но что от этого изменилось? Это ведь не «чудо под Москвой» времен Великой Отечественной войны, когда сопротивление из последних сил, даже сверх всяких мыслимых сил, позволило дождаться прибытия сибирских дивизий и перейти в контрнаступление. Не было в ходе кампании 480 года до Р.Х. ничего подобного! Весь героизм защитников Фермопил не мог помешать Ксерксу всего лишь месяц спустя оккупировать Афины. Причем, как отмечают в своей «Всемирной истории войн» Эрнест и Тревор Дюпюи, «армия Ксеркса, понесшая пока мало потерь, была к тому же усилена контингентами из Фив и других северных греческих государств. Персидский флот, вероятно, все еще насчитывал более 700 боевых кораблей — вдвое больше числа греческих трирем». Окончательно решили судьбу войны морское сражение у Саламина [376] и битва при Платеях [377].
Но не одной стратегией исчерпывается значение. Фермопилы послужили образцом высшего героизма, нравственным примером, символом, под которым могли объединиться разношерстые эллинские войска. И с этой точки зрения триста спартанцев — горстка против неодолимой силы — символ куда более яркий, нежели трехтысячный сводный отряд. Конечно, еще и грозных лакедемонян дразнить не хотелось: раз уж считают, что одни воевали и приносили жертвы на алтарь победы, пусть их… Впрочем, последнее соображение было сугубо побочным, а не определяющим.
Зато Эфиальту — тому фессалийцу, что показал персам горную тропу в обход Фермопил, — недобрая слава досталась благодаря этому нравственному подходу совершенно облыжно. Историки, начиная с Плутарха, дружно клеймят его предателем и перебежчиком. Оно и понятно: нравственная правда в Греко-персидских войнах была за эллинами, отстаивавшими свои земли от вторгшихся полчищ Дария и Ксеркса, а раз так — всякий, все кто персам споспешествовал, суть изменники и предатели. Замечу, через полтора с небольшим столетия эта шкала ценностей дивным образом вывернулась наизнанку — когда уже не персы пришли в Грецию, а греки под командованием Александра Македонского отправились крушить Персию и покорять мир. Увы, исторически сложилось так, что о греко-персидских войнах мы знаем только с одной, эллинской стороны: персидских текстов до нас не дошло. А дошли бы — подозреваю, взгляд с другой стороны показался бы не менее убедительным, и мы сегодня сочувствовали бы Дарию и Ксерксу не меньше, нежели Александру, чья слава не увядает по сей день и разошлась куда шире пределов некогда завоеванной им ойкумены и основанной на ее просторах эфемерной империи, рухнувшей сразу вслед за смертью своего творца.
Но вернемся к нашему Эфиальту. Предательство, замечу, применительно к военной ситуации может пониматься лишь как измена присяге. Эфиальт же в этом никоим образом не повинен. Персы потому и не встретили в Фессалии никакого сопротивления, что тамошние греческие города-государства держали в конфликте сторону Ксеркса. И значит, фессалиец Эфиальт, принадлежа к числу проперсидски настроенных греков, не перебегал к противнику, а изначально принадлежал к его стану. Это, согласитесь, совсем иное дело. Весь мировой опыт феодальных и гражданских войн гласит, что в них речь идет в первую очередь не о предательстве, а о расколе, ведущем к братоубийству. Так что, выходит, все обвинения в адрес Эфиальта несправедливы.
Впрочем, так случается всякий раз, когда из каких-то высших (и даже воистину благородных) соображений история подменяется мифом. Миф обладает живучестью, о какой не может и помыслить знание, интересуют же его лишь идеи и судьбы народов, тогда как людские с легкостью приносятся им в жертву нравственному уроку. И сколько бы ни покушались на миф те, в чьи сердца стучит пепел Клааса, их усилиям никогда не изменить ни единой строчки учебника истории. Да что там учебники — они по определению отличаются (и должны отличаться) завидным консерватизмом! Но ведь и художественная литература идет след в след. И кинематограф. Вот, например, в 1962 году режиссером Рудольфом Мэйтом был поставлен один из лучших голливудских исторических фильмов с Ричардом Игеном, Ральфом Ричардсоном, Дианой Бейкер и Барри Коу в ролях, подводящий своеобразный итог эпохе исторических сверхпроектов в американском кино. Назывался он без лишних изысков: «Триста спартанцев». И что же? В очередной раз зрителям была впечатляюще явлена все та же каноническая легенда о Леониде, не более.
Дело в том, что в тогдашнем представлении (как, впрочем, в гораздо более поздние времена и в представлении древнерусских летописцев, например) историк не может быть просто скрупулезным хронистом, бесстрастно описывающим ход событий, перечисляющим исключительно факты и даты. Всякая история — непременный нравственный урок ныне живущим, сотворение для них зримых символов добра и зла.
Если разобраться, то сражения при Фермопилах и у мыса Артемисий стратегически ровным счетом ничего не решали. Да, персидскую армию удалось задержать на четыре дня. Но что от этого изменилось? Это ведь не «чудо под Москвой» времен Великой Отечественной войны, когда сопротивление из последних сил, даже сверх всяких мыслимых сил, позволило дождаться прибытия сибирских дивизий и перейти в контрнаступление. Не было в ходе кампании 480 года до Р.Х. ничего подобного! Весь героизм защитников Фермопил не мог помешать Ксерксу всего лишь месяц спустя оккупировать Афины. Причем, как отмечают в своей «Всемирной истории войн» Эрнест и Тревор Дюпюи, «армия Ксеркса, понесшая пока мало потерь, была к тому же усилена контингентами из Фив и других северных греческих государств. Персидский флот, вероятно, все еще насчитывал более 700 боевых кораблей — вдвое больше числа греческих трирем». Окончательно решили судьбу войны морское сражение у Саламина [376] и битва при Платеях [377].
Но не одной стратегией исчерпывается значение. Фермопилы послужили образцом высшего героизма, нравственным примером, символом, под которым могли объединиться разношерстые эллинские войска. И с этой точки зрения триста спартанцев — горстка против неодолимой силы — символ куда более яркий, нежели трехтысячный сводный отряд. Конечно, еще и грозных лакедемонян дразнить не хотелось: раз уж считают, что одни воевали и приносили жертвы на алтарь победы, пусть их… Впрочем, последнее соображение было сугубо побочным, а не определяющим.
Зато Эфиальту — тому фессалийцу, что показал персам горную тропу в обход Фермопил, — недобрая слава досталась благодаря этому нравственному подходу совершенно облыжно. Историки, начиная с Плутарха, дружно клеймят его предателем и перебежчиком. Оно и понятно: нравственная правда в Греко-персидских войнах была за эллинами, отстаивавшими свои земли от вторгшихся полчищ Дария и Ксеркса, а раз так — всякий, все кто персам споспешествовал, суть изменники и предатели. Замечу, через полтора с небольшим столетия эта шкала ценностей дивным образом вывернулась наизнанку — когда уже не персы пришли в Грецию, а греки под командованием Александра Македонского отправились крушить Персию и покорять мир. Увы, исторически сложилось так, что о греко-персидских войнах мы знаем только с одной, эллинской стороны: персидских текстов до нас не дошло. А дошли бы — подозреваю, взгляд с другой стороны показался бы не менее убедительным, и мы сегодня сочувствовали бы Дарию и Ксерксу не меньше, нежели Александру, чья слава не увядает по сей день и разошлась куда шире пределов некогда завоеванной им ойкумены и основанной на ее просторах эфемерной империи, рухнувшей сразу вслед за смертью своего творца.
Но вернемся к нашему Эфиальту. Предательство, замечу, применительно к военной ситуации может пониматься лишь как измена присяге. Эфиальт же в этом никоим образом не повинен. Персы потому и не встретили в Фессалии никакого сопротивления, что тамошние греческие города-государства держали в конфликте сторону Ксеркса. И значит, фессалиец Эфиальт, принадлежа к числу проперсидски настроенных греков, не перебегал к противнику, а изначально принадлежал к его стану. Это, согласитесь, совсем иное дело. Весь мировой опыт феодальных и гражданских войн гласит, что в них речь идет в первую очередь не о предательстве, а о расколе, ведущем к братоубийству. Так что, выходит, все обвинения в адрес Эфиальта несправедливы.
Впрочем, так случается всякий раз, когда из каких-то высших (и даже воистину благородных) соображений история подменяется мифом. Миф обладает живучестью, о какой не может и помыслить знание, интересуют же его лишь идеи и судьбы народов, тогда как людские с легкостью приносятся им в жертву нравственному уроку. И сколько бы ни покушались на миф те, в чьи сердца стучит пепел Клааса, их усилиям никогда не изменить ни единой строчки учебника истории. Да что там учебники — они по определению отличаются (и должны отличаться) завидным консерватизмом! Но ведь и художественная литература идет след в след. И кинематограф. Вот, например, в 1962 году режиссером Рудольфом Мэйтом был поставлен один из лучших голливудских исторических фильмов с Ричардом Игеном, Ральфом Ричардсоном, Дианой Бейкер и Барри Коу в ролях, подводящий своеобразный итог эпохе исторических сверхпроектов в американском кино. Назывался он без лишних изысков: «Триста спартанцев». И что же? В очередной раз зрителям была впечатляюще явлена все та же каноническая легенда о Леониде, не более.
