Страница:

Мне все равно - я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Да, вся поэма написана «Онегинской строфой» - ямбом с особой, только пушкинскому «роману в стихах» свойственной рифмовкой. Но Лермонтов сам об этом весело оповещает - он рад подражать Пушкину, своему кумиру.
Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
Московский, а другой Берлин.
Ну и конечно - скука: в те времена принято было, чтобы поэты в стихах непременно жаловались на скуку жизни (и не в маленьком городке, а в губернском городе Тамбове и в великосветском Петербурге):
Но скука, скука, Боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.
Но вот все оживилось - в Тамбове должен зимовать уланский полк! Девицы и дамы только и любуются посадкой кавалеристов - усатых уланов и молодых корнетов, поселившихся в городской гостинице.
Против гостиницы Московской,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковский,
Губернский старый казначей.
Описывается его старый дом -
Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил, как с собственной казной.
Только не подумайте, что был казнокрадом! Бывало, конечно, и такое, но уж не поголовно; вообще-то брали расписку- и с казначеев, и - с членов их семьи!- что не тронут казенные деньги и не будут отдавать их в рост…
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была его охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
А жена его - молода и привлекательна:
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой полной груди:
Бела, как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Долго ли, коротко ли, хоть и через окно, но между нею и одним уланом назревают нежные отношения. И уже супруг застает его перед ней на коленях. Но вместо вызова на дуэль присылает. приглашение на игру в карты - на вистик(вист - это сложная карточная игра на деньги - в ней нужны обычно четыре партнера). Идет игра. Казначею не везет.
Он взбесился
И проиграл свой старый дом,
И все, что в нем или при нем.
Но остановиться, естественно, не может - на то и игрок.
Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче - всё, всё дочиста.
Он просит у гостей вниманья.
И просит важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье,
Иль «проиграть уж и жену».
О страх! о ужас! о злодейство!
И как доныне казначейство
Еще терпеть его могло!
Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад, -
Он говорит, - пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только чур не плутовать,
Иначе вам не сдобровать!»
Нет места для передачи всей этой сцены, описанной Лермонтовым, -
…И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах [4] в уголке.
Ну, словом, казначей проиграл улану обещанное. И дальнейшее я с давних пор люблю в этой поэме больше всего:
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчанье подошла -
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа. Все ждут чего-нибудь -
Упреков, жалоб, слез. Ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо -
И в обморок.

3 В восьмом классе - то есть в 13-14 лет - я сходила с ума (как и положено) от его любовных стихов. В моей тетрадке тех лет их выписано немало. Почему-то переписывать своей рукой волнующие строки очень хотелось. И на большой перемене у моей последней парты собиралось восемь-десять любительниц стихов, и я читала («с выражением») иногда по несколько строф из стихотворения, иногда - только одну строфу (я выписывала с разбором!..):
Я не унижусь пред тобою.
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою,
Знай, мы чужие с этих пор!
Иногда это было длинное стихотворение, которое девочки слушали не дыша:
Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? - ничего!
Что помню вас? - но, Боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Ах, как трогали нас, четырнадцатилетних, эти горестные и горькие строки! Через несколько лет, уже на филологическом факультете того самого Московского университета, в котором учился и Лермонтов, я узнала, что стихотворение обращено было к Вареньке Лопухиной, тогда уже Бахметевой. Четыре года после их встречи и взаимной влюбленности она ждала от Лермонтова каких-либо шагов. И, не дождавшись, вышла в двадцать лет (тогда это был едва ли не предельный возраст для барышни на выданье)за немолодого и, видимо, безразличного ей Бахметева. Лермонтов горевал; посвятил ей немало стихотворений, рисовал ее портреты - карандашом и акварелью. «Валерик» написан на Кавказе, куда офицер Лермонтов был выслан, именно в том 1840 году, когда он был прямым участником боевых действий. Стихотворение написано через пять лет после замужества Лопухиной; у нее была уже трех- или четырехлетняя дочь.

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? -
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..
Повторю - это надо читать до 16 лет! Позже уже такне взволнует. А чем же, собственно, надеялся поэт развеселить адресатку?
В этом же стихотворении он рассказывает о жестоком бое с чеченцами у реки Валерик (с ударением на последнем слоге) - эпизоде той бесконечно долгой (семидесятилетней) войны, которую вела Россия в XIX веке на Северном Кавказе. В те школьные годы эта, серединная часть длинного стихотворения читалась девочками невнимательно (не знаю про мальчиков). Сегодня мимо нее не пройдешь.
…Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам.
«При Ермолове» - значит, довольно давно. Генерал А. П. Ермолов был назначен главнокомандующим на Кавказ в 1815 году и через три года уже приступил к своему плану покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа - что выражено у Пушкина в двух строках «Кавказского пленника»:
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

…Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
И Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем.
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он - зачем?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак [5] мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
- А сколько их дралось примерно
Сегодня? - Тысяч до семи.
- А много горцы потеряли?
- Как знать? - зачем вы не считали?
«Да! Будет, - кто-то тут сказал, -
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.
Тут хочешь не хочешь, а согласишься с Белинским - он именно по поводу этого стихотворения сказал, что одна из замечательных черт таланта Лермонтова «заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении приукрашивать их».
ПРО СМЕШНОЕ И ПРО ГРУСТНОЕ
1
Есть вещи, которые нужно знать, потому что нельзя не знать.
Вот идете вы с приятелями куда-нибудь - скажем, в театр, а с вами некоторое количество родителей. Образованных. Закончивших что-нибудь качественное, да к тому же гуманитарное.
И идет навстречу какая-нибудь мама со своим сыном, который в десять лет уже такой толстый, что неизвестно, что же дальше-то будет. И вот ваша, скажем, мама говорит (потихоньку, конечно - не в лицо же!) маме вашего приятеля:
- Что же она его, бедного, так раскормила? Просто Гаргантюа!
Та понимающе, сочувственно к мальчику, кивает.
А вы думаете: «Ничего себе! Что это такое за гаргантюа еще?..»
Или, кто постарше, встречает в книгах слово «раблезианство», «раблезианский» - и не понимает значения. И в словарях, между прочим, не очень-то найдешь (проверено).
Хотя бы поэтому надо взять в руки и почитать роман Франсуа Рабле (по-французски пишется «Rabelais», отсюда и «раблезианский»: учитывается непроизносимое «с» на конце, а заодно и то, что у французов, если это «с» попадает между двумя гласными, то произносится как «з») под названием «Гаргантюа и Пантагрюэль». Тогда и станет все ясно, а заодно получите немало удовольствия.
2
Рабле жил и писал в первой половине ХУ1 века, в основном на родине, во Франции, но много бывал и в Италии, в Риме. В 16 лет его постригли в монахи, но потом он сбежал из монастыря - потому что там запрещено было что-либо изучать. А он мечтал знать как можно больше, что ему и удалось. Но все-таки много лет спустя, уже выучившись, кажется, всему на свете (сам читал уже лекции в университете) и став доктором медицины, он отправился в Рим просить у Римского Папы прощения за то, что сбежал из католического монастыря. Получив прощение (и уже напечатав свои веселые сочинения), стал священником - в Медоне, совсем недалеко от Парижа. Его называли «веселый медонский священник».
В общем, берите поскорей его книжку, тем более что она недавно вышла с иллюстрациями Гюстава Доре, - он тоже француз, но только уже Х!Х века. Это - лучший иллюстратор и Рабле, и «Божественной комедии» Данте, и «Дон Кихота» Сервантеса, и даже Библии. Без его черно-белых иллюстраций книгу Рабле просто не стоит брать в руки.
 (К слову сказать, такой совет совсем не к каждому художнику и не к каждому писателю относится. Гоголя, например, я советую вам читать безо всяких иллюстраций - только мешают. )
(К слову сказать, такой совет совсем не к каждому художнику и не к каждому писателю относится. Гоголя, например, я советую вам читать безо всяких иллюстраций - только мешают. )
Сначала вы почитаете про Гаргантюа. Про то, как и сколько он всего ел, что и сколько пил, какой был огромный и что творил. Непомерные плотские удовольствия, которым он предавался, и получили именование «раблезианства».
Потом пойдет речь про его сына Пантагрюэля - тоже, прямо сказать, не маленького: он высасывал по утрам молоко из 4 600 коров. Всего лишь.
А когда подрос - отправился на корабле в путешествие с друзьями и тут уж насмотрелся всего.
3
«На третий день плавания, на рассвете, мы увидали треугольный остров, очень похожий на Сицилию. Его называли островом Родственников. На этом острове все жители были в родстве друг с другом. Удивительно было также, что они никогда не называли друг друга „мой отец“, „моя дочь“, „моя мать“, как это всюду полагается. На острове Родственников жители носили странные клички.
- Здорово, Угорь, - приветствовал один из родственников другого родственника.
- Здорово, Морж, - отвечал тот.
- Как поживаешь, Письменный Стол? - спрашивал другой.
- Отлично, Скамейка, а как ты?.. »
Старый Сапог женился на молодой красивой Ботинке, а молодой Носок на старой Туфле. И так далее.
Насмотревшись на все это, они отправились дальше, и на следующий день приплыли к острову Ябедников!..
Там люди зарабатывали на жизнь тем, что давали себя бить.
А ябедниками их назвали потому, что они специально писали на людей жалобы, то есть «ябеды».
Раньше ябедойназывали клевету, напраслину, возведенную на человека. А людей, которые этим занимались, и называли ябедниками. Вот человека затаскают по судам, изведут, он выйдет из себя и изобьет ябедника палкой. А тогда его приговорят к штрафу в пользу побитого. «Ябедник после этого месяца на четыре разбогатеет и живет себе в полное удовольствие».
Узнав про такие чудные дела, один из путешественников, решив проверить, правда ли это, «вынул из кармана кошелек с червонцами и закричал громким голосом:
- Эй, кто хочет заработать золотой за хорошую потасовку?
- Я! Я! Я! - закричали ябедники. - Бейте нас, сударь, как вам угодно, только не скупитесь на денежки».
А когда выбрали одного здорового, краснорожего - то в толпе поднялся завистливый ропот. Особенно был недоволен один, высокий и худой.
«Что же это такое? - жаловался он. - Красная рожа отбивает у нас последних клиентов! Ведь из тридцати ударов двадцать восемь приходится на его долю. Опять мы останемся небитые!».
Один из путешественников все-таки отдубасил Красную Рожу, да так, что отбил себе правую руку. «После этого он дал ябеднику золотой, и вот наш дурак вскочил как встрепанный, довольный-предовольный, что его так знатно вздули».
А другие ябедники кричат:
 «Не желаете ли побить еще кого-нибудь? Мы готовы, хоть со скидкой! Выбирайте кого-нибудь еще!»
«Не желаете ли побить еще кого-нибудь? Мы готовы, хоть со скидкой! Выбирайте кого-нибудь еще!»
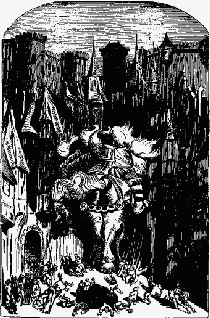 Ну, вы сами понимаете, что путешественники «поспешили на корабль и поскорее отплыли от этого отвратительного острова».
Ну, вы сами понимаете, что путешественники «поспешили на корабль и поскорее отплыли от этого отвратительного острова».
И в конце концов попали на остров Ветряный, жители которого питаются одним только ветром. Больше ничего не пьют и не едят. Причем «простые» люди, то есть те, что победней, добывают себе пищу веерами. А богатые - ветряными мельницами. Когда у них пир - столы ставят прямо под мельничные крылья и угощаются ветром до отвала. «За обедом обыкновенно спорят, какой ветер вкуснее. Один хвалит сирокко, другой - юго-западный ветер, третий - юго-восточный и так далее».
Для любознательных: сирокко- это такой сильный ветер, который на юге Франции дует прямо со Средиземного моря, но несет отнюдь не морскую прохладу, а зной и мелкий-мелкий песок прямо из африканских пустынь.
Вообще в Средние века много смеялись. Большинство народа было неграмотным, книжек потому не читали, но устраивали карнавалы и потешались над всем решительно. Не зазорными считались и грубые шутки, и рассуждения о том, что называется естественными отправлениями организма. (На то это и были Средние века- не путать с XXI веком, где то, что прощалось в те далекие времена неграмотным людям, уже непростительно).
Потому не удивляйтесь, встречая все это в романе Рабле - он тесно связан с фольклором, с народной культурой.
А вот чему невозможно не удивляться - в то самое время, когда Рабле писал один из самых веселых романов в истории мировой литературы, в Европе был полный разгул (по-другому не хочется называть) инквизиции, то есть жесточайших наказаний за отклонение от «правильной», с точки зрения инквизиторов, веры, религии. Что такое свобода совести- то есть свобода исповедовать или не исповедовать ту или иную веру, - тогда не знали вовсе. Человечеству предстояло пройти долгий путь, чтобы это узнать и включить в свои Конституции в виде отдельной статьи. А пока людей подвергали страшным пыткам и по всей Европе горели костры, на которых по закону, по приговорусжигали тех, кто - как показалось (чаще всего) инквизиторам - верил не так, как принято.
4
Прочесть перевод всего большого романа вам не по силам. Но на ваше счастье, есть замечательный сокращенный его пересказ- как раз для вашего возраста. Очень легкий, очень увлекательный. Короткие главки, масса событий.
Пересказал роман прекрасный русский поэт XX века Николай Заболоцкий.Что именно он убирал? Он сам написал об этом: «Рабле на каждой странице играет с читателем, он шутит с ним, делает тысячи намеков, играет в слова, высмеивает нечто неуловимое, позабытое, непонятное для нас, но, конечно, совершенно понятное для современников». Вот это он и убирал, ничего не разрушая при этом.
Тем более сам он, вместе со своими друзьями-поэтами, образовавшими в конце 20-х годов особую поэтическую группу и назвав ее ОБЭРИУ, был совсем не чужд веселой и в то же время серьезной словесной игры:
Есть вещи, которые нужно знать, потому что нельзя не знать.
Вот идете вы с приятелями куда-нибудь - скажем, в театр, а с вами некоторое количество родителей. Образованных. Закончивших что-нибудь качественное, да к тому же гуманитарное.
И идет навстречу какая-нибудь мама со своим сыном, который в десять лет уже такой толстый, что неизвестно, что же дальше-то будет. И вот ваша, скажем, мама говорит (потихоньку, конечно - не в лицо же!) маме вашего приятеля:
- Что же она его, бедного, так раскормила? Просто Гаргантюа!
Та понимающе, сочувственно к мальчику, кивает.
А вы думаете: «Ничего себе! Что это такое за гаргантюа еще?..»
Или, кто постарше, встречает в книгах слово «раблезианство», «раблезианский» - и не понимает значения. И в словарях, между прочим, не очень-то найдешь (проверено).
Хотя бы поэтому надо взять в руки и почитать роман Франсуа Рабле (по-французски пишется «Rabelais», отсюда и «раблезианский»: учитывается непроизносимое «с» на конце, а заодно и то, что у французов, если это «с» попадает между двумя гласными, то произносится как «з») под названием «Гаргантюа и Пантагрюэль». Тогда и станет все ясно, а заодно получите немало удовольствия.
2
Рабле жил и писал в первой половине ХУ1 века, в основном на родине, во Франции, но много бывал и в Италии, в Риме. В 16 лет его постригли в монахи, но потом он сбежал из монастыря - потому что там запрещено было что-либо изучать. А он мечтал знать как можно больше, что ему и удалось. Но все-таки много лет спустя, уже выучившись, кажется, всему на свете (сам читал уже лекции в университете) и став доктором медицины, он отправился в Рим просить у Римского Папы прощения за то, что сбежал из католического монастыря. Получив прощение (и уже напечатав свои веселые сочинения), стал священником - в Медоне, совсем недалеко от Парижа. Его называли «веселый медонский священник».
В общем, берите поскорей его книжку, тем более что она недавно вышла с иллюстрациями Гюстава Доре, - он тоже француз, но только уже Х!Х века. Это - лучший иллюстратор и Рабле, и «Божественной комедии» Данте, и «Дон Кихота» Сервантеса, и даже Библии. Без его черно-белых иллюстраций книгу Рабле просто не стоит брать в руки.

Сначала вы почитаете про Гаргантюа. Про то, как и сколько он всего ел, что и сколько пил, какой был огромный и что творил. Непомерные плотские удовольствия, которым он предавался, и получили именование «раблезианства».
Потом пойдет речь про его сына Пантагрюэля - тоже, прямо сказать, не маленького: он высасывал по утрам молоко из 4 600 коров. Всего лишь.
А когда подрос - отправился на корабле в путешествие с друзьями и тут уж насмотрелся всего.
3
«На третий день плавания, на рассвете, мы увидали треугольный остров, очень похожий на Сицилию. Его называли островом Родственников. На этом острове все жители были в родстве друг с другом. Удивительно было также, что они никогда не называли друг друга „мой отец“, „моя дочь“, „моя мать“, как это всюду полагается. На острове Родственников жители носили странные клички.
- Здорово, Угорь, - приветствовал один из родственников другого родственника.
- Здорово, Морж, - отвечал тот.
- Как поживаешь, Письменный Стол? - спрашивал другой.
- Отлично, Скамейка, а как ты?.. »
Старый Сапог женился на молодой красивой Ботинке, а молодой Носок на старой Туфле. И так далее.
Насмотревшись на все это, они отправились дальше, и на следующий день приплыли к острову Ябедников!..
Там люди зарабатывали на жизнь тем, что давали себя бить.
А ябедниками их назвали потому, что они специально писали на людей жалобы, то есть «ябеды».
Раньше ябедойназывали клевету, напраслину, возведенную на человека. А людей, которые этим занимались, и называли ябедниками. Вот человека затаскают по судам, изведут, он выйдет из себя и изобьет ябедника палкой. А тогда его приговорят к штрафу в пользу побитого. «Ябедник после этого месяца на четыре разбогатеет и живет себе в полное удовольствие».
Узнав про такие чудные дела, один из путешественников, решив проверить, правда ли это, «вынул из кармана кошелек с червонцами и закричал громким голосом:
- Эй, кто хочет заработать золотой за хорошую потасовку?
- Я! Я! Я! - закричали ябедники. - Бейте нас, сударь, как вам угодно, только не скупитесь на денежки».
А когда выбрали одного здорового, краснорожего - то в толпе поднялся завистливый ропот. Особенно был недоволен один, высокий и худой.
«Что же это такое? - жаловался он. - Красная рожа отбивает у нас последних клиентов! Ведь из тридцати ударов двадцать восемь приходится на его долю. Опять мы останемся небитые!».
Один из путешественников все-таки отдубасил Красную Рожу, да так, что отбил себе правую руку. «После этого он дал ябеднику золотой, и вот наш дурак вскочил как встрепанный, довольный-предовольный, что его так знатно вздули».
А другие ябедники кричат:

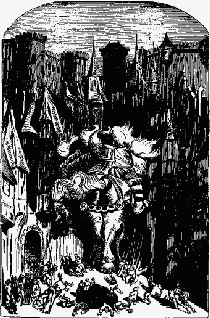
И в конце концов попали на остров Ветряный, жители которого питаются одним только ветром. Больше ничего не пьют и не едят. Причем «простые» люди, то есть те, что победней, добывают себе пищу веерами. А богатые - ветряными мельницами. Когда у них пир - столы ставят прямо под мельничные крылья и угощаются ветром до отвала. «За обедом обыкновенно спорят, какой ветер вкуснее. Один хвалит сирокко, другой - юго-западный ветер, третий - юго-восточный и так далее».
Для любознательных: сирокко- это такой сильный ветер, который на юге Франции дует прямо со Средиземного моря, но несет отнюдь не морскую прохладу, а зной и мелкий-мелкий песок прямо из африканских пустынь.
Вообще в Средние века много смеялись. Большинство народа было неграмотным, книжек потому не читали, но устраивали карнавалы и потешались над всем решительно. Не зазорными считались и грубые шутки, и рассуждения о том, что называется естественными отправлениями организма. (На то это и были Средние века- не путать с XXI веком, где то, что прощалось в те далекие времена неграмотным людям, уже непростительно).
Потому не удивляйтесь, встречая все это в романе Рабле - он тесно связан с фольклором, с народной культурой.
А вот чему невозможно не удивляться - в то самое время, когда Рабле писал один из самых веселых романов в истории мировой литературы, в Европе был полный разгул (по-другому не хочется называть) инквизиции, то есть жесточайших наказаний за отклонение от «правильной», с точки зрения инквизиторов, веры, религии. Что такое свобода совести- то есть свобода исповедовать или не исповедовать ту или иную веру, - тогда не знали вовсе. Человечеству предстояло пройти долгий путь, чтобы это узнать и включить в свои Конституции в виде отдельной статьи. А пока людей подвергали страшным пыткам и по всей Европе горели костры, на которых по закону, по приговорусжигали тех, кто - как показалось (чаще всего) инквизиторам - верил не так, как принято.
4
Прочесть перевод всего большого романа вам не по силам. Но на ваше счастье, есть замечательный сокращенный его пересказ- как раз для вашего возраста. Очень легкий, очень увлекательный. Короткие главки, масса событий.
Пересказал роман прекрасный русский поэт XX века Николай Заболоцкий.Что именно он убирал? Он сам написал об этом: «Рабле на каждой странице играет с читателем, он шутит с ним, делает тысячи намеков, играет в слова, высмеивает нечто неуловимое, позабытое, непонятное для нас, но, конечно, совершенно понятное для современников». Вот это он и убирал, ничего не разрушая при этом.
Тем более сам он, вместе со своими друзьями-поэтами, образовавшими в конце 20-х годов особую поэтическую группу и назвав ее ОБЭРИУ, был совсем не чужд веселой и в то же время серьезной словесной игры:
Меркнут знаки Зодиака
над просторами полей,
спит животное Собака,
дремлет птица Воробей.
……………….
Колотушка тук-тук-тук.
Спит животное Паук.
Спит Корова, Муха спит.
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!
Через несколько лет после перевода-пересказа «Гаргантюа и Пантагрюэля», в 1938 году, Заболоцкого арестовали, уведя из дома на глазах тихо плакавшего шестилетнего сына и годовалой дочки, которая, когда отец ее поцеловал на прощанье, впервые пролепетала «папа».
К этому времени были арестованы многие его друзья (все решительно совершенно безвинно - такова была «внутренняя политика» Сталина; образцом ему служила средневековая инквизиция) и некоторые уже расстреляны, хотя об этом не сообщалось: человек просто исчезал, а его родным сообщали - «Десять лет без права переписки».
Первый же допрос поэта шел около четырех часов без перерыва. Следователи сменялись, а он сидел на стуле без пищи и сна под ослепительным светом направленной в лицо лампы. От него, как
в средние века, требовали признания почти в том, что он водится с нечистой силой, - состоит членом контрреволюционной организации, да еще добивались, чтоб назвал других членов… Через много лет поэт вспоминал эти дни в «Истории моего заключения»: «Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. На четвертые сутки в результате нервного напряжения, голода и бессонницы я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур». Его начали избивать. Он терял сознание, его отливали водой и снова били, уже дубинками и сапогами, так что потом, как описывает сын в его биографии, «врачи удивлялись, как остались целы его внутренности». В бессознательном состоянии его уволокли в тюремную больницу судебной психиатрии. Там он провел около двух недель - сначала в буйном, потом в тихом отделении.
Потом тюрьма, советский концлагерь - в Комсомольске-на-Амуре, с лозунгом на заборе «Смерть врагам народа!». Он и был осужден как враг народа, это ему сулили смерть.
Но он выжил. Через восемь лет оказался на свободе. Написал в 1946 году прекрасные стихи, а напечатать их стало можно лишь через десять лет, уже после смерти Сталина.
«Не понять» эти стихи, по-моему, невозможно - ведь это родной, с году жизни нам известный язык, только в высшем своем цветении:
Уступи мне скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.
И свистит, и бормочет весна.
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клены от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.
И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!
………………………….
А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
……………………………
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.
Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками…
И начало еще одного, моего любимого:
В этой роще березовой
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, -
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.
ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО НА ПАТРИАРШИХ?
1
«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан».
Магия этой первой фразы и сегодня, спустя 42 года после первого появления ее на печатной странице, действует безотказно. Это уж тайна писателя - почему мы, начиная с этой совсем простой, казалось бы, фразы начинаем ждать необыкновенных событий. И они не замедлят.
«Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, - никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея». Вот у нас и начинает потихоньку захватывать дыхание - вечер-то уже назван страшным(а может дело в особом ритме фразы?). К тому же явно начинаешь чувствовать эту, хорошо известную москвичам, вечернюю духоту раскалившейся за день летней Москвы.
Но и не москвичам тоже становится не по себе.
 Да тут еще одного из двух «граждан», появившихся на Патриарших, - Михаила Александровича Берлиоза, известного в литературных кругах редактора журнала, вообще такого, что ли, важного литературного чиновника - неожиданно «охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки». А что его так напугало - он сам не понимает. Но испуг не проходит, а нарастает. Тем более - вдруг «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Да тут еще одного из двух «граждан», появившихся на Патриарших, - Михаила Александровича Берлиоза, известного в литературных кругах редактора журнала, вообще такого, что ли, важного литературного чиновника - неожиданно «охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки». А что его так напугало - он сам не понимает. Но испуг не проходит, а нарастает. Тем более - вдруг «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась таким образом, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза».
И как, повторим, не ужаснуться, если вдруг перед тобой - человек выше двух метров роста (сажень). Да еще неимоверно худой и насквозь просвечивающий! Любой испугается.
«…А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез.»
Да, все кончилось, но только не для Берлиоза. Для него все только начиналось.
Потому что в разгар беседы Берлиоза со своим спутником - молодым поэтом Иваном Бездомным - «в аллее показался первый человек».
2
Внимательный читатель немного удивится: что это за фамилия такая - Бездомный?
Это, конечно, не фамилия, а литературный псевдоним. Еще до революции 1917 года некоторые писатели, которые хотели заявить себя близкими к революционерам, защитниками «угнетенных» - рабочих и крестьян, как бы готовыми разделить с ними их нищету, их, как тогда говорили, «горькую долю», брали себе «говорящие» псевдонимы: Демьян Бедный(настоящее имя Ефим Придворов), Максим Горький(Алексей Пешков).
А в конце 20-х годов ХХ века, когда начал писать свой роман Михаил Булгаков,таких литературных псевдонимов было полно. Потому что советская власть, установившаяся в России в начале 20-х, после победы в гражданской войне Красной армии над Белой, всячески поощряла бедных и малообразованных, внушая им, что сама их бедность - уже замечательное качество, а богатые, сколько бы пользы не принесли они ранее своей стране, ничего, кроме тюрьмы и пули, не заслуживают. А кто читал повесть Булгакова «Собачье сердце» или хотя бы смотрел замечательный фильм по ней, знает, как относился Булгаков к тем, кто заявлял себя «трудовым элементом» безо всяких на то оснований.
Были известны поэты Иван Приблудный,Михаил Голодный.И любовь к таким именно псевдонимам уже изображалось некоторыми писателями - современниками Булгакова - сатирически. Например, в романе Н. Никандрова действуют молодые - ну, не писатели, а скорее решившие, что они писатели, - Антон Нелюдимый, Анна Новая, Антон Тихий, который рвется в дом писателей в галошах на босу ногу - примерно так, как вскоре в романе Булгакова явится в специально писательский ресторан (куда пускали только по удостоверениям) Иван Бездомный в нижнем белье… Литераторы в этом романе знакомятся, называя свои «литературные имена»: «Я Иван Бездомный. - А я Иван Бездольный. - А я Иван Безродный». Есть там Антон Нешамавший и Антон Неевший.
В первой редакции своего романа Булгаков дает герою - довольно невежественному человеку, пишущему стихи, которые он сам же потом в порыве откровенности назовет «чудовищными», - имя «Антоша Безродный». А потом останавливается на «Иване Бездомном». Как вы уже заметили, имена «Антон» и «Иван» почему-то пользовались особенным спросом у молодых поэтов.
«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан».
Магия этой первой фразы и сегодня, спустя 42 года после первого появления ее на печатной странице, действует безотказно. Это уж тайна писателя - почему мы, начиная с этой совсем простой, казалось бы, фразы начинаем ждать необыкновенных событий. И они не замедлят.
«Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, - никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея». Вот у нас и начинает потихоньку захватывать дыхание - вечер-то уже назван страшным(а может дело в особом ритме фразы?). К тому же явно начинаешь чувствовать эту, хорошо известную москвичам, вечернюю духоту раскалившейся за день летней Москвы.
Но и не москвичам тоже становится не по себе.

Жизнь Берлиоза складывалась таким образом, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза».
И как, повторим, не ужаснуться, если вдруг перед тобой - человек выше двух метров роста (сажень). Да еще неимоверно худой и насквозь просвечивающий! Любой испугается.
«…А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез.»
Да, все кончилось, но только не для Берлиоза. Для него все только начиналось.
Потому что в разгар беседы Берлиоза со своим спутником - молодым поэтом Иваном Бездомным - «в аллее показался первый человек».
2
Внимательный читатель немного удивится: что это за фамилия такая - Бездомный?
Это, конечно, не фамилия, а литературный псевдоним. Еще до революции 1917 года некоторые писатели, которые хотели заявить себя близкими к революционерам, защитниками «угнетенных» - рабочих и крестьян, как бы готовыми разделить с ними их нищету, их, как тогда говорили, «горькую долю», брали себе «говорящие» псевдонимы: Демьян Бедный(настоящее имя Ефим Придворов), Максим Горький(Алексей Пешков).
А в конце 20-х годов ХХ века, когда начал писать свой роман Михаил Булгаков,таких литературных псевдонимов было полно. Потому что советская власть, установившаяся в России в начале 20-х, после победы в гражданской войне Красной армии над Белой, всячески поощряла бедных и малообразованных, внушая им, что сама их бедность - уже замечательное качество, а богатые, сколько бы пользы не принесли они ранее своей стране, ничего, кроме тюрьмы и пули, не заслуживают. А кто читал повесть Булгакова «Собачье сердце» или хотя бы смотрел замечательный фильм по ней, знает, как относился Булгаков к тем, кто заявлял себя «трудовым элементом» безо всяких на то оснований.
Были известны поэты Иван Приблудный,Михаил Голодный.И любовь к таким именно псевдонимам уже изображалось некоторыми писателями - современниками Булгакова - сатирически. Например, в романе Н. Никандрова действуют молодые - ну, не писатели, а скорее решившие, что они писатели, - Антон Нелюдимый, Анна Новая, Антон Тихий, который рвется в дом писателей в галошах на босу ногу - примерно так, как вскоре в романе Булгакова явится в специально писательский ресторан (куда пускали только по удостоверениям) Иван Бездомный в нижнем белье… Литераторы в этом романе знакомятся, называя свои «литературные имена»: «Я Иван Бездомный. - А я Иван Бездольный. - А я Иван Безродный». Есть там Антон Нешамавший и Антон Неевший.
В первой редакции своего романа Булгаков дает герою - довольно невежественному человеку, пишущему стихи, которые он сам же потом в порыве откровенности назовет «чудовищными», - имя «Антоша Безродный». А потом останавливается на «Иване Бездомном». Как вы уже заметили, имена «Антон» и «Иван» почему-то пользовались особенным спросом у молодых поэтов.
