Страница:
– Все-таки дело, по-видимому, серьезное? – снова спросил Кленнэм.
– Да-а, – ответил врач мечтательным тоном художника, погруженного в созерцание своего еще недоконченного шедевра. – Да, пожалуй. Сложный перелом бедра и вывих колена. Первоклассные случаи, и то и другое. – Он снова ласково похлопал пациента по плечу, как бы желая выразить свою признательность этому славному малому, сумевшему сломать ногу таким интересным для науки образом.
– Не говорит ли он по-французски? – спросил врач.
– По-французски говорит.
– А, ну тогда мы с ним столкуемся. Придется вам потерпеть немножко, друг мой, – обратился он к пациенту на этом языке, – но вы утешайтесь тем, что все идет как по маслу и скоро вы у нас сможете хоть в пляс пуститься. Ну-ка, взглянем, не найдется ли еще каких-нибудь непорядков и как наши ребра.
Но никаких непорядков больше не нашлось, и наши ребра были целы. Кленнэм оставался, покуда ловкие и умелые руки врача делали все, что возможно было сделать, – бедняга трогательно просил не покидать его, чувствуя себя одиноким и беспомощным среди чужих людей, в чужой стране; затем, когда больного перенесли на кровать, посидел у кровати, пока тот не забылся сном, и лишь тогда ушел из больницы, предварительно написав на своей карточке, что завтра придет снова, и попросив передать эту карточку больному, как только тот проснется.
Все эти события отняли так много времени, что, когда Артур Кленнэм вышел из больничных ворот, пробило уже одиннадцать часов. Квартира, которую он для себя временно нанял, находилась близ Ковент-Гардена; туда он и направился, выбрав самый короткий путь, через Сноу-Хилл и Холборн.
В нем уже успели улечься чувства тревоги и участия, разбуженные последним происшествием этого дня, и не удивительно, что, снова оставшись наедине с собой, он возвратился к своим раздумьям. Точно так же не удивительно, что не прошло и десяти минут, как эти раздумья привели его к воспоминанию о Флоре. А с нею невольно вспомнилась и вся его жизнь, незадавшаяся и обделенная счастьем.
Придя домой, он сел в кресло у догорающего огня, и как в тот вечер, когда он глядел на лес закопченных труб, черневший за окном его старой комнаты, перед его мысленным взором потянулся весь безрадостный путь, который ему пришлось пройти. Долгий, унылый, пустынный путь. Ни детства, ни юности – если не считать одной короткой мечты; но сегодняшний вечер показал, что и эта мечта была призрачной.
Для другого это было бы пустяком, для него послужило тяжелым ударом. В самом деле, все, что по воспоминаниям рисовалось ему мрачным и гнетущим, на поверку таким и оказалось; память ни в чем его не обманула, ничего не прибавила к суровой правде прошлого, и эта правда была зримой и осязаемой в настоящем; лишь единственное светлое воспоминание не выдержало испытания и разлетелось в прах. Он это предчувствовал еще в тот первый вечер, размечтавшись наяву и своей старой комнате; но тогда это было только предчувствие, теперь же оно подтвердилось.
Его сделала мечтателем неискоренимая вера во все светлое и прекрасное, чего он был лишен в жизни. В доме, где царил расчет и корысть, эта вера помогла ему вырасти человеком благородным и щедрым. В доме, где не было места ласке и теплу, эта вера помогла ему сохранить доброе и отзывчивое сердце. В доме, где все было подчинено мрачной и дерзновенной религии, на место бога, создавшего человека по образу и подобию своему, поставившей бога, созданного человеком по его грешному образу и подобию, эта вера научила его не судить других, не ожесточаться в унижении, надеяться и сострадать ближнему.
И она же уберегла его от опасности стать одним из тех жалких нытиков и злобствующих себялюбцев, которые лишь потому, что их собственную узенькую тропку не пересекло ни разу истинное счастье или истинное добро, готовы утверждать, будто ничего такого и нет на божьем свете, а есть только видимость, скрывающая побуждения низкие и мелочные. Он испытал много разочарований, но дух его остался твердым и здоровым, и тлетворные мысли были ему чужды. Сам пребывая в темноте, он умел видеть свет и радоваться за других, кого этот свет озарял.
Вот и сейчас, сидя у догорающего огня, он с грустью вспоминал весь долгий путь, пройденный до этого вечера, однако не пытался отравить ядом зависти чужие пути. Но горько было сознавать в его годы, что в жизни так много не удалось и что не видно кругом никого, кто разделил бы и скрасил остаток его жизненной дороги. Огонь в камине уже не горел, только тускло рдели дотлевающие угли, потом от них остался лишь пепел, потом и пепел рассыпался серой пылью, а он все смотрел и думал: «Вот скоро и я пройду все положенные перемены и перестану существовать».
Перебирая в памяти свою жизнь, он как будто шел издалека к зеленому дереву, которое увядало по мере его приближения – осыпался цвет, облетала листва, а потом и ветки, засыхая, обламывались одна за другой.
«Безрадостное, унылое детство, печальная юность в холодном и неприютном доме, долгие годы на чужбине, возвращение, встреча с матерью, тоже не принесшая ни тепла, ни радости, а теперь еще сегодняшнее злосчастное свидание с Флорой – к чему все это привело меня? Что у меня есть в жизни?»
Дверь тихонько отворилась, и, вздрогнув от неожиданности, он услышал два слова, прозвучавшие словно в ответ:
– Крошка Доррит.
Глава XIV
– Да-а, – ответил врач мечтательным тоном художника, погруженного в созерцание своего еще недоконченного шедевра. – Да, пожалуй. Сложный перелом бедра и вывих колена. Первоклассные случаи, и то и другое. – Он снова ласково похлопал пациента по плечу, как бы желая выразить свою признательность этому славному малому, сумевшему сломать ногу таким интересным для науки образом.
– Не говорит ли он по-французски? – спросил врач.
– По-французски говорит.
– А, ну тогда мы с ним столкуемся. Придется вам потерпеть немножко, друг мой, – обратился он к пациенту на этом языке, – но вы утешайтесь тем, что все идет как по маслу и скоро вы у нас сможете хоть в пляс пуститься. Ну-ка, взглянем, не найдется ли еще каких-нибудь непорядков и как наши ребра.
Но никаких непорядков больше не нашлось, и наши ребра были целы. Кленнэм оставался, покуда ловкие и умелые руки врача делали все, что возможно было сделать, – бедняга трогательно просил не покидать его, чувствуя себя одиноким и беспомощным среди чужих людей, в чужой стране; затем, когда больного перенесли на кровать, посидел у кровати, пока тот не забылся сном, и лишь тогда ушел из больницы, предварительно написав на своей карточке, что завтра придет снова, и попросив передать эту карточку больному, как только тот проснется.
Все эти события отняли так много времени, что, когда Артур Кленнэм вышел из больничных ворот, пробило уже одиннадцать часов. Квартира, которую он для себя временно нанял, находилась близ Ковент-Гардена; туда он и направился, выбрав самый короткий путь, через Сноу-Хилл и Холборн.
В нем уже успели улечься чувства тревоги и участия, разбуженные последним происшествием этого дня, и не удивительно, что, снова оставшись наедине с собой, он возвратился к своим раздумьям. Точно так же не удивительно, что не прошло и десяти минут, как эти раздумья привели его к воспоминанию о Флоре. А с нею невольно вспомнилась и вся его жизнь, незадавшаяся и обделенная счастьем.
Придя домой, он сел в кресло у догорающего огня, и как в тот вечер, когда он глядел на лес закопченных труб, черневший за окном его старой комнаты, перед его мысленным взором потянулся весь безрадостный путь, который ему пришлось пройти. Долгий, унылый, пустынный путь. Ни детства, ни юности – если не считать одной короткой мечты; но сегодняшний вечер показал, что и эта мечта была призрачной.
Для другого это было бы пустяком, для него послужило тяжелым ударом. В самом деле, все, что по воспоминаниям рисовалось ему мрачным и гнетущим, на поверку таким и оказалось; память ни в чем его не обманула, ничего не прибавила к суровой правде прошлого, и эта правда была зримой и осязаемой в настоящем; лишь единственное светлое воспоминание не выдержало испытания и разлетелось в прах. Он это предчувствовал еще в тот первый вечер, размечтавшись наяву и своей старой комнате; но тогда это было только предчувствие, теперь же оно подтвердилось.
Его сделала мечтателем неискоренимая вера во все светлое и прекрасное, чего он был лишен в жизни. В доме, где царил расчет и корысть, эта вера помогла ему вырасти человеком благородным и щедрым. В доме, где не было места ласке и теплу, эта вера помогла ему сохранить доброе и отзывчивое сердце. В доме, где все было подчинено мрачной и дерзновенной религии, на место бога, создавшего человека по образу и подобию своему, поставившей бога, созданного человеком по его грешному образу и подобию, эта вера научила его не судить других, не ожесточаться в унижении, надеяться и сострадать ближнему.
И она же уберегла его от опасности стать одним из тех жалких нытиков и злобствующих себялюбцев, которые лишь потому, что их собственную узенькую тропку не пересекло ни разу истинное счастье или истинное добро, готовы утверждать, будто ничего такого и нет на божьем свете, а есть только видимость, скрывающая побуждения низкие и мелочные. Он испытал много разочарований, но дух его остался твердым и здоровым, и тлетворные мысли были ему чужды. Сам пребывая в темноте, он умел видеть свет и радоваться за других, кого этот свет озарял.
Вот и сейчас, сидя у догорающего огня, он с грустью вспоминал весь долгий путь, пройденный до этого вечера, однако не пытался отравить ядом зависти чужие пути. Но горько было сознавать в его годы, что в жизни так много не удалось и что не видно кругом никого, кто разделил бы и скрасил остаток его жизненной дороги. Огонь в камине уже не горел, только тускло рдели дотлевающие угли, потом от них остался лишь пепел, потом и пепел рассыпался серой пылью, а он все смотрел и думал: «Вот скоро и я пройду все положенные перемены и перестану существовать».
Перебирая в памяти свою жизнь, он как будто шел издалека к зеленому дереву, которое увядало по мере его приближения – осыпался цвет, облетала листва, а потом и ветки, засыхая, обламывались одна за другой.
«Безрадостное, унылое детство, печальная юность в холодном и неприютном доме, долгие годы на чужбине, возвращение, встреча с матерью, тоже не принесшая ни тепла, ни радости, а теперь еще сегодняшнее злосчастное свидание с Флорой – к чему все это привело меня? Что у меня есть в жизни?»
Дверь тихонько отворилась, и, вздрогнув от неожиданности, он услышал два слова, прозвучавшие словно в ответ:
– Крошка Доррит.
Глава XIV
Бал Крошки Доррит
Артур Кленнэм вскочил на ноги и увидел в дверях Знакомую фигурку. Рассказывающий эту историю должен порой смотреть глазами Крошки Доррит, что он и попытается сейчас сделать.
Комната, на пороге которой стояла Крошка Доррит, показалась ей просторной и роскошно обставленной. Знаменитые ковент-гарденские кофейни, где джентльмены в шитых золотом кафтанах и при шпагах затевали ссоры и дрались на дуэлях; живописный ковент-гарденский рынок, где зимой продавались цветы по гинее за штуку, ананасы по гинее за фунт и зеленый горошек по гинее за чашку; великолепный ковент-гарденский театр, где разодетые дамы и кавалеры смотрели увлекательные представления, какие и не снились бедной Фанни и бедному дядюшке; мрачные ковент-гарденские аркады, где оборванные ребятишки жались друг к другу, чтобы согреться, шныряли точно крысы в поисках отбросов и точно крысы разбегались от погони (бойтесь крыс, уважаемые Полипы, бойтесь крыс, молодых и старых, ибо, видит бог, они подгрызают фундамент здания, в котором мы живем, и рано или поздно оно обрушится нам на голову!); Ковент-Гарден, где тайны минувших дней соседствуют с тайнами нового времени, романтика с житейскими буднями, изобилие с нуждой, красота с безобразием, аромат цветников со зловонием сточных канав, – все эти пестрые видения роились в голове Крошки Доррит, затуманивая вид и без того полутемной комнаты, куда она робко заглядывала с порога.
Однако она сразу увидела того, кого искала, – человека с печальным загорелым лицом, который улыбался так ласково, говорил так сердечно и деликатно и все же своей прямой манерой обращения напоминал ей миссис Кленнэм, только у матери прямота шла от суровости, а у сына от благородства души. Когда она вошла, он сидел в кресле перед потухшим камином, но, услышав ее голос, оглянулся и встал, и теперь смотрел на нее тем пытливым, внимательным взглядом, перед которым она всегда опускала глаза – опустила и теперь.
– Мое бедное дитя! Вы здесь, в такой час!
– Я знала, что вы будете удивлены, сэр. Я потому нарочно и сказала: «Крошка Доррит», чтобы предупредить вас.
– Вы одна?
– Нет, сэр; со мной Мэгги.
Услышав свое имя, Мэгги сочла, что ее появление достаточно подготовлено, и ступила на порог, растянув рот до ушей в приветственной улыбке. Впрочем, она тотчас же согнала с лица этот знак веселья и приняла торжественно сосредоточенный вид.
– А у меня уже погас огонь в камине, – сказал Кленнэм, – а вы так… – он хотел сказать «так легко одеты», но спохватился, что это было бы намеком на ее бедность, и сказал. – А вечер такой холодный.
Он усадил ее в свое кресло, придвинув его поближе к камину, потом принес дров, угля и развел огонь.
– У вас ноги совсем ледяные, дитя мое (стоя на коленях и возясь с дровами, он нечаянно коснулся ее ноги), протяните их к огню. – Но Крошка Доррит торопливо поблагодарила и стала уверять, что ей тепло, очень тепло! У Кленнэма сжалось сердце: он понял, что она не хочет показывать свои худые, стоптанные башмаки.
Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных башмаков. Кленнэм знал о ней все, и ей не приходилось перед ним стыдиться. Крошку Доррит беспокоило другое: не осудил бы он ее отца, увидя, в каких она башмаках, не подумал бы: «Как может он спокойно есть свой обед в то время, как это маленькое существо чуть не босиком ходит по холодному камню!» Не то, чтобы ей самой казался справедливым этот упрек; просто она по опыту знала, что подобные нелепые мысли иногда приходят людям в голову – к несчастью для ее отца!
– Прежде всего, – начала Крошка Доррит, греясь у бледного пламени камина и снова подняв глаза на того, чье живое участие, сострадание и покровительство казалось ей непонятной загадкой, – прежде всего мне хотелось сказать вам кое-что.
– Я вас слушаю, дитя мое.
Легкая тень прошла по ее лицу; ее огорчало, что он обращается к ней как к ребенку. Она не ожидала, что он подметит это, но к ее удивлению он тотчас же сказал:
– Я искал ласкового обращения и ничего другого не придумал. Вы сами только что назвали себя именем, которым вас зовут в доме у моей матери; позвольте же и мне называть вас так, тем более что в мыслях я всегда употребляю это имя: Крошка Доррит.
– Благодарю вас, сэр; это имя мне очень нравится.
– Крошка Доррит.
– Никакая не Крошка, а маменька, – наставительно поправила Мэгги, уже совсем было задремавшая.
– Это одно и то же, Мэгги, – успокоила ее Крошка Доррит, – одно и то же.
– Совсем одно и то же, маменька?
– Да, да, совсем.
Мэгги рассмеялась и тотчас же захрапела. Но для Крошки Доррит в этой нелепой фигуре и в этих вульгарных звуках не было ничего безобразного. Маленькая маменька даже как будто гордилась своим неуклюжим ребенком, и глаза ее сияли, когда она вновь посмотрела в печальное, загорелое лицо того, к кому пришла. Ей было любопытно, какие мысли приходят ему в голову, когда он смотрит на нее и на Мэгги. Она думала о том, как счастлива была бы дочь человека, у которого такое лицо, каким бы он был заботливым, любящим отцом.
– Я хотела сказать вам, сэр, – снова начала Крошка Доррит, – что мой брат выпушен на свободу.
Артур был очень рад это слышать и выразил надежду, что теперь все у него пойдет хорошо.
– И еще я хотела сказать вам, сэр, – продолжала Крошка Доррит, с дрожью в голосе и во всем своем маленьком теле, – что мне запрещено знать, кому он обязан своей свободой, запрещено спрашивать об этом, запрещено догадываться, запрещено высказать этому великодушному человеку, как безгранично я ему благодарна!
Ему, верно, не требуется благодарности, заметил Кленнэм. Он, может быть, сам (и с полным основанием) благодарит судьбу, что она дала ему случай и средство оказать маленькую услугу той, которая заслуживает гораздо большего.
– И еще я хочу сказать, сэр, – продолжала Крошка Доррит, дрожа все сильней и сильней, – что, если бы я знала его и могла говорить, я бы сказала ему, что никогда, никогда он не сможет представить себе, как глубоко я тронута его добротой и как был бы тронут ею мой добрый отец. И еще я хочу сказать, сэр, что, если бы я знала его и могла говорить – но я его не знаю, и я помню, что должна молчать! – я бы сказала ему, что до конца моей жизни я буду каждый вечер молиться за него. И если бы я знала его, если бы я могла, я стала бы перед ним на колени, и целовала бы ему руку, и умоляла бы не отнимать ее – хоть одно мгновение! – чтобы я могла пролить на нее слезы благодарности, потому что больше мне нечем его отблагодарить!
Крошка Доррит прижалась губами к его руке и хотела было опуститься на колени, но он мягко удержал ее и усадил снова в кресло. Ее взгляд, ее взволнованный голос были для него самой лучшей благодарностью, хоть она не догадывалась об этом. С трудом преодолевая собственное волнение, он сказал:
– Ну, полно, полно, Крошка Доррит! Будем считать, что вы узнали, кто этот человек, и что вы все это имели возможность исполнить и даже исполнили. И теперь забудьте об этом человеке и расскажите мне – не ему, а мне, вашему другу, которым вы всегда можете располагать, – почему вы бродите по улицам в такой поздний час и что завело вас чуть не в полночь так далеко от дома, мое милое… – «дитя», чуть было не сорвалось опять у него с языка, – моя милая маленькая Крошка Доррит?
– Мы с Мэгги нынче были в театре, – сказала она, привычным усилием справившись со своими чувствами, – в театре, где у моей сестры ангажемент.
– Ой, до чего же там хорошо! – неожиданно отозвалась Мэгги, видимо обладавшая способностью засыпать и просыпаться в любую минуту по своему усмотрению. – Не хуже, чем в больнице. Только что курятины не дают.
Она слегка поежилась и снова заснула.
– Мне иногда хочется своими глазами взглянуть, как идут дела у сестры, вот мы туда и отправились, – пояснила Крошка Доррит. – Люблю иногда посмотреть на нее издали, так, чтобы ни она, ни дядя не знали. Правда, мне это редко удается, ведь если я не ухожу на работу, так сижу с отцом, а если и ухожу, так всегда спешу к нему вернуться. Но сегодня я ему сказала, что иду на бал.
Робко и нерешительно произнеся это признание, она снова подняла глаза на Кленнэма, и так ясно прочитала на его лице вопрос, что поторопилась ответить:
– О нет, что вы! Я ни разу в жизни не была на балу. И немного помедлив под его внимательным взглядом, добавила:
– Я надеюсь, что тут нет большого греха. Приходится иной раз выдумывать немножко, ради их же пользы.
Она боялась, что он мысленно осуждает ее за эти уловки, помогающие ей заботиться о своих родных, думать о них, оберегать их без их ведома и благодарности, быть может, даже навлекая на себя упреки в недостатке внимания. Но у Кленнэма в мыслях было совсем другое – он думал о необыкновенной силе духа, сокрытой в этой слабенькой девушке, об ее стоптанных башмаках и поношенном платьице, об ее несуществующих, выдуманных развлечениях. Где же этот бал, куда она будто бы отправилась, спросил он. В одном доме, где ей часто случается работать, отвечала, покраснев, Крошка Доррит. Она не стала путаться в подробностях перед отцом; просто сказала в двух словах, чтобы он не беспокоился. Отец не должен был думать, что речь идет о каком-то настоящем великосветском бале – да ему это вряд ли и пришло бы в голову. Она покосилась на свою плохонькую шаль.
– Мне еще никогда не случалось уходить из дому на всю ночь, – сказала Крошка Доррит. – Лондон кажется таким большим, таким чужим, таким пустынным.
Крошка Доррит вздрогнула, говоря эти слова; огромный город, раскинувшийся под черным небом, пугал ее.
– Но я не потому решилась обеспокоить вас, сэр, – продолжала она, снова овладев собою. – Моя сестра свела знакомство с какой-то дамой, и ее рассказы об этом знакомстве встревожили меня, вот я и отправилась сегодня в театр. А проходя мимо вашего дома, я увидела свет в окне, и…
Не в первый раз. Нет, не в первый раз. Уже много вечеров свет в этом окне, точно далекая звездочка, манил Крошку Доррит. И нередко, усталая и измученная, она возвращалась в Маршалси кружным путем, чтоб только пройти мимо дома, где жил вернувшийся из дальних стран человек с печальным, загорелым лицом, который говорил с ней как друг и покровитель.
– И вот я надумала подняться к вам, чтобы поговорить о трех вещах, о которых мне очень нужно вам сказать. Первое, это то, что я уже пыталась, но не могу… не должна…
– Тсс, тсс! Мы ведь уже уговорились, что с этим покончено. Перейдем ко второму, – сказал Кленнэм, успокаивая ее ласковой улыбкой. Он помешал в камине, чтобы пламя разгорелось ярче, и поставил на столик перед ней вино, пирожное и фрукты.
– Второе вот что, сэр, – сказала Крошка Доррит, – мне кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну – узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Иначе говоря, – где я живу.
– Вот как? – живо откликнулся Кленнэм и, немного помолчав, спросил, почему она так думает?
– Мне кажется, мистер Флинтвинч выследил меня, – сказала Крошка Доррит.
Кленнэм помолчал еще немного, сдвинув брови и глядя в огонь; потом снова спросил: а почему она так думает?
– Я два раза повстречала его. Оба раза недалеко от дома. Оба раза вечером, когда возвращалась с работы. Оба раза у него был такой вид, что мне эта встреча показалась не случайной – хоть, может быть, я и ошибаюсь.
– Он вам что-нибудь говорил?
– Нет, только кивнул и прошел мимо, склонив голову набок.
– Черт бы его побрал с его головой, – задумчиво пробормотал Кленнэм, не отводя глаз от огня, – она у него всегда набок.
Опомнившись, он стал уговаривать ее выпить вина, съесть хоть кусочек чего-нибудь – трудная задача, принимая во внимание ее робость и застенчивость, – потом спросил прежним задумчивым тоном:
– А моя мать не переменилась к вам?
– О нет, ничуть. Она такая же, как всегда. Но я подумала, может быть, рассказать ей всю свою историю. Я подумала, может быть, вы сочли бы это правильным. Я подумала, – Крошка Доррит умоляюще вскинула на него глаза и тотчас же снова опустила их, встретив его взгляд, – может быть, вы посоветуете, что мне делать.
– Крошка Доррит, – сказал Кленнэм; это имя, смотря по тому, как и когда оно произносилось, уже начинало служить им обоим заменой множества ласковых имен, – не делайте ровно ничего. Я попробую поговорить с моим старым другом, миссис Эффери. – Ничего не нужно делать, Крошка Доррит, разве только подкрепить сейчас свои силы тем, что стоит на столе. Вот об этом я вас прошу от всей души.
– Благодарю вас, но мне, право же, совсем не хочется есть. И пить тоже не хочется, – добавила Крошка Доррит, заметив, что он тихонько подвинул к ней стакан. – Вот, может быть, Мэгги…
– Непременно, – сказал Кленнэм. – И я надеюсь, что у нее в карманах найдется место для всего, что она не успеет съесть здесь. Но прежде чем мы ее разбудим – ведь вы собирались сказать мне еще что-то, третье?
– Да. Только вы не обидитесь, сэр?
– Обещаю, о чем бы ни шла речь.
– Вам, верно, это покажется странным. Не знаю, как и сказать. Только не сочтите это прихотью или неблагодарностью с моей стороны, – говорила Крошка Доррит, снова невольно поддаваясь волнению.
– Нет, нет, нет. Я заранее уверен, что все, что вы скажете, будет разумным и справедливым. И я ничуть не опасаюсь неверно истолковать ваши слова.
– Благодарю вас, сэр. Вы решили еще раз навестить моего отца?
– Да.
– И вы собираетесь сделать это завтра – по крайней мере вы были так добры и внимательны, что предупредили его об этом запиской.
– Да – но стоит ли говорить о таких пустяках!
– Так вот, я хочу просить вас не делать кое-чего, – сказала Крошка Доррит, крепко сжав свои маленькие ручки и устремив на него взгляд, в который она вложила, казалось, всю свою душу. – Вы не догадываетесь, чего именно?
– Пожалуй, догадываюсь. Но я могу и ошибаться.
– Нет, вы не ошибаетесь, – сказала Крошка Доррит, покачав головой. – Если нам будет так трудно, так трудно, что мы не сможем без этого обойтись, тогда я сама попрошу у вас, хорошо?
– Хорошо. Пусть будет по-вашему.
– Не поощряйте его. А если он станет просить, делайте вид, что вы не понимаете просьб. И не давайте ему ничего. Пощадите его, избавьте от этого унижения и вам тогда легче будет его уважать.
Слезы заблестели в ее полных тревоги глазах, и Кленнэм дрогнувшим голосом поспешил ответить, что ее желание для него священно.
– Вы ведь его не знаете по-настоящему, – сказала она. – Не знаете и не можете знать. Вы только видите, до чего он дошел, бедный мой, дорогой мой отец, но вы не видели всего, что его довело до этого. А я видела и знаю! И оттого, что вы были так добры к нам, отнеслись с таким чутким участием, мне особенно хочется, чтобы вы думали о нем лучше. Для меня нестерпима мысль, – вскричала Крошка Доррит, закрыв лицо руками, – для меня нестерпима мысль, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения!
– Ну, не надо так убиваться, – сказал Кленнэм. – Право, не надо, Крошка Доррит. Я все понял, уверяю вас.
– Благодарю вас, сэр. Благодарю! Я всячески старалась избежать этого разговора, день и ночь думала, как мне быть; но когда я узнала, что вы обещались прийти к нам завтра, я решилась. Только это не потому, чтобы я стыдилась своего отца, – она быстро вытерла слезы, – а потому, что я знаю его, как никто не знает, и люблю его и горжусь им.
Высказав то, что камнем лежало у нее на душе, Крошка Доррит заторопилась уходить. У Мэгги сна уже как не бывало; она пожирала глазами пирожное и фрукты, ухмыляясь в приятном ожидании. Кленнэм, желая отвлечь Крошку Доррит от печальных мыслей, налил ее подопечной стакан вина, который та немедленно выпила, причем после каждого глотка громко причмокивала, поглаживая себя по горлу, и приговаривала замирающим голосом, закатив глаза под самый лоб: «Ох, и вкусно! Ну прямо как в больнице!» Когда же с вином и с восторгами было покончено, он просил ее сложить все угощение в свою корзинку (Мэгги никогда не выходила без корзинки), да позаботиться, чтобы на столе ничего не осталось. Радость, с которой Мэгги бросилась исполнять его просьбу, и радость маленькой маменьки при виде радости Мэгги убедили Кленнэма, что лучшего завершения разговора и придумать нельзя было.
– Но ведь ворота уже давным-давно заперты, – вдруг спохватился Кленнэм. – Куда же вы пойдете?
– Я буду ночевать у Мэгги, – ответила Крошка Доррит, – Мне там будет очень хорошо и покойно.
– В таком случае, я провожу вас, – сказал Кленнэм. – Я не могу отпустить вас одних в такой час.
– Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, – взмолилась Крошка Доррит. – Я вас очень, очень прошу!
Она просила так убедительно, что Кленнэм счел неделикатным настаивать – тем более, что ему нетрудно было представить себе убогое жилье Мэгги.
– Пойдем, Мэгги, – весело сказала Крошка Доррит, – мы отлично дойдем одни; дорогу мы знаем, верно, Мэгги?
– Верно, маменька, дорогу мы знаем, – прыснув со смеху, сказала Мэгги.
И они ушли; но прежде чем переступить порог, Крошка Доррит оглянулась и сказала: «Благослови вас бог!» Она сказала это совсем тихо, но как знать! – быть может, там, в вышине, ее слова были слышны не хуже, чем если б их пропел целый соборный хор.
Артур Кленнэм выждал, покуда они завернут за угол, и незаметно последовал за ними. У него не было намерения навязывать свое присутствие Крошке Доррит там, где оно оказалось бы нежеланным, но он хотел убедиться, что она благополучно добралась до знакомого квартала. Такой крохотной, такой хрупкой и беззащитной в сырой холодной мгле казалась ее фигурка, полускрытая колышущейся тенью ее подопечной, что Кленнэму, который привык смотреть на нее как на ребенка, захотелось взять ее на руки и понести.
Но вот они вышли на широкую улицу, в конце которой находилась тюрьма Маршалси, и Кленнэм увидел, как они слегка замедлили шаг, а потом свернули в переулок. Он остановился, чувствуя себя не вправе идти дальше, и, постояв немного, нерешительно повернул назад. Ему и в голову не приходило, что им грозит опасность всю ночь провести на улице; и лишь много, много времени спустя он узнал правду.
Убогий домишко, к которому они подошли, был весь погружен в темноту, и ни звука не доносилось из-за запертой двери. Тогда Крошка Доррит сказала своей подопечной:
– Мэгги, тебе на этой квартире живется хорошо, и поэтому не следует вызывать неудовольствие хозяев. Постучимся тихонько раз и другой; а если нам не отворят, придется ждать до утра.
Крошка Доррит осторожно постучала в дверь и прислушалась. Еще раз осторожно постучала в дверь и еще раз прислушалась. Все было тихо.
– Ничего не поделаешь, милая Мэгги. Запасемся терпением и будем ждать утра.
Ночь была сырая и темная, холодный ветер пронизывал до костей, и когда они вновь очутились на улице, которая вела к Маршалси, где-то рядом часы пробили половину второго. – Еще каких-нибудь пять с половиной часов, – сказала Крошка Доррит, – и можно будет идти домой. – Заговорив о доме, который находился так близко, естественно было пойти взглянуть на него. Они подошли к запертым воротам тюрьмы и заглянули сквозь решетку в наружный дворик. – Надеюсь, отец мирно спит и не тревожится обо мне, – сказала Крошка Доррит, целуя холодное железо.
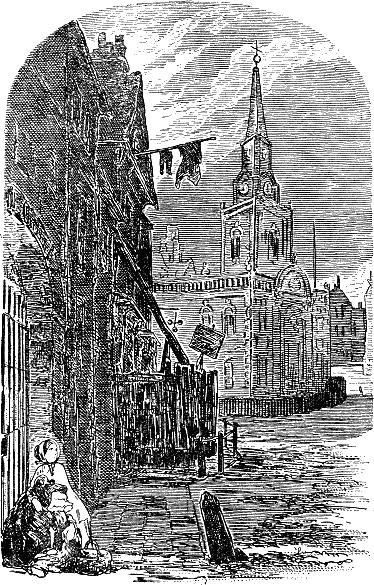
От ворот, таких привычных и знакомых, словно веяло дружеским теплом. Они поставили в уголок корзинку Мэгги и уселись на нее, тесно прижавшись друг к другу. Тишина и безлюдье ночной улицы не пугали Крошку Доррит, но стоило ей заслышать в отдалении чьи-то шаги или увидеть, как чья-то тень метнулась от фонаря к фонарю, она вздрагивала и шептала: – Мэгги, кто-то идет. Пойдем отсюда! – И Мэгги просыпалась, недовольно сопя, и они уходили в сторону от тюрьмы, но когда все стихало, опять возвращались на прежнее место.
Вначале Мэгги, увлеченная едой, держалась довольно бодро. Но мало-помалу это занятие потеряло для нее прелесть новизны, и тогда она начала хныкать и жаловаться на холод. – Потерпи, моя хорошая, уже немного осталось, – ласково уговаривала ее Крошка Доррит. – Да, вам-то легко, маменька, – возражала Мэгги, – а каково мне, бедненькой, ведь мне всего десять лет.
Комната, на пороге которой стояла Крошка Доррит, показалась ей просторной и роскошно обставленной. Знаменитые ковент-гарденские кофейни, где джентльмены в шитых золотом кафтанах и при шпагах затевали ссоры и дрались на дуэлях; живописный ковент-гарденский рынок, где зимой продавались цветы по гинее за штуку, ананасы по гинее за фунт и зеленый горошек по гинее за чашку; великолепный ковент-гарденский театр, где разодетые дамы и кавалеры смотрели увлекательные представления, какие и не снились бедной Фанни и бедному дядюшке; мрачные ковент-гарденские аркады, где оборванные ребятишки жались друг к другу, чтобы согреться, шныряли точно крысы в поисках отбросов и точно крысы разбегались от погони (бойтесь крыс, уважаемые Полипы, бойтесь крыс, молодых и старых, ибо, видит бог, они подгрызают фундамент здания, в котором мы живем, и рано или поздно оно обрушится нам на голову!); Ковент-Гарден, где тайны минувших дней соседствуют с тайнами нового времени, романтика с житейскими буднями, изобилие с нуждой, красота с безобразием, аромат цветников со зловонием сточных канав, – все эти пестрые видения роились в голове Крошки Доррит, затуманивая вид и без того полутемной комнаты, куда она робко заглядывала с порога.
Однако она сразу увидела того, кого искала, – человека с печальным загорелым лицом, который улыбался так ласково, говорил так сердечно и деликатно и все же своей прямой манерой обращения напоминал ей миссис Кленнэм, только у матери прямота шла от суровости, а у сына от благородства души. Когда она вошла, он сидел в кресле перед потухшим камином, но, услышав ее голос, оглянулся и встал, и теперь смотрел на нее тем пытливым, внимательным взглядом, перед которым она всегда опускала глаза – опустила и теперь.
– Мое бедное дитя! Вы здесь, в такой час!
– Я знала, что вы будете удивлены, сэр. Я потому нарочно и сказала: «Крошка Доррит», чтобы предупредить вас.
– Вы одна?
– Нет, сэр; со мной Мэгги.
Услышав свое имя, Мэгги сочла, что ее появление достаточно подготовлено, и ступила на порог, растянув рот до ушей в приветственной улыбке. Впрочем, она тотчас же согнала с лица этот знак веселья и приняла торжественно сосредоточенный вид.
– А у меня уже погас огонь в камине, – сказал Кленнэм, – а вы так… – он хотел сказать «так легко одеты», но спохватился, что это было бы намеком на ее бедность, и сказал. – А вечер такой холодный.
Он усадил ее в свое кресло, придвинув его поближе к камину, потом принес дров, угля и развел огонь.
– У вас ноги совсем ледяные, дитя мое (стоя на коленях и возясь с дровами, он нечаянно коснулся ее ноги), протяните их к огню. – Но Крошка Доррит торопливо поблагодарила и стала уверять, что ей тепло, очень тепло! У Кленнэма сжалось сердце: он понял, что она не хочет показывать свои худые, стоптанные башмаки.
Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных башмаков. Кленнэм знал о ней все, и ей не приходилось перед ним стыдиться. Крошку Доррит беспокоило другое: не осудил бы он ее отца, увидя, в каких она башмаках, не подумал бы: «Как может он спокойно есть свой обед в то время, как это маленькое существо чуть не босиком ходит по холодному камню!» Не то, чтобы ей самой казался справедливым этот упрек; просто она по опыту знала, что подобные нелепые мысли иногда приходят людям в голову – к несчастью для ее отца!
– Прежде всего, – начала Крошка Доррит, греясь у бледного пламени камина и снова подняв глаза на того, чье живое участие, сострадание и покровительство казалось ей непонятной загадкой, – прежде всего мне хотелось сказать вам кое-что.
– Я вас слушаю, дитя мое.
Легкая тень прошла по ее лицу; ее огорчало, что он обращается к ней как к ребенку. Она не ожидала, что он подметит это, но к ее удивлению он тотчас же сказал:
– Я искал ласкового обращения и ничего другого не придумал. Вы сами только что назвали себя именем, которым вас зовут в доме у моей матери; позвольте же и мне называть вас так, тем более что в мыслях я всегда употребляю это имя: Крошка Доррит.
– Благодарю вас, сэр; это имя мне очень нравится.
– Крошка Доррит.
– Никакая не Крошка, а маменька, – наставительно поправила Мэгги, уже совсем было задремавшая.
– Это одно и то же, Мэгги, – успокоила ее Крошка Доррит, – одно и то же.
– Совсем одно и то же, маменька?
– Да, да, совсем.
Мэгги рассмеялась и тотчас же захрапела. Но для Крошки Доррит в этой нелепой фигуре и в этих вульгарных звуках не было ничего безобразного. Маленькая маменька даже как будто гордилась своим неуклюжим ребенком, и глаза ее сияли, когда она вновь посмотрела в печальное, загорелое лицо того, к кому пришла. Ей было любопытно, какие мысли приходят ему в голову, когда он смотрит на нее и на Мэгги. Она думала о том, как счастлива была бы дочь человека, у которого такое лицо, каким бы он был заботливым, любящим отцом.
– Я хотела сказать вам, сэр, – снова начала Крошка Доррит, – что мой брат выпушен на свободу.
Артур был очень рад это слышать и выразил надежду, что теперь все у него пойдет хорошо.
– И еще я хотела сказать вам, сэр, – продолжала Крошка Доррит, с дрожью в голосе и во всем своем маленьком теле, – что мне запрещено знать, кому он обязан своей свободой, запрещено спрашивать об этом, запрещено догадываться, запрещено высказать этому великодушному человеку, как безгранично я ему благодарна!
Ему, верно, не требуется благодарности, заметил Кленнэм. Он, может быть, сам (и с полным основанием) благодарит судьбу, что она дала ему случай и средство оказать маленькую услугу той, которая заслуживает гораздо большего.
– И еще я хочу сказать, сэр, – продолжала Крошка Доррит, дрожа все сильней и сильней, – что, если бы я знала его и могла говорить, я бы сказала ему, что никогда, никогда он не сможет представить себе, как глубоко я тронута его добротой и как был бы тронут ею мой добрый отец. И еще я хочу сказать, сэр, что, если бы я знала его и могла говорить – но я его не знаю, и я помню, что должна молчать! – я бы сказала ему, что до конца моей жизни я буду каждый вечер молиться за него. И если бы я знала его, если бы я могла, я стала бы перед ним на колени, и целовала бы ему руку, и умоляла бы не отнимать ее – хоть одно мгновение! – чтобы я могла пролить на нее слезы благодарности, потому что больше мне нечем его отблагодарить!
Крошка Доррит прижалась губами к его руке и хотела было опуститься на колени, но он мягко удержал ее и усадил снова в кресло. Ее взгляд, ее взволнованный голос были для него самой лучшей благодарностью, хоть она не догадывалась об этом. С трудом преодолевая собственное волнение, он сказал:
– Ну, полно, полно, Крошка Доррит! Будем считать, что вы узнали, кто этот человек, и что вы все это имели возможность исполнить и даже исполнили. И теперь забудьте об этом человеке и расскажите мне – не ему, а мне, вашему другу, которым вы всегда можете располагать, – почему вы бродите по улицам в такой поздний час и что завело вас чуть не в полночь так далеко от дома, мое милое… – «дитя», чуть было не сорвалось опять у него с языка, – моя милая маленькая Крошка Доррит?
– Мы с Мэгги нынче были в театре, – сказала она, привычным усилием справившись со своими чувствами, – в театре, где у моей сестры ангажемент.
– Ой, до чего же там хорошо! – неожиданно отозвалась Мэгги, видимо обладавшая способностью засыпать и просыпаться в любую минуту по своему усмотрению. – Не хуже, чем в больнице. Только что курятины не дают.
Она слегка поежилась и снова заснула.
– Мне иногда хочется своими глазами взглянуть, как идут дела у сестры, вот мы туда и отправились, – пояснила Крошка Доррит. – Люблю иногда посмотреть на нее издали, так, чтобы ни она, ни дядя не знали. Правда, мне это редко удается, ведь если я не ухожу на работу, так сижу с отцом, а если и ухожу, так всегда спешу к нему вернуться. Но сегодня я ему сказала, что иду на бал.
Робко и нерешительно произнеся это признание, она снова подняла глаза на Кленнэма, и так ясно прочитала на его лице вопрос, что поторопилась ответить:
– О нет, что вы! Я ни разу в жизни не была на балу. И немного помедлив под его внимательным взглядом, добавила:
– Я надеюсь, что тут нет большого греха. Приходится иной раз выдумывать немножко, ради их же пользы.
Она боялась, что он мысленно осуждает ее за эти уловки, помогающие ей заботиться о своих родных, думать о них, оберегать их без их ведома и благодарности, быть может, даже навлекая на себя упреки в недостатке внимания. Но у Кленнэма в мыслях было совсем другое – он думал о необыкновенной силе духа, сокрытой в этой слабенькой девушке, об ее стоптанных башмаках и поношенном платьице, об ее несуществующих, выдуманных развлечениях. Где же этот бал, куда она будто бы отправилась, спросил он. В одном доме, где ей часто случается работать, отвечала, покраснев, Крошка Доррит. Она не стала путаться в подробностях перед отцом; просто сказала в двух словах, чтобы он не беспокоился. Отец не должен был думать, что речь идет о каком-то настоящем великосветском бале – да ему это вряд ли и пришло бы в голову. Она покосилась на свою плохонькую шаль.
– Мне еще никогда не случалось уходить из дому на всю ночь, – сказала Крошка Доррит. – Лондон кажется таким большим, таким чужим, таким пустынным.
Крошка Доррит вздрогнула, говоря эти слова; огромный город, раскинувшийся под черным небом, пугал ее.
– Но я не потому решилась обеспокоить вас, сэр, – продолжала она, снова овладев собою. – Моя сестра свела знакомство с какой-то дамой, и ее рассказы об этом знакомстве встревожили меня, вот я и отправилась сегодня в театр. А проходя мимо вашего дома, я увидела свет в окне, и…
Не в первый раз. Нет, не в первый раз. Уже много вечеров свет в этом окне, точно далекая звездочка, манил Крошку Доррит. И нередко, усталая и измученная, она возвращалась в Маршалси кружным путем, чтоб только пройти мимо дома, где жил вернувшийся из дальних стран человек с печальным, загорелым лицом, который говорил с ней как друг и покровитель.
– И вот я надумала подняться к вам, чтобы поговорить о трех вещах, о которых мне очень нужно вам сказать. Первое, это то, что я уже пыталась, но не могу… не должна…
– Тсс, тсс! Мы ведь уже уговорились, что с этим покончено. Перейдем ко второму, – сказал Кленнэм, успокаивая ее ласковой улыбкой. Он помешал в камине, чтобы пламя разгорелось ярче, и поставил на столик перед ней вино, пирожное и фрукты.
– Второе вот что, сэр, – сказала Крошка Доррит, – мне кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну – узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Иначе говоря, – где я живу.
– Вот как? – живо откликнулся Кленнэм и, немного помолчав, спросил, почему она так думает?
– Мне кажется, мистер Флинтвинч выследил меня, – сказала Крошка Доррит.
Кленнэм помолчал еще немного, сдвинув брови и глядя в огонь; потом снова спросил: а почему она так думает?
– Я два раза повстречала его. Оба раза недалеко от дома. Оба раза вечером, когда возвращалась с работы. Оба раза у него был такой вид, что мне эта встреча показалась не случайной – хоть, может быть, я и ошибаюсь.
– Он вам что-нибудь говорил?
– Нет, только кивнул и прошел мимо, склонив голову набок.
– Черт бы его побрал с его головой, – задумчиво пробормотал Кленнэм, не отводя глаз от огня, – она у него всегда набок.
Опомнившись, он стал уговаривать ее выпить вина, съесть хоть кусочек чего-нибудь – трудная задача, принимая во внимание ее робость и застенчивость, – потом спросил прежним задумчивым тоном:
– А моя мать не переменилась к вам?
– О нет, ничуть. Она такая же, как всегда. Но я подумала, может быть, рассказать ей всю свою историю. Я подумала, может быть, вы сочли бы это правильным. Я подумала, – Крошка Доррит умоляюще вскинула на него глаза и тотчас же снова опустила их, встретив его взгляд, – может быть, вы посоветуете, что мне делать.
– Крошка Доррит, – сказал Кленнэм; это имя, смотря по тому, как и когда оно произносилось, уже начинало служить им обоим заменой множества ласковых имен, – не делайте ровно ничего. Я попробую поговорить с моим старым другом, миссис Эффери. – Ничего не нужно делать, Крошка Доррит, разве только подкрепить сейчас свои силы тем, что стоит на столе. Вот об этом я вас прошу от всей души.
– Благодарю вас, но мне, право же, совсем не хочется есть. И пить тоже не хочется, – добавила Крошка Доррит, заметив, что он тихонько подвинул к ней стакан. – Вот, может быть, Мэгги…
– Непременно, – сказал Кленнэм. – И я надеюсь, что у нее в карманах найдется место для всего, что она не успеет съесть здесь. Но прежде чем мы ее разбудим – ведь вы собирались сказать мне еще что-то, третье?
– Да. Только вы не обидитесь, сэр?
– Обещаю, о чем бы ни шла речь.
– Вам, верно, это покажется странным. Не знаю, как и сказать. Только не сочтите это прихотью или неблагодарностью с моей стороны, – говорила Крошка Доррит, снова невольно поддаваясь волнению.
– Нет, нет, нет. Я заранее уверен, что все, что вы скажете, будет разумным и справедливым. И я ничуть не опасаюсь неверно истолковать ваши слова.
– Благодарю вас, сэр. Вы решили еще раз навестить моего отца?
– Да.
– И вы собираетесь сделать это завтра – по крайней мере вы были так добры и внимательны, что предупредили его об этом запиской.
– Да – но стоит ли говорить о таких пустяках!
– Так вот, я хочу просить вас не делать кое-чего, – сказала Крошка Доррит, крепко сжав свои маленькие ручки и устремив на него взгляд, в который она вложила, казалось, всю свою душу. – Вы не догадываетесь, чего именно?
– Пожалуй, догадываюсь. Но я могу и ошибаться.
– Нет, вы не ошибаетесь, – сказала Крошка Доррит, покачав головой. – Если нам будет так трудно, так трудно, что мы не сможем без этого обойтись, тогда я сама попрошу у вас, хорошо?
– Хорошо. Пусть будет по-вашему.
– Не поощряйте его. А если он станет просить, делайте вид, что вы не понимаете просьб. И не давайте ему ничего. Пощадите его, избавьте от этого унижения и вам тогда легче будет его уважать.
Слезы заблестели в ее полных тревоги глазах, и Кленнэм дрогнувшим голосом поспешил ответить, что ее желание для него священно.
– Вы ведь его не знаете по-настоящему, – сказала она. – Не знаете и не можете знать. Вы только видите, до чего он дошел, бедный мой, дорогой мой отец, но вы не видели всего, что его довело до этого. А я видела и знаю! И оттого, что вы были так добры к нам, отнеслись с таким чутким участием, мне особенно хочется, чтобы вы думали о нем лучше. Для меня нестерпима мысль, – вскричала Крошка Доррит, закрыв лицо руками, – для меня нестерпима мысль, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения!
– Ну, не надо так убиваться, – сказал Кленнэм. – Право, не надо, Крошка Доррит. Я все понял, уверяю вас.
– Благодарю вас, сэр. Благодарю! Я всячески старалась избежать этого разговора, день и ночь думала, как мне быть; но когда я узнала, что вы обещались прийти к нам завтра, я решилась. Только это не потому, чтобы я стыдилась своего отца, – она быстро вытерла слезы, – а потому, что я знаю его, как никто не знает, и люблю его и горжусь им.
Высказав то, что камнем лежало у нее на душе, Крошка Доррит заторопилась уходить. У Мэгги сна уже как не бывало; она пожирала глазами пирожное и фрукты, ухмыляясь в приятном ожидании. Кленнэм, желая отвлечь Крошку Доррит от печальных мыслей, налил ее подопечной стакан вина, который та немедленно выпила, причем после каждого глотка громко причмокивала, поглаживая себя по горлу, и приговаривала замирающим голосом, закатив глаза под самый лоб: «Ох, и вкусно! Ну прямо как в больнице!» Когда же с вином и с восторгами было покончено, он просил ее сложить все угощение в свою корзинку (Мэгги никогда не выходила без корзинки), да позаботиться, чтобы на столе ничего не осталось. Радость, с которой Мэгги бросилась исполнять его просьбу, и радость маленькой маменьки при виде радости Мэгги убедили Кленнэма, что лучшего завершения разговора и придумать нельзя было.
– Но ведь ворота уже давным-давно заперты, – вдруг спохватился Кленнэм. – Куда же вы пойдете?
– Я буду ночевать у Мэгги, – ответила Крошка Доррит, – Мне там будет очень хорошо и покойно.
– В таком случае, я провожу вас, – сказал Кленнэм. – Я не могу отпустить вас одних в такой час.
– Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, – взмолилась Крошка Доррит. – Я вас очень, очень прошу!
Она просила так убедительно, что Кленнэм счел неделикатным настаивать – тем более, что ему нетрудно было представить себе убогое жилье Мэгги.
– Пойдем, Мэгги, – весело сказала Крошка Доррит, – мы отлично дойдем одни; дорогу мы знаем, верно, Мэгги?
– Верно, маменька, дорогу мы знаем, – прыснув со смеху, сказала Мэгги.
И они ушли; но прежде чем переступить порог, Крошка Доррит оглянулась и сказала: «Благослови вас бог!» Она сказала это совсем тихо, но как знать! – быть может, там, в вышине, ее слова были слышны не хуже, чем если б их пропел целый соборный хор.
Артур Кленнэм выждал, покуда они завернут за угол, и незаметно последовал за ними. У него не было намерения навязывать свое присутствие Крошке Доррит там, где оно оказалось бы нежеланным, но он хотел убедиться, что она благополучно добралась до знакомого квартала. Такой крохотной, такой хрупкой и беззащитной в сырой холодной мгле казалась ее фигурка, полускрытая колышущейся тенью ее подопечной, что Кленнэму, который привык смотреть на нее как на ребенка, захотелось взять ее на руки и понести.
Но вот они вышли на широкую улицу, в конце которой находилась тюрьма Маршалси, и Кленнэм увидел, как они слегка замедлили шаг, а потом свернули в переулок. Он остановился, чувствуя себя не вправе идти дальше, и, постояв немного, нерешительно повернул назад. Ему и в голову не приходило, что им грозит опасность всю ночь провести на улице; и лишь много, много времени спустя он узнал правду.
Убогий домишко, к которому они подошли, был весь погружен в темноту, и ни звука не доносилось из-за запертой двери. Тогда Крошка Доррит сказала своей подопечной:
– Мэгги, тебе на этой квартире живется хорошо, и поэтому не следует вызывать неудовольствие хозяев. Постучимся тихонько раз и другой; а если нам не отворят, придется ждать до утра.
Крошка Доррит осторожно постучала в дверь и прислушалась. Еще раз осторожно постучала в дверь и еще раз прислушалась. Все было тихо.
– Ничего не поделаешь, милая Мэгги. Запасемся терпением и будем ждать утра.
Ночь была сырая и темная, холодный ветер пронизывал до костей, и когда они вновь очутились на улице, которая вела к Маршалси, где-то рядом часы пробили половину второго. – Еще каких-нибудь пять с половиной часов, – сказала Крошка Доррит, – и можно будет идти домой. – Заговорив о доме, который находился так близко, естественно было пойти взглянуть на него. Они подошли к запертым воротам тюрьмы и заглянули сквозь решетку в наружный дворик. – Надеюсь, отец мирно спит и не тревожится обо мне, – сказала Крошка Доррит, целуя холодное железо.
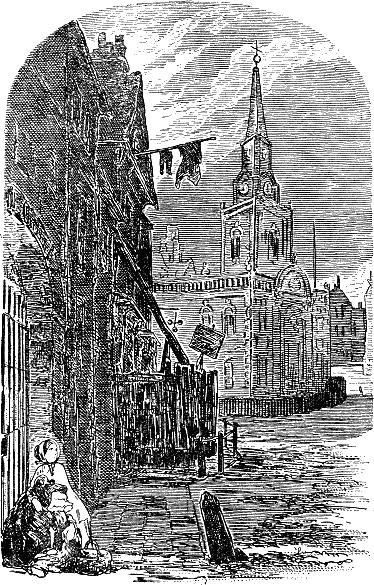
От ворот, таких привычных и знакомых, словно веяло дружеским теплом. Они поставили в уголок корзинку Мэгги и уселись на нее, тесно прижавшись друг к другу. Тишина и безлюдье ночной улицы не пугали Крошку Доррит, но стоило ей заслышать в отдалении чьи-то шаги или увидеть, как чья-то тень метнулась от фонаря к фонарю, она вздрагивала и шептала: – Мэгги, кто-то идет. Пойдем отсюда! – И Мэгги просыпалась, недовольно сопя, и они уходили в сторону от тюрьмы, но когда все стихало, опять возвращались на прежнее место.
Вначале Мэгги, увлеченная едой, держалась довольно бодро. Но мало-помалу это занятие потеряло для нее прелесть новизны, и тогда она начала хныкать и жаловаться на холод. – Потерпи, моя хорошая, уже немного осталось, – ласково уговаривала ее Крошка Доррит. – Да, вам-то легко, маменька, – возражала Мэгги, – а каково мне, бедненькой, ведь мне всего десять лет.
