Страница:
Галисийские «алала» денно и нощно штурмуют стены Сарагосы и не могут их одолеть, а отзвуки муиньейры тем временем проникли в обрядовые песни и танцы южных цыган. Гранадские мавры донесли севильяну в ее первозданном виде до Туниса, а на север, за Гвадарраму, ей вообще не удалось продвинуться, да и в Ла-Манче она уже сменила ритм и облик.
Что до колыбельных, то андалузское влияние преодолело море, а севера так и не коснулось. Мелодии и ритмы андалузского баюканья населили южный Левант и легко узнаются в каком-нибудь балеарском «ву-вей-ву», а из Кадиса они доплыли до Канарских островов, где не утратили андалузского акцента в милых канарских «арроро».
Можно составить мелодическую карту Испании и по ней наблюдать, как стираются границы провинций, как идет круговорот жизненных соков при вдохе и выдохе времен года. И различить ту прочную основу, что скрепляет иберийскую мозаику, тот облачный остов над ливнем, который с беззащитной чуткостью моллюска сжимается при любом вторжении чуждого и, переждав беду, вновь набухает густыми и древними соками Испании.
1928
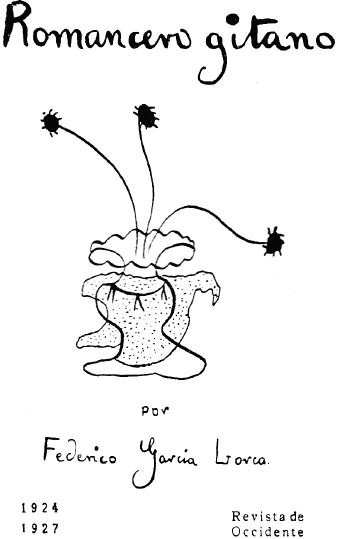
Цыганское романсеро
Романс о луне, луне
Пресьоса и ветер
Схватка
Сомнамбулический романс
Романс о черной тоске
Неверная жена
Цыганка-монахиня
Сан-Мигель. Гранада
Сан-Рафаэль. Ко́рдова
I
II
Сан-Габриэль. Севилья
I
II
Как схватили Антоньито Эль Камборьо на севильской дороге
Смерть Антоньито Эль Камборьо
Загубленный любовью
Романс обреченного
Романс об испанской жандармерии
Что до колыбельных, то андалузское влияние преодолело море, а севера так и не коснулось. Мелодии и ритмы андалузского баюканья населили южный Левант и легко узнаются в каком-нибудь балеарском «ву-вей-ву», а из Кадиса они доплыли до Канарских островов, где не утратили андалузского акцента в милых канарских «арроро».
Можно составить мелодическую карту Испании и по ней наблюдать, как стираются границы провинций, как идет круговорот жизненных соков при вдохе и выдохе времен года. И различить ту прочную основу, что скрепляет иберийскую мозаику, тот облачный остов над ливнем, который с беззащитной чуткостью моллюска сжимается при любом вторжении чуждого и, переждав беду, вновь набухает густыми и древними соками Испании.
1928
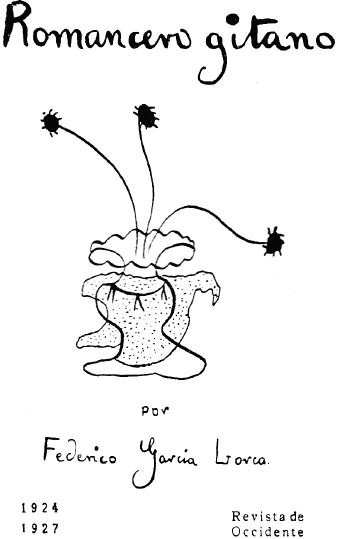
Цыганское романсеро
Романс о луне, луне
Перевод А. Гелескула
Луна в цыганскую кузню
вплыла жасмином воланов.
И смотрит, смотрит ребенок,
и глаз не сводит, отпрянув.
Луна закинула руки
и дразнит ветер полночный
своей оловянной грудью,
бесстыдной и непорочной.
– Луна, луна моя, скройся!
Если вернутся цыгане,
возьмут они твое сердце
и серебра начеканят.
– Не бойся, мальчик, не бойся,
взгляни, хорош ли мой танец!
Когда вернутся цыгане,
ты будешь спать и не встанешь.
– Луна, луна моя, скройся!
Мне конь почудился дальний.
– Не трогай, мальчик, не трогай
моей прохлады крахмальной!
Летит запоздалый всадник
и бьет в барабан округи.
На ледяной наковальне
сложены детские руки.
Прикрыв печальные веки,
одни в ночной глухомани,
из-за олив выходят
бронза и сон – цыгане.
Где-то сова зарыдала —
так безутешно и тонко!
За ручку в темное небо
луна уводит ребенка.
Вскрикнули в кузне цыгане,
замерло эхо в горниле…
А ветры пели и пели.
А ветры след хоронили.
Пресьоса и ветер
Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно,
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
бежит тишина в обрывы,
где море в недрах колышет
полуночь, полную рыбы.
На скалах солдаты дремлют
в беззвездном ночном молчанье
на страже у белых башен,
в которых спят англичане.
А волны, цыгане моря,
играя в зеленом мраке,
склоняют к узорным гротам
сосновые ветви влаги…
Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно.
И обортнем полночным
к ней ветер спешит навстречу.
Святым Христофором вырос
нагой великан небесный —
и мех колдовской волынки,
поет голосами бездны.
– О, дай мне скорей, цыганка,
откинуть подол твой белый!
Раскрой в моих древних пальцах
лазурную розу тела!
Пресьоса роняет бубен
и в страхе летит, как птица.
За нею косматый ветер
с мечом раскаленным мчится.
Застыло дыханье моря,
забились бледные ветви,
запели флейты ущелий,
и гонг снегов им ответил.
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир неземного леса
в зарницах нездешней речи…
Пресьоса, полная страха,
бежит по крутым откосам
к высокой, как сосны, башне,
где дремлет английский консул.
Дозорные бьют тревогу,
и вот уже вдоль ограды,
к виску заломив береты,
навстречу бегут солдаты.
Несет молока ей консул,
спешит унять лихорадку
стаканчиком горькой водки,
но ей без того несладко.
Она и словечка молвить
не может от слез и дрожи.
А ветер верхом на кровле,
хрипя, черепицу гложет.
Схватка
В токе враждующей крови
над котловиной лесною
нож альбасетской работы
засеребрился блесною.
Отблеском карты атласной
луч беспощадно и скупо
высветил профили конных
и лошадиные крупы.
Заголосили старухи
в гулких деревьях сьерры.
Бык застарелой распри
ринулся на барьеры.
Черные ангелы стелют
снежную пряжу по скалам.
Черными крыльями стынет
сталь с альбасетским закалом.
Монтилец Хуан Антоньо
листом покатился палым.
В лиловых ирисах тело,
над левой бровью – гвоздика.
И огненный крест венчает
дорогу смертного крика.
Судья с отрядом жандармов
идет масличной долиной.
А кровь змеится и стонет
немою песней змеиной.
– Так повелось, сеньоры,
с первого дня творенья.
В Риме троих недочтутся
и четверых в Карфагене.
Полная бреда смоковниц
и отголосков каленых,
заря без памяти пала
к ногам израненных конных.
И ангел черней печали
тела окропил росою.
Ангел с оливковым сердцем
и смоляною косою.
Сомнамбулический романс
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
Ночами, по грудь в тумане,
она у перил сидела —
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Любовь моя, цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
весь мир с нее глаз не сводит —
и только она не видит.
Любовь моя, цвет зеленый.
Скользнули потемки в воду,
серебряный иней звездный
торит дорогу восходу.
Смоковница чистит ветер
наждачной своей листвою.
Гора одичалой кошкой
встает, ощетиня хвою.
Но кто придет? И откуда?
Навеки все опустело —
и снится горькое море
ее зеленому телу.
– Земляк, я коня лихого
сменял бы на эту кровлю,
седло – на зеркальце милой
и нож – на край изголовья.
Земляк, я из дальней Кабры
иду, истекая кровью.
– Будь воля на то моя,
была бы и речь недолгой.
Да я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
– Земляк, на стальной кровати
с голландскою простынею
хочу умереть, как люди,
оплаканные роднею.
Не видишь ты эту рану
от горла и до ключицы?
– Все кровью пропахло, парень,
и кровью твоей сочится,
а грудь твоя в темных розах
и смертной полна истомой.
Но я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
– Так дай хотя бы подняться
на ту высокую крышу!
К перилам лунного света,
туда, где море услышу.
И поднялись они оба
к этим перилам зеленым.
И след остался кровавый.
И был от слез он соленым.
Фонарики тусклой жестью
блестели в рассветной рани.
И сотней стеклянных бубнов
был утренний сон изранен.
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
И вот уже два цыгана
стоят у перил железных.
Полынью, мятой и желчью
дохнуло с дальнего кряжа.
– Где же, земляк, она, – где же
горькая девушка наша?
Столько ночей дожидалась!
Столько ночей серебрило
темные косы, и тело,
и ледяные перила!
Из зеркала водяного,
качаясь, она глядела —
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Баюкала зыбь цыганку,
и льдинка луны блестела.
И ночь была задушевной,
как тихий двор голубиный,
когда патруль полупьяный
вбежал, сорвав карабины…
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
Романс о черной тоске
Петух зарю высекает,
звеня кресалом каленым,
когда Соледад Монтойя
спускается с гор по склонам.
Желтая медь ее тела
пахнет конем и туманом.
Груди, черней наковален,
стонут напевом чеканным.
– Кого, Соледад, зовешь ты
и что тебе ночью надо?
– Зову я кого зовется, —
не ты мне вернешь утрату.
Искала я то, что ищут, —
себя и свою отраду.
– О Соледад, моя мука!
Ждет море коней строптивых,
и кто удила закусит —
погибнет в его обрывах.
– Не вспоминай о море!
Словно могила пустая,
стынут масличные земли,
черной тоской порастая.
– О Соледад, моя мука!
Что за тоска в этом пенье!
Плачешь ты соком лимона,
терпким от губ и терпенья.
– Что за тоска!.. Как шальная
бегу и бьюсь я о стены,
и плещут по полу косы,
змеясь от кухни к постели.
Тоска!.. Смолы я чернее
и черной тьмою одета.
О юбки мои кружевные!
О бедра мои – страстоцветы!
– Омойся росой зарянок,
малиновою водою,
и бедное свое сердце
смири, Соледад Монтойя…
Плеснули певчие реки
крылом листвы и зенита.
Новорожденное утро
цветами тыквы повито.
Тоска цыган вековая
чиста и так одинока!
Тоска иного рассвета
и потайного истока…
Неверная жена
И в сумерках на излуку
увел я жену чужую,
а думал найти подругу.
То было ночью Сант-Яго,
и, словно сговору рады,
в округе огни погасли
и замерцали цикады.
Я сонных грудей коснулся,
последний проулок минув,
и жарко они раскрылись
кистями ночных жасминов.
А юбки, шурша крахмалом,
в ушах у меня дрожали,
как шелковая завеса,
раскромсанная ножами.
Врастая в безлунный сумрак,
ворчали деревья глухо,
и дальним собачьим лаем
за нами гналась округа…
За голубой ежевикой
у тростникового плеса
я в белый песок впечатал
ее смоляные косы.
Я сдернул шелковый галстук.
Слетела шаль ее следом.
Легли четыре корсажа,
На мой ремень с пистолетом.
Ее жасминная кожа
светилась жемчугом теплым,
нежнее лунного света,
когда он льется по стеклам.
А бедра ее метались,
как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнем горели.
И лучшей в мире дорогой
до первой утренней птицы
меня несла этой ночью
атласная кобылица…
Тому, кто слывет мужчиной,
нескромничать не пристало,
и я повторять не стану
слова, что она шептала.
В песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
Кинжалы трефовых лилий
вдогонку рубили ветер.
Я вел себя так, как должно,
цыган до смертного часа.
Я дал ей ларец на память
и больше не стал встречаться.
Поверил я обещаньям,
когда повел на излуку.
Но лгунья была замужней,
а я ведь искал подругу.
Цыганка-монахиня
Безмолвье мирта и мела.
И мальвы в травах ковровых.
Она левкой вышивает
на желтой ткани покрова.
Кружится свет семиперый
над серою сетью лампы.
Собор, как медведь цыганский,
ворчит, поднимая лапы.
А шьет она так красиво!
Склонясь над иглой в экстазе,
всю ткань бы она покрыла
цветами своих фантазий!
Какие банты магнолий
в росинках блесток стеклянных!
Как лег на складки покрова
узор луны и шафрана!
Пять апельсинов с кухни
дохнули прохладой винной.
Пять сладостных ран Христовых
из альмерийской долины.
В зрачках раздвоился всадник
и сник за стеклом оконным.
Тугую грудь колыхнуло
последним отзвуком конным.
И от далеких нагорий
с дымною мглой по ущельям
сжалось цыганское сердце,
полное медом и хмелем.
Как накренилась равнина
и полыхнула закатом!
Как запрокинулись реки
и понесли к перекатам!..
Но снова цветы на ткани,
И, по-вечернему кроткий,
в шахматы с ветром играет
свет за оконной решеткой.
Сан-Мигель. Гранада
Горы, и горы, и горы,
и на горах полусонных
мулы и тени от мулов,
грузные, словно подсолнух.
В вечных потемках ущелий
взгляд их теряется грустно.
Хрустом соленых рассветов
глохнут воздушные русла.
У белогривого неба
ртутные очи померкли,
дав холодеющей тени
успокоение смерти.
И, чтоб никто их не трогал,
стынут, безумны и голы,
стужей повитые реки,
горы, и горы, и горы…
В тиши своей голубятни,
на башне в зелени хмеля
кольцом огней опоясан
высокий стан Сан-Мигеля.
В руке полночные стрелки
спаяв меча крестовиной,
ручной архангел рядится
в пернатый гнев соловьиный.
Дыша цветочным настоем,
в тоске по свежим полянам
эфеб трехтысячной ночи
поет в ковчеге стеклянном.
Танцует ночное море
поэму балконов лунных.
Сменила тростник на шепот
луна в золотых лагунах.
Красотки, соря лузгою,
стекаются к парапетам.
Во мраке смутные крупы
подобны медным планетам.
Гуляет знать городская,
и дамы с грустною миной,
смуглея, бредят ночами
своей поры соловьиной.
И на торжественной мессе,
слепой, лимонный и хилый,
мужчин и женщин с амвона
корит епископ Манилы.
Один Сан-Мигель на башне
покоится среди мрака,
унизанный зеркалами
и знаками зодиака, —
владыка нечетных чисел
и горних миров небесных
в берберском очарованье
заклятий и арабесок.
Сан-Рафаэль. Ко́рдова
I
Сумрачно стынут повозки
за тростниками, где струи
ластятся к римскому торсу,
мрамор нагой полируя.
Гвадалквивир вереницей
катит их в зеркале светлом
по грозовым отголоскам
и гравированным веткам.
И, доплетая циновки,
дети о горестях мира
поют у старых повозок,
во тьме затерянных сиро.
Но Ко́рдову не печалят
ни мир, ни его обманы,
и как ни возводит сумрак
затейливые туманы —
нетленной стопою мрамор
впечатан в откос песчаный.
И хрупким узором жести
дрожат лепестки флюгарок
на серой завесе бриза
поверх триумфальных арок.
И десять вестей Нерея
мостами спешат к атланту,
пока сквозь проломы вносят
табачную контрабанду.
II
Одна лишь речная рыбка
иглой золотой сметала
Ко́рдову ласковых плавней
с Ко́рдовою порталов.
Сбрасывают одежды
дети с бесстрастным видом;
тоненькие Мерлины,
ученики Товита,
они золотую рыбку
лукавой загадкой бесят,
самой предлагая выбрать
вино или полумесяц.
Но рыбка их заставляет,
туманя мрамор холодный,
перенимать равновесье
у одинокой колонны,
где сарацинский архангел,
блеснув чешуей доспеха,
когда-то в волнах гортанных
обрел колыбель и эхо…
Одна золотая рыбка.
Две Ко́рдовы под луною.
Расколотая теченьем
наедине с неземною.
Сан-Габриэль. Севилья
I
Высокий и узкобедрый,
стройней тростников лагуны,
идет он, кутая тенью
глаза и грустные губы;
поют горячие вены
серебряною струною,
а кожа в ночи мерцает,
как яблоки под луною.
И туфли мерно роняют
в туманы лунных цветений
два такта грустных и кратких
как траур облачной тени.
И нет ему в мире равных —
ни пальмы в песках кочевий,
ни короля на троне,
ни в небе звезды вечерней.
Когда над яшмовой грудью
лицо он клонит в моленье,
ночь на равнину выходит,
чтобы упасть на колени.
И укротителя горлиц,
чуждого ивам печальным,
Сан-Габриэля встречают
звоном гитар величальным.
– Когда в материнском лоне
зальется дитя слезами,
ты вспомни про тех цыганок,
что бисер тебе низали!
II
Анунсиасьон де лос Рейес
окраиною ночною
проходит, кутая плечи,
лохмотьями и луною.
И с лилией и улыбкой
Хиральды прекрасный правнук,
стоит Габриэль-архангел —
и нет ему в мире равных.
Таинственные цикады
по бисеру замерцали.
А звезды по небосклону
рассыпались бубенцами.
– О Сан-Габриэль, трикратно
меня пронизало счастье!
Сиянье твое жасмином
мои холодит запястья.
– Пошли тебе Бог отраду,
о смуглое чудо света!
Дитя у тебя родится
прекрасней ночного ветра.
– Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Сплела б тебе в изголовье
гвоздики и горицветы!
– Пошли тебе Бог отраду,
звезда под бедным нарядом!
Найдешь ты в груди сыновней
три раны с родинкой рядом.
– Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Как ноет под левой грудью,
теплом молока согретой!
– Пошли тебе Бог отраду,
сто внуков на ста престолах!
Твои горючие очи
тоскливей пустошей голых.
Дитя запевает в лоне
у матери изумленной.
Дрожит в голосочке песня
миндалинкою зеленой.
Архангел растаял в небе
над улицами пустыми…
А звезды на небосклоне
бессмертниками застыли.
Как схватили Антоньито Эль Камборьо на севильской дороге
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо в третьем колене,
шел с веткой ивы в Севилью
смотреть быков на арене.
И были зеленолунны
его смуглоты отливы.
Блестело, упав на брови,
крыло вороненой гривы.
Лимонов на полдороге
нарвал он в тени привала
и долго бросал их в воду,
пока золотой не стала.
И где-то на полдороге,
под тополем на излуке,
ему впятером жандармы
назад заломили руки.
День отступает к морю,
закат на плечо набросив,
и стелет багряный веер
поверх ручьев и колосьев.
И снится ночь Козерога
оливам пустоши жгучей,
а конный ветер гарцует,
будя свинцовые кручи.
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо в третьем колене,
среди пяти треуголок
бредет без ветки как пленник.
Антоньо! И это ты?
Да будь ты цыган на деле,
здесь пять бы ключей багряных,
стекая с ножа, запели!
И ты еще сын Камборьо?
Подкинут ты в колыбели!
Один на один со смертью,
бывало, в горах сходились.
Да вывелись те цыгане!
И пылью ножи покрылись…
Открылся засов тюремный,
едва только девять било.
А пятерым жандармам
ситро подкрепило силы.
Закрылся засов тюремный,
едва только девять било…
А небо в ночи сверкало,
как круп вороной кобылы!
Смерть Антоньито Эль Камборьо
Замер за Гвадалквивиром
смертью исторгнутый зов.
Взмыл окровавленный голос
в вихре ее голосов.
Рвался он раненым вепрем,
бился у ног на песке,
взмыленным телом дельфина
взвился в последнем броске;
вражеской кровью омыл он
свой кармазинный платок.
Но было ножей четыре,
и выстоять он не мог.
И той порой, когда звезды
ночную воду калят,
когда плащи горицветов
дурманят сонных телят,
древнего голоса смерти
замер последний раскат.
Антоньо Торрес Эредья,
прядь – вороненый виток,
зеленолунная смуглость,
голоса алый цветок!
Кто напоил твоей кровью
этот сыпучий песок?
– Четверо братьев Эредья
мне приходились сродни.
То, что другому прощалось,
мне не простили они —
и туфли цвета коринки,
и то, что перстни носил,
и что меня на оливках
с жасмином Бог замесил.
– Ай, Антоньито Камборьо,
лишь королеве под стать!
Вспомни Пречистую Деву —
время пришло умирать.
– Ай, Федерико Гарсиа,
оповести патрули!
Я, как подрезанный колос,
больше не встану с земли.
Он умер, голову вскинув
и рану зажав рукой.
Живая медаль – и миру
второй не отлить такой.
Под голову лед подушки
кладет ему серафим.
И смуглых ангелов руки
зажгли лампаду над ним.
И когда четверо братьев
въехали в город ночной,
Гвадалквивир отголоски
смертной повил тишиной.
Загубленный любовью
– Что же там светится ночью
так высоко и багрово?
– Сынок, одиннадцать било,
пора задвинуть засовы.
– Четыре огня все ярче —
и глаз отвести нет мочи.
– Наверно, медную утварь
там чистят до поздней ночи.
Чесночная долька ртути,
тускнела луна от боли,
роняя желтые кудри
на желтые колокольни.
По улицам кралась полночь,
стучась у закрытых ставней,
а следом за ней собаки
гнались стоголосой стаей,
и винный янтарный запах
блуждал, над террасой тая.
Сырая осока ветра
и старческий шепот тени
под ветхою аркой ночи
будили гул запустенья.
Уснули волы и розы.
И только в оконной створке
четыре огня взывали,
как гневный Святой Георгий.
Грустили невесты-травы,
а кровь застывала коркой,
как сорванный мак, сухою,
как юные бедра, горькой.
Рыдали седые реки,
в туманные горы глядя,
и в замерший миг вплетали
обрывки имен и прядей.
А ночь квадратной и белой
была от стен и балконов.
Цыгане и серафимы
коснулись аккордеонов.
– Если умру я, мама,
будут ли знать про это?
Синие телеграммы
ты разошли по свету!..
Семь воплей, семь ран багряных,
семь диких маков махровых
разбили тусклые луны
в залитых мраком альковах.
И зыбью рук отсеченных,
венков и спутанных прядей
Бог знает где отозвалось
глухое море проклятий.
И в двери ворвалось небо
лесным рокотаньем дали.
А в ночь с галерей высоких
четыре луча взывали.
Романс обреченного
Как сиро все и устало!
Два конских ока огромных
и два зрачка моих малых
и днем и ночью на страже,
и сон покинул дозорных,
а сам уплыл, развевая
тринадцать вымпелов черных.
Они все смотрят на север,
от ночи к ночи бессонней,
и видят руды и кручи
в дали, где стыну на склоне,
колоду карт ледяную
тасуя в мертвой ладони…
Тугие волы речные
в осоке и остролистах
подхватывали мальчишек
на луны рогов волнистых.
А молоточки пели
сомнамбулическим звоном,
что едет бессонный всадник
верхом на коне бессонном.
Двадцать шестого июня
свечи зажгли в трибунале.
Двадцать шестого июня
карты судьбу его знали:
– Можешь срубить олеандры
за воротами своими.
Крест начерти на пороге
и напиши свое имя.
Взойдет над тобой цикута
и семя крапивы злое,
и в ноги сырая известь
вонзит иглу за иглою.
И будет то черной ночью
в магнитных горах высоких,
где только волы речные
пасутся в ночной осоке.
Учись же скрещивать руки,
готовь лампаду и ладан
и пей этот горный ветер,
холодный от скал и кладов.
Ровно два месяца сроку
до погребальных обрядов.
Мерцающий млечный меч
Сант-Яго из ножен вынул.
Прогнулось ночное небо,
глухой тишиною хлынув.
Двадцать шестого июня
глаза он открыл – и снова
закрыл их, уже навеки,
августа двадцать шестого…
Люди сходились на площадь,
где у стены на каменья
сбросил усталый Амарго
груз одинокого бденья.
И как обрывок латыни,
прямоугольной и точной,
замер и смерть упокоил
край простыни непорочной.
Романс об испанской жандармерии
Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
затянуты в портупею
сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую тьму молчанья.
От них никуда не деться —
скачут, тая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов.
О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква,
играет настой черешен.
И кто увидал однажды —
забудет тебя едва ли,
город имбирных башен,
мускуса и печали!
Ночи, кудесницы ночи
синие сумерки пали.
В маленьких кузнях цыгане
солнца и стрелы ковали.
Конь у порога плакал
и жаловался на раны.
В Хересе-де-ла-Фронтера
петух запевал стеклянный.
А ветры, нагие ветры,
слетались поодиночке
в сумрак, серебряный сумрак
ночи, кудесницы ночи.
Иосифу и Марии
невесело на гулянье —
пропали их кастаньеты.
Не выручат ли цыгане?
На зависть жене алькальда
воскресный наряд Пречистой,
блистает фольгой накидка,
бренчит миндалем монисто.
И плащ Иосифа мреет,
как шелковая сутана.
А вслед Доме́к-виноградарь
и три заморских султана.
Завороженно замер
дремотным аистом месяц.
Взлетают огни и флаги
пролетами гулких лестниц.
В ночных зеркалах рыдая,
безбедрые пляшут тени.
В Хересе-де-ла-Фронтера —
полуночь, роса и пенье.
О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен…
Гаси зеленые окна —
все ближе черные стражи!
Забыть ли тебя, мой город!
В тоске о морской прохладе
ты спишь, разметав по камню
не знавшие гребня пряди…
Они въезжают попарно —
а город поет и пляшет.
Бессмертников мертвый шорох
врывается в патронташи.
Они въезжают попарно,
спеша, как черные вести.
И связками шпор звенящих
мерещатся им созвездья.
А город гонит заботы,
тасуя двери предместий…
Верхами сорок жандармов
въезжают в говор и песни.
Оцепенели куранты
на кафедрале высоком.
Выцвел коньяк в бутылке
и притворился соком.
Застигнутый криком флюгер
забился, слетая с петель.
Зарубленный свистом сабель,
упал под копыта ветер.
Снуют старухи цыганки
в ущельях мрака и света,
мелькают сонные пряди,
мерцают медью монеты.
А крылья плащей зловещих
вдогонку летят тенями,
и ножницы черных вихрей
смыкаются за конями…
У Вифлеемских ворот
сгрудились люди и кони.
Над мертвой простер Иосиф
израненные ладони.
А ночь полна карабинов,
и воздух рвется струною.
Детей Пречистая Дева
врачует звездной слюною.
И снова скачут жандармы,
кострами ночь обжигая,
и бьется в пламени сказка,
прекрасная и нагая.
И стонет Роса Камборьо,
сжимая в пальцах точеных,
поднос, где замерли чаши
ее грудей отсеченных.
Плясуньи, развеяв косы,
бегут, как от волчьей стаи,
и розы пороховые
взрываются, расцветая…
Когда же пластами пашни
легла черепица кровель,
заря в беспамятстве пала
на мертвый каменный профиль…
О мой цыганский город!
Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья,
а ты – пожаром охвачен.
Забыть ли тебя, мой город!
В глазах у меня отныне
