Страница:

Солнце клонилось к закату. Лучи косо падали через два ряда окон в южной стене. «Много времени потерял, плутая по ярусам и проходам, зато направление определилось». Юрий Андреевич знал, что за храмом Успения, на север, каменотёсы продолжали плести подземную сеть, долбили камень и выносили куски на поверхность. «Чуть служба кончится и начнут расходиться, уйду через северные двери». Юрий Андреевич мимо воли сделал шаг к северной стене, ближе к выходу, и вдруг замер, превратившись, как и все остальные, в подобие камня. Прямо на него недоверчиво и строго взирала Тамар. Она стояла рядом с отцом, коронованная им на царство. Оба были в венцах, оба разодетые в праздничные византийские платья с каменьями и шитьём. В руках Тамар держала уменьшенную вардзийскую церковь Успения.
Юрию Андреевичу живо вспомнился образ великого князя Ярослава Мудрого на стене преславного киевского храма Софии. Князь неспешно двигался впереди княгини-супруги, княжичей-сыновей и княжон-дочерей. Так же все были разодеты в византийское платье. Так же держал Ярослав Мудрый уменьшенное повторение храма. Хотя приходил Юрий Андреевич по отцовскому повелению в Киев с войной, а защемило по великому городу сердце. Волной накатила тоска. Редкий день родные края в измученной памяти не возникали.
Обе фигуры – Тамар и её отца – живописец поместил в северной нише. «Царь царей всего Востока Гиорги», – было выведено крупными красивыми буквами по правую сторону от царя. «Царь царей всего Востока, дочь Гиорги Тамар, да будет долгой её жизнь», – гласила другая надпись.
Солнце за окнами передвинулось, луч света упал на Тамар. Округлое лицо, схожее с луной в полнолуние, окрасилось красками жизни. Зажёгся румянец, заалел по-детски припухлый, но сжатый упрямо маленький рот. В чёрных с блеском глазах, устремлённых на бывшего мужа, вспыхнула неприязнь. Такой предстала перед Юрием Андреевичем шесть лет назад наречённая его невеста, когда приехал он из степи, где спасался от дяди. Цари, ханы и шахи сватались к прекрасной наследнице грузинских земель и все получили отказ. По совету вдовствующей Русудан и согласно решению, принятому дарбази, рука Светозарной была вручена безземельному русскому князю, единоверцу и наследнику устоев великих русских князей. Одна Тамар противилась браку. По-своему и поступила – расторгла союз.
Юрий Андреевич почувствовал, как в груди закипела злоба. Тамар и Гиорги шествовали вместе с ангелами и святыми, точно свершали лишь праведные дела и не лилась по их вине кровь, не вытаптывались посевы, не стирались с лика земли города. С ним самим Тамар обошлась, однако, великодушно. Могла казнить или заточить в башню, вместо этого с немалой казной отправила в Византию. Он три года спустя с войной объявился – и тут царица цариц повела себя благородно. Яростной вышла схватка, но велась она честно, без коварства и нарушения слова, хотя ставкой служили трон и семь грузинских земель. Он проиграл, и злобиться было нечего.
Священники кончили службу. Протяжные голоса подвели под своды последние звуки своих песнопений и замерли. Вереницы тёмных фигур потянулись к проёмам в восточной стене. «Выручайте, цари царей Востока», – усмехнулся про себя Юрий Андреевич и проскользнул в проход, помещённый в нише с изображением Гиорги и Тамар. Было похоже, что отец с дочерью также поспешают в выбранном им направлении.
Вновь пошли чередой пещеры и лестницы. Вновь заплутавшее эхо взялось повторять шорохи, всплески, позвякивание. Внезапно потянуло свежестью. За узким проходом показалась огромных размеров пещера, способная укрыть триста или четыреста человек. Сводчатый потолок уплывал в высоту и сходился к круглому отверстию. Заглушка отсутствовала. Над пещерой висело синее чистое небо. Вот она – свобода. Ради неё разрывал и распутывал он каменную паутину.
Юрий Андреевич вступил в пещеру. В тот же момент за спиной ударило глухо. Он быстро обернулся. Щели прохода, в которую только что он проник, больше не существовало. Спущенная сверху плита плотно вошла в боковые канавки, прорубленные в скале. Юрий Андреевич поспешно обшарил глазами грубо отёсанные стены. Выхода из пещеры не было.
…Солнце покатилось по небу, словно с горы, когда воины стали покидать монастырский город. Михейке хорошо было видно, как выходили они по одному или по нескольку человек сразу и присоединялись к тем, кто охранял наружные лестницы и площадки. «Всё, – тоскливо подумал Михейка, – если бы Юрий Андреевич успел проскочить, они вокруг скал и наверх бы бросились, а тут вниз без спешки спускаются».
Воины смеялись и окликали друг друга. Монастырская тишина их не смущала.
– Прыткий, полдня поводил за собой.
– Ещё спасибо сказать, что по догадке бежал. Рясу надел, а расположение пещер знать не знает.
– Вверху, что ли, в новых пещерах схватили?
– Считай, что под облаками сидит. Наружу выход имеется, да без крыльев не улетишь.
Помимо воли Михейке представилась пластина, на которой он выбил чудище-птицу, уносящую в небо отважного полководца.

Глава XVII
СВАТОВСТВО ЛИПАРИТА
Недаром сложили присловье: «Ищи удачу на празднике». Ещё говорили: «Нашёл удачу – вот праздник». Так поверни или этак, радости не было конца, когда Михейка узнал, что Евся выйдет на волю. Оказалось, Юрий Андреевич и Шота одну и ту же хотели себе награду. Оба бились за Евсю. Шота ловкостью ума победу добыл. Оружием Юрия Андреевича не одолеть: самая твёрдая у государя рука, самый верный глаз. Только теперь всё равно, кто кого одолел. Главное, что выйдет Евся на волю. Вдвоём они скалы на куски разнесут, Юрия Андреевича вызволят. Михейка с нетерпением ждал, когда закончатся состязания стихотворцев, свернётся и угаснет праздник.
Раньше Михейка думал, что можно мериться силой и ловкостью, умением управлять конём. Выходило, что слово также способно превратиться в оружие. Стихотворцы ратоборствовали с помощью слов.
Ограду из верёвок убрали. Народ забил поле, теснясь к полукругу, открытому со стороны помоста. Ребятишки повисли на ветках. Верховые остались в седле – с коня лучше видно и слышно. В полукруг по одному вступали поэты, читали стихи. Голоса то раскатывались, подобно грому, то журчали нежнее ручьёв. Михейка слушал вполуха, хотя стояли они с Липаритом совсем близко, за спиной у Шота. Мысли Михейки заняты были другим.
Вот вышел толстяк в пёстром шёлковом ахалухе с широченными разрезными рукавами. Он грозно сдвинул нависшие брови и во всю мочь завопил о белом, в цвет молока, лице своей избранницы, о румянце, похожем на раннюю вишню, о губках, сладких, как мёд, и о чёрных виноградинках глаз.
– Вах, несчастная, болезнь её на меня. Где были её глаза, когда полюбила обжору? – весело крикнул кто-то. В толпе рассмеялись. Толстяк обиделся и ушёл. Не лучшая участь постигла другого стихотворца. Этот был, словно нарочно, длинный и тощий, наподобие жерди. Сладким голосом он принялся растягивать нескладные строки, спотыкавшиеся, как охромевший конь. Каждый стих заканчивался поклоном. Стихотворец кланялся светозарной царице и супругу её благородному, кланялся памяти всех царей, кланялся добродетельной Русудан.
– Смотри, болезнь твоя на меня, переломишься от поклонов.
На этот раз в толпу врезалась стража. Да попробуй, найди, кто крикнул.
Третий поэт рассыпал в стихах тучи стрел в погоне за фазанами и зайцами. Он также не получил одобрения.
– Скажи, Шота, – попросили с помоста.
Не входя в круг, Шота произнёс:
Трудные мысли пошли перекатываться камнями, колоть и резать зазубринами рваных краёв. Михейка обтачивал неподатливую поверхность, скалывал и затуплял углы. Работа шла долгая, как у Липарита на шлифовальной плите. Перед глазами всё время стояла пластина с чудищем-птицей, летящей ввысь. Мимо слуха прошли последние стихи Чахрухадзе. Хвалебные крики, какими поздравило поле поэта, не вывели из задумчивости. Михейка очнулся, услышав голос Шота. К этому времени в голове как раз созрел план, в котором пластина с паскунджи занимала не последнее место, и, если бы Михейка мог посмотреть на себя со стороны, он бы увидел, что лицо его просветлело, словно сдвинулась тень от тучи, а в глазах проступила синь. Знал теперь Михейка, знал, что должен он сделать. В короткий час предстояло свершить невозможное, поступить выше собственных сил. И разве не о том же трубили и пели строки стихов?
Шота читал главу, в которой говорилось, как Автандил во второй раз нашёл своего побратима.
Слушатели ахнули, возмущённые.
– Ты ошибся, брат, – без всякого недовольства ответил Шота. – Я воспел не охоту. Через борьбу с могучим львом и тигром я раскрыл силу чувств. Мои герои борются насмерть и смертно страдают. Они пробиваются через горы зла, чтобы найти друг друга, потому что правда в единстве. Едины земля и небо, солнце и звёзды. Люди, звери, деревья, всякая малая травинка и всякая малая тварь слиты с землёй и друг без друга не существуют. Разве не помощь друг другу, не братство месхов, картлийцев, грузин, апхазов, армян помогли нашим землям выстоять в вековой борьбе?
– Правда это! Истинные слова! – единодушным криком отозвался народ на поле.
– Слово поэта – огонь на ветру! – произнёс низкий раскатистый голос. Сказано было негромко, но так значительно, что Шота расслышал, несмотря на крики и шум. Он обернулся. В стороне стоял Иванэ Шавтели, поэт и философ, удалившийся от суетных мирских дел в пещеры Вардзийского монастыря. Историограф о нём написал: «Муж весьма прославленный и дивный в своих подвигах, который получил дар предвидения». Как Шота раньше не разглядел высокую дородную фигуру и белую бороду, веером падавшую на рясу, слишком узкую для этих могучих плеч?
Шота прижал руки к сердцу, низко поклонился.
– Я отвечу на великую похвалу, какой только может удостоиться поэт, тем, что наполню каждое слово своих стихов любовью к братству и мужеству, – сказал Шота, и над притихшим полем понёсся исторгнутый из сердца поэта призыв. Шота вложил его в уста Автандила, когда благородный витязь, до последней капли крови преданный дружбе, увещевал обезумевшего от горя Тариэла.
– Твои стихи величавы и прекрасны, перед ними распахиваются все сердца, – сказала Тамар. – Какую радость я могу доставить поэту в обмен на удовольствие, что доставил он нам?
– Поэт, которого слышит его народ, имеет семь царств, – с поклоном ответил Шота.
– Не много можно добавить к такому богатству, и всё же царь царей попытается. Вчера, Шота, ты просил за другого. Сегодня пусть будет твой день.
– Надеюсь, что не вызову гнева царя царей. Но вот стоит мой земляк, – Шота обернулся, махнул рукой. Рядом тотчас оказался Липарит, ожидавший условного знака.
– Мы оба родом из Месхети, – продолжал Шота. – Оба отдали сердца на служение вечному, с той только разницей, что я облекаю горе и радость в слова, как кинжал в ножны, а Липарит Ошкнели свои чувства переливает в металл. Отсветом ясных звёзд он заставляет светиться камни. Пусть царь царей удостоит златоваятеля чести и посмотрит, что он сделал ради величия и воинской славы царя царей Тамар.
Липарит опустился на колени и протянул чашу на литых шариках-ножках, схожую с усечённым яблоком. Шота бережно принял серебряный плод и передал Тамар.
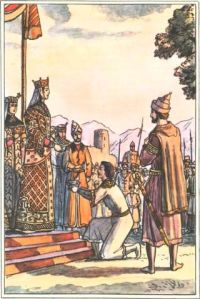
Поистине, мало кому приходилось видеть работу столь совершенную. Достаточно было повернуть чашу в руках, чтобы заплясали под сводами арок танцоры, запели певцы. На смену одной забаве явилась другая: понеслись всадники, помчались, спасаясь от дротиков, звери. Витязь, могучий, как Тариэл, встретился в схватке с тигром. Вот поле чаши стало свободным. Чистотой бескрайнего неба замерцало гладкое серебро. По тулову вверх полетела лев-птица паскунджи. Взмах крыльев был величав и тяжёл. Немалый груз поднимала в небо чудесная птица – Искандер примостился между крылами. Но птица летела, летела.
– Под видом Искандера прославлена Солнце Тамар, вдохновительница всех наших побед, – с одобрением проговорил Закарэ.

– Шота прав, – сказала Тамар. – Великое чувство оживило фигуры, привело в движение крылья паскунджи.
– Это так! – воскликнул Липарит. – Всем сердцем я полюбил мерцхали Нино, и любовь водила моим чеканом, когда он превращал немое серебро в чашу, звучащую голосами.
– В звуках твоего голоса слышится просьба. Я угадала, мастер? – с улыбкой спросила Тамар.
– Царь царей видит истину, ему открыто моё сердце. – Липарит словно мчался с горы. Он боялся, что стоит остановиться, как из-за робости он растеряет слова. – Отец Нино азнаур, и жениха для дочери он выбрал также из азнауров. Ему нипочём, что жених вдов и стар, лишь бы звание при нём находилось.
Разглашать, что Нино приёмная дочь, Липарит счёл делом неблагородным.
– Разделяет ли избранница твои чувства, мастер?
Липарит смутился.
– Краска на его щеках красноречивей ответа, – сказал Давид Сослани. – Помогать влюблённым одно из правил, которым нас учат стихи. Как имя отца Нино?
– Реваз Мтбевари. Он начальник крепости Верхняя.
– Второй день дороги ведут в эту крепость, – удивлённо проговорила Тамар. – Амирспасалар докладывал, что Реваз гость нашего праздника?
– Память Светозарной твёрже скалы, несокрушимее крепостных стен, – подтвердил Закарэ.
– Пусть подойдёт к нашему креслу.
Воля царя царей тотчас была исполнена. Перед помостом предстал сухой, широкий в кости человек, с неулыбчивым жёстким лицом, пересечённым шрамом. Он отвёл в сторону несгибавшуюся в колене ногу и поклонился.
– Я рада видеть отважного воина, раны которого свидетельствуют перед всеми о мужестве, проявленном в битвах. Достаточную ли награду получил ты из нашей казны за верную службу?
– Должность начальника крепости и звание азнаура послужили наградой, которой я вряд ли стою.
– Поймаю тебя на слове и попрошу вернуть половину. Отдай мне взамен твою дочь, чтобы я вручила её славному мастеру, искусному ваятелю по металлу и шлифовальщику драгоценных камней. Я одарю Нино богатым приданым и сама завяжу покрывало под её подбородком, в знак того, что девушка стала женой.
Сумрачное лицо старого воина потемнело ещё больше.
– Царь царей вправе взять мою жизнь, но над дочерью – воля отца. Я азнаур. Звание мне принесли раны. Я хочу, чтобы мои внуки были, как я, азнаурами.
– Что скажешь, поэт? – обратилась Тамар к Шота.
Все, кто был на помосте, придвинулись ближе. Чем закончится спор царя царей с простым воином?
– Если тысячу стоит происхождение, в десять тысяч оценим личное достоинство. Если негож жених, не поможет богатство и знатность, – ответил Шота.
– Мои внуки будут азнаурами, – ни на кого не глядя, проговорил Реваз.
– Нам жалко лишиться такого златоваятеля, как Липарит, – сказала Тамар. – Однако упрямца к добру не склонить. Как видно, другого Липариту не остаётся, как бросить своё ремесло и вступить в ряды нашей личной гвардии. Я уверена, что очень скоро он отличится, и мы получим возможность порадовать его званием азнаура.
– Не могу, – сказал Липарит и опустил голову. – Потерять Нино для меня всё равно, что остаться без света. Но я должен лепить металл и зажигать искры в камне. Без этого мне не жить.
– Мои внуки будут азнаурами, – в третий раз повторил старый воин.
Тамар бросила растерянный взгляд на супруга.
– Желание воина, не щадившего жизни в битвах за родину, следует уважать, – твёрдо произнёс Давид Сослани. – Посему царь царей Незакатное Солнце Тамар повелевает так.
Давид возвысил голос. Сквозь толпу, теснившуюся за его креслом, пробился писец личного ведомства с листом пергамента и чернильницей наготове.
– Я, царь царей самодержица Тамар, повелеваю, – принялся говорить Давид слова указа. – Всех детей, рождённых от брака Липарита Ошкнели, златоваятеля, и Нино, дочери Реваза Мтбевари, как мальчиков, так и девочек, считать потомственными азнаурами, внуками азнаура, начальника крепости. Твёрдо сие и нерушимо, и никто не изменит нашего повеления.
Писец закончил писать, с низким поклоном передал перо царю царей. Тамар поставила свою подпись.
– От счастья такого в груди разорвётся сердце! – вскричал Липарит.
– За невестой до вечера повремени приезжать. Вперёд сам отправлюсь. Разбойника, выпущенного на свободу, заодно заберёшь, – зло проговорил старый воин. Хромая, ушёл без поклона.
– Грозный у мастера будет тесть, – рассмеялся Давид.
Стоявшие близко увидели, что лик Тамар просветлел, и принялись вторить весёлому смеху.
Народ долго не покидал поле. Длили люди последний праздничный день. Завтра руки возьмутся за плуг, кирку и зубило, а сегодня пусть дудят музыканты в стародавние дудки, пусть выплясывают на канатах под небом бесстрашные канатоходцы-плясуны. Даже вельможи и девушки свиты не покинули пёстрые от ковров ступени помоста.
Михейка разыскал Шота. Но тот разговаривал с седобородым монахом, ростом и дородностью напоминавшим Евсю. Нарушать чужую беседу не полагалось, и Михейка остановился поодаль. Главное, что времени было в обрез.
– Незакатное Солнце царица Тамар три замка за лето и осень меняет, – говорил Шота. – На рассвете Тмогви покинем, отправимся дальше на юг. Я с неразлучными своими спутниками расстаюсь только на ночь. – Шота указал на пенал и чернильницу у него на поясе. – Придворный поэт мало чем отличается от бродячего стихотворца, также кочует с места на место. В суете живём.
– Мелкая суета подчас забирается даже в монастырские кельи, – ответил монах и вдруг в голос расхохотался. – Представь, дорогой Шота, не далее, как сегодня утром, похитили мою рясу. С чужого плеча пришлось на себя надеть. Диковинный вор забрался, однако, в келью: бесценные книги и светильники из серебра оставил без внимания, а на старую рясу позарился.
– Да ведь это Юрий Андреевич! – неожиданно для себя воскликнул Михейка.
Шота обернулся, с неодобрением посмотрел.
– Прости, господин Шота, что разговор перебил, по нечаянности вышло. Только дело у меня важное.
– Если дело, то слушаю, Микаэл. Господин Иванэ Шавтели, должно быть, нам разрешит.
– Помнишь, ты хотел, чтобы русские письмена переложили для тебя на грузинскую речь?
– Помню, и моё желание со временем не уменьшилось.
– Такой человек нашёлся.
– Где он? Веди нас скорее.
– Он заточён в новых пещерах Вардзии. Его охраняет стража.
– Кто же этот человек? – в изумлении спросил Шота.
– Князь и государь Гиорги Русский.
Наступило длительное молчание.
– Речь идёт о великой воинской поэме. Чахрухадзе познакомили с ней на Руси, – проговорил наконец Шота, обернувшись к своему собеседнику.
– И поэт Шота Руставели очень хочет увидеть человека, который мог бы ему рассказать об искусстве стихосложения другого народа? – живо спросил монах.
– Превыше всего на свете.
– Если узник в самом деле в монастыре, я помогу устроить с ним встречу.
– Великодушный порыв свидетельствует о дружественном расположении великого Шавтели к безвестному Шота. Но разве я осмелюсь отправиться к тому, кто попал в заточение, с праздным намерением побеседовать о стихах?
– Господин Шота, всё равно, о чём говорить, только пойди, передай государю вот это, – Михейка выхватил из-за пояса бронзовую пластину. Руки дрожали от нетерпения.
«Мальчонка – русский. Как я раньше не догадался, когда услышал, что он поёт песню про русского витязя. Должно быть, он ищет способ помочь своему государю. Могу ли я вступить с ним в союз?» Тыльной стороной ладони Шота провёл от виска к подбородку и после недолгого замешательства произнёс про себя твёрдо: «Рыцарь приходит на помощь рыцарю, умирающему от жажды и ран, даже если тот оказывается из стана врага. Неволя на чужбине хуже, чем смерть от жажды и ран. И не поступили бы Автандил, Тариэл и Фридон по-другому».
– Хорошо, Микаэл, передам, – сказал Шота вслух.
Михейка обернул пластину лоскутом красного шёлка.
– Спасибо тебе, господин Шота.
Второй разговор у Михейки произошёл с Липаритом.
– Как выпустят Евсю, вели, чтобы сразу отправился в тайности к тётушке Этери и безвыходно меня дожидался. К ночи коня для него приведу, – торопливо сказал Михейка.
– Разве ты не поедешь со мной? – удивился Липарит.
– Дело важное предстоит выполнить.
Липарит поднял глаза. Встретился с долгим ответным взглядом.
– Что задумал ты, Микаэл?
– Передай господину Бека, что ушёл я. Ещё скажи, что вовек буду помнить его доброту и мудрые наставления. В знак того, что правду сказал, клятву кровью даю.
Михейка вырвал из ножен клинок, полоснул левую руку.
– Как падает кровь на землю, так обещаю откинуть воинское оружие, когда выйдет тому возможность. Кинжал и стрелы сменю на молоток и чеканы.
Липарит хотел закричать: «Что ты делаешь?», хотел сказать: «Останься, без нас пропадёшь». Но ничего этого он не сказал, только крепко обнял мальчонку.
– Прощай, Микаэл. Если беда случится, помни – в Тбилиси второй твой дом.
– Когда возьму орудия в руки, первое, что выбью на металле или, случится, на камне, как поднимался на небо полководец Александр Великий. «Кто тебя научил?» – спросят люди. «Мой старший брат», – отвечу им я.
Михейка ушёл, но, не сделав и трёх шагов, воротился.
– Для Нино бронзу с рисунком припас, да пришлось с подарком расстаться, – сказал он смущённо. – Передай, чтобы помнила. Через тебя она мне сестрой доводится.
– Будь счастлив, мой мальчик, на твоей далёкой лесной родине.
«Давно Липарит и господин Бека про меня догадались. Молчали из благородства и доброты», – подумал Михейка. Он поклонился по-русски, поясным низким поклоном, коснувшись рукой земли, и скрылся в толпе.
Раньше Михейка думал, что можно мериться силой и ловкостью, умением управлять конём. Выходило, что слово также способно превратиться в оружие. Стихотворцы ратоборствовали с помощью слов.
Ограду из верёвок убрали. Народ забил поле, теснясь к полукругу, открытому со стороны помоста. Ребятишки повисли на ветках. Верховые остались в седле – с коня лучше видно и слышно. В полукруг по одному вступали поэты, читали стихи. Голоса то раскатывались, подобно грому, то журчали нежнее ручьёв. Михейка слушал вполуха, хотя стояли они с Липаритом совсем близко, за спиной у Шота. Мысли Михейки заняты были другим.
Вот вышел толстяк в пёстром шёлковом ахалухе с широченными разрезными рукавами. Он грозно сдвинул нависшие брови и во всю мочь завопил о белом, в цвет молока, лице своей избранницы, о румянце, похожем на раннюю вишню, о губках, сладких, как мёд, и о чёрных виноградинках глаз.
– Вах, несчастная, болезнь её на меня. Где были её глаза, когда полюбила обжору? – весело крикнул кто-то. В толпе рассмеялись. Толстяк обиделся и ушёл. Не лучшая участь постигла другого стихотворца. Этот был, словно нарочно, длинный и тощий, наподобие жерди. Сладким голосом он принялся растягивать нескладные строки, спотыкавшиеся, как охромевший конь. Каждый стих заканчивался поклоном. Стихотворец кланялся светозарной царице и супругу её благородному, кланялся памяти всех царей, кланялся добродетельной Русудан.
– Смотри, болезнь твоя на меня, переломишься от поклонов.
На этот раз в толпу врезалась стража. Да попробуй, найди, кто крикнул.
Третий поэт рассыпал в стихах тучи стрел в погоне за фазанами и зайцами. Он также не получил одобрения.
– Скажи, Шота, – попросили с помоста.
Не входя в круг, Шота произнёс:
Шота обернулся в сторону Чахрухадзе, поэта прославленного в семи землях, и, отвечая на этот безмолвный призыв, Чахрухадзе вошёл в полукруг. Зазвучали стихи короткие, звонкие. Строки воспевали Тамар, но за каждым словом слышалась слава родине. Мудрость Тамар оборачивалась мудростью государственной политики, чары заключались в высоком призвании вдохновлять на борьбу и подвиг.
Небольшой стишок – творенье стихотворца небольшого,
Не захватывает сердце незначительное слово.
Это жалкий лук в ручонках у стрелочка молодого,
Крупных он зверей боится, бьёт зверушек бестолково.
Мелкий стих подчас пригоден для пиров, увеселений,
Для любезностей весёлых, милых шуток, развлечений,
Если он составлен бойко, он достоин одобрений.
Но певец лишь тот, кто создан для значительных творений.
Стихи казались историей нынешних лет, переложенной в горделивую песнь.
Всем князьям велела ты: «Мужайтесь,
На врага должны вы ополчиться!»
Храбрецов ты вдохновила: жаждут
Пасть за веру, с турками сразиться! [11]
«Это про Юрия Андреевича. – Пальцы Михейки невольно сжались в кулак. – Был бы он здесь, показал бы важному стихотворцу, как вселюдно государя честить». Михейка с тоской вдруг подумал, что высвободить Юрия Андреевича совсем нелегко, хотя бы и с Евсей. Попросту сказать, невозможно. Амирспасалар догадался, кто скрыт под сеткой кольчуги, приказал небось охранять изо всех сил. Евсю по той же причине в крепости держат, если и выпустят, то снова могут схватить. Евсе заказано здесь появляться.
Ты словила всех, разбив строптивых
И презрев покорных причитанья.
Ни иранцев рать, ни злые звёзды
Не хотят с тобою состязанья.
Шла война; в ту пору некто, муж твой,
Был наказан карою изгнанья.
Трудные мысли пошли перекатываться камнями, колоть и резать зазубринами рваных краёв. Михейка обтачивал неподатливую поверхность, скалывал и затуплял углы. Работа шла долгая, как у Липарита на шлифовальной плите. Перед глазами всё время стояла пластина с чудищем-птицей, летящей ввысь. Мимо слуха прошли последние стихи Чахрухадзе. Хвалебные крики, какими поздравило поле поэта, не вывели из задумчивости. Михейка очнулся, услышав голос Шота. К этому времени в голове как раз созрел план, в котором пластина с паскунджи занимала не последнее место, и, если бы Михейка мог посмотреть на себя со стороны, он бы увидел, что лицо его просветлело, словно сдвинулась тень от тучи, а в глазах проступила синь. Знал теперь Михейка, знал, что должен он сделать. В короткий час предстояло свершить невозможное, поступить выше собственных сил. И разве не о том же трубили и пели строки стихов?
Шота читал главу, в которой говорилось, как Автандил во второй раз нашёл своего побратима.
Впервые внимали люди стихам, похожим на разговорную речь. Звучали слова, какие произносят в обычной жизни. Но непростыми были эти слова. Всё будничное и малозначительное исчезло. Взамен явилось высокое чувство. Строки напряглись внутренней силой, зазвучали, как песня, покоряя и завораживая.
Раз на холм поднялся витязь, изнемогший от молений,
И взглянул он на долину, где играли свет и тени,
И средь зарослей заметил вороного в отдаленьи.
«Это он! – воскликнул витязь. – В том не может быть сомнений!»
– Только и есть в том разница, что у меня мелкий зверь, а в его стихах крупный, – прервал напряжённое повествование незадачливый стихотворец-стрелок.
И увидев Тариэла, отшатнулся он назад:
Полумёртвый лик скитальца был отчаяньем объят.
Ворот был его разорван, по щекам катился град.
Покидая мир мгновенный, не смотрел на брата брат.
Справа возле Тариэла лев лежал и меч чеканный.
Слева – рухнувший на землю тигр виднелся бездыханный.
По лицу из глаз страдальца ток струился непрестанный.
Лютым пламенем пылало сердце в скорби несказанной.
Слушатели ахнули, возмущённые.
– Ты ошибся, брат, – без всякого недовольства ответил Шота. – Я воспел не охоту. Через борьбу с могучим львом и тигром я раскрыл силу чувств. Мои герои борются насмерть и смертно страдают. Они пробиваются через горы зла, чтобы найти друг друга, потому что правда в единстве. Едины земля и небо, солнце и звёзды. Люди, звери, деревья, всякая малая травинка и всякая малая тварь слиты с землёй и друг без друга не существуют. Разве не помощь друг другу, не братство месхов, картлийцев, грузин, апхазов, армян помогли нашим землям выстоять в вековой борьбе?
– Правда это! Истинные слова! – единодушным криком отозвался народ на поле.
– Слово поэта – огонь на ветру! – произнёс низкий раскатистый голос. Сказано было негромко, но так значительно, что Шота расслышал, несмотря на крики и шум. Он обернулся. В стороне стоял Иванэ Шавтели, поэт и философ, удалившийся от суетных мирских дел в пещеры Вардзийского монастыря. Историограф о нём написал: «Муж весьма прославленный и дивный в своих подвигах, который получил дар предвидения». Как Шота раньше не разглядел высокую дородную фигуру и белую бороду, веером падавшую на рясу, слишком узкую для этих могучих плеч?
Шота прижал руки к сердцу, низко поклонился.
– Я отвечу на великую похвалу, какой только может удостоиться поэт, тем, что наполню каждое слово своих стихов любовью к братству и мужеству, – сказал Шота, и над притихшим полем понёсся исторгнутый из сердца поэта призыв. Шота вложил его в уста Автандила, когда благородный витязь, до последней капли крови преданный дружбе, увещевал обезумевшего от горя Тариэла.
Шота возвысил голос и смолк. Наступила тишина, какая бывает перед грозой. И как разорвавшийся гром, последовал взрыв восторженных криков. Шота покинул полукруг и подошёл к помосту, а люди на иоле продолжали славить поэта.
Коль ты мудр, то знай, что мудрость так вещает нам с тобою:
Муж не должен убиваться в столкновении с судьбой.
Муж в беде стоять обязан неприступною стеною.
Коль заходит ум за разум, всё кончается бедою!
– Твои стихи величавы и прекрасны, перед ними распахиваются все сердца, – сказала Тамар. – Какую радость я могу доставить поэту в обмен на удовольствие, что доставил он нам?
– Поэт, которого слышит его народ, имеет семь царств, – с поклоном ответил Шота.
– Не много можно добавить к такому богатству, и всё же царь царей попытается. Вчера, Шота, ты просил за другого. Сегодня пусть будет твой день.
– Надеюсь, что не вызову гнева царя царей. Но вот стоит мой земляк, – Шота обернулся, махнул рукой. Рядом тотчас оказался Липарит, ожидавший условного знака.
– Мы оба родом из Месхети, – продолжал Шота. – Оба отдали сердца на служение вечному, с той только разницей, что я облекаю горе и радость в слова, как кинжал в ножны, а Липарит Ошкнели свои чувства переливает в металл. Отсветом ясных звёзд он заставляет светиться камни. Пусть царь царей удостоит златоваятеля чести и посмотрит, что он сделал ради величия и воинской славы царя царей Тамар.
Липарит опустился на колени и протянул чашу на литых шариках-ножках, схожую с усечённым яблоком. Шота бережно принял серебряный плод и передал Тамар.
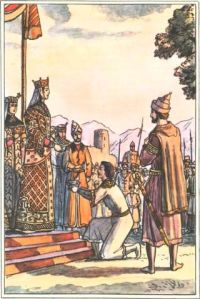
Поистине, мало кому приходилось видеть работу столь совершенную. Достаточно было повернуть чашу в руках, чтобы заплясали под сводами арок танцоры, запели певцы. На смену одной забаве явилась другая: понеслись всадники, помчались, спасаясь от дротиков, звери. Витязь, могучий, как Тариэл, встретился в схватке с тигром. Вот поле чаши стало свободным. Чистотой бескрайнего неба замерцало гладкое серебро. По тулову вверх полетела лев-птица паскунджи. Взмах крыльев был величав и тяжёл. Немалый груз поднимала в небо чудесная птица – Искандер примостился между крылами. Но птица летела, летела.
– Под видом Искандера прославлена Солнце Тамар, вдохновительница всех наших побед, – с одобрением проговорил Закарэ.

– Шота прав, – сказала Тамар. – Великое чувство оживило фигуры, привело в движение крылья паскунджи.
– Это так! – воскликнул Липарит. – Всем сердцем я полюбил мерцхали Нино, и любовь водила моим чеканом, когда он превращал немое серебро в чашу, звучащую голосами.
– В звуках твоего голоса слышится просьба. Я угадала, мастер? – с улыбкой спросила Тамар.
– Царь царей видит истину, ему открыто моё сердце. – Липарит словно мчался с горы. Он боялся, что стоит остановиться, как из-за робости он растеряет слова. – Отец Нино азнаур, и жениха для дочери он выбрал также из азнауров. Ему нипочём, что жених вдов и стар, лишь бы звание при нём находилось.
Разглашать, что Нино приёмная дочь, Липарит счёл делом неблагородным.
– Разделяет ли избранница твои чувства, мастер?
Липарит смутился.
– Краска на его щеках красноречивей ответа, – сказал Давид Сослани. – Помогать влюблённым одно из правил, которым нас учат стихи. Как имя отца Нино?
– Реваз Мтбевари. Он начальник крепости Верхняя.
– Второй день дороги ведут в эту крепость, – удивлённо проговорила Тамар. – Амирспасалар докладывал, что Реваз гость нашего праздника?
– Память Светозарной твёрже скалы, несокрушимее крепостных стен, – подтвердил Закарэ.
– Пусть подойдёт к нашему креслу.
Воля царя царей тотчас была исполнена. Перед помостом предстал сухой, широкий в кости человек, с неулыбчивым жёстким лицом, пересечённым шрамом. Он отвёл в сторону несгибавшуюся в колене ногу и поклонился.
– Я рада видеть отважного воина, раны которого свидетельствуют перед всеми о мужестве, проявленном в битвах. Достаточную ли награду получил ты из нашей казны за верную службу?
– Должность начальника крепости и звание азнаура послужили наградой, которой я вряд ли стою.
– Поймаю тебя на слове и попрошу вернуть половину. Отдай мне взамен твою дочь, чтобы я вручила её славному мастеру, искусному ваятелю по металлу и шлифовальщику драгоценных камней. Я одарю Нино богатым приданым и сама завяжу покрывало под её подбородком, в знак того, что девушка стала женой.
Сумрачное лицо старого воина потемнело ещё больше.
– Царь царей вправе взять мою жизнь, но над дочерью – воля отца. Я азнаур. Звание мне принесли раны. Я хочу, чтобы мои внуки были, как я, азнаурами.
– Что скажешь, поэт? – обратилась Тамар к Шота.
Все, кто был на помосте, придвинулись ближе. Чем закончится спор царя царей с простым воином?
– Если тысячу стоит происхождение, в десять тысяч оценим личное достоинство. Если негож жених, не поможет богатство и знатность, – ответил Шота.
– Мои внуки будут азнаурами, – ни на кого не глядя, проговорил Реваз.
– Нам жалко лишиться такого златоваятеля, как Липарит, – сказала Тамар. – Однако упрямца к добру не склонить. Как видно, другого Липариту не остаётся, как бросить своё ремесло и вступить в ряды нашей личной гвардии. Я уверена, что очень скоро он отличится, и мы получим возможность порадовать его званием азнаура.
– Не могу, – сказал Липарит и опустил голову. – Потерять Нино для меня всё равно, что остаться без света. Но я должен лепить металл и зажигать искры в камне. Без этого мне не жить.
– Мои внуки будут азнаурами, – в третий раз повторил старый воин.
Тамар бросила растерянный взгляд на супруга.
– Желание воина, не щадившего жизни в битвах за родину, следует уважать, – твёрдо произнёс Давид Сослани. – Посему царь царей Незакатное Солнце Тамар повелевает так.
Давид возвысил голос. Сквозь толпу, теснившуюся за его креслом, пробился писец личного ведомства с листом пергамента и чернильницей наготове.
– Я, царь царей самодержица Тамар, повелеваю, – принялся говорить Давид слова указа. – Всех детей, рождённых от брака Липарита Ошкнели, златоваятеля, и Нино, дочери Реваза Мтбевари, как мальчиков, так и девочек, считать потомственными азнаурами, внуками азнаура, начальника крепости. Твёрдо сие и нерушимо, и никто не изменит нашего повеления.
Писец закончил писать, с низким поклоном передал перо царю царей. Тамар поставила свою подпись.
– От счастья такого в груди разорвётся сердце! – вскричал Липарит.
– За невестой до вечера повремени приезжать. Вперёд сам отправлюсь. Разбойника, выпущенного на свободу, заодно заберёшь, – зло проговорил старый воин. Хромая, ушёл без поклона.
– Грозный у мастера будет тесть, – рассмеялся Давид.
Стоявшие близко увидели, что лик Тамар просветлел, и принялись вторить весёлому смеху.
Народ долго не покидал поле. Длили люди последний праздничный день. Завтра руки возьмутся за плуг, кирку и зубило, а сегодня пусть дудят музыканты в стародавние дудки, пусть выплясывают на канатах под небом бесстрашные канатоходцы-плясуны. Даже вельможи и девушки свиты не покинули пёстрые от ковров ступени помоста.
Михейка разыскал Шота. Но тот разговаривал с седобородым монахом, ростом и дородностью напоминавшим Евсю. Нарушать чужую беседу не полагалось, и Михейка остановился поодаль. Главное, что времени было в обрез.
– Незакатное Солнце царица Тамар три замка за лето и осень меняет, – говорил Шота. – На рассвете Тмогви покинем, отправимся дальше на юг. Я с неразлучными своими спутниками расстаюсь только на ночь. – Шота указал на пенал и чернильницу у него на поясе. – Придворный поэт мало чем отличается от бродячего стихотворца, также кочует с места на место. В суете живём.
– Мелкая суета подчас забирается даже в монастырские кельи, – ответил монах и вдруг в голос расхохотался. – Представь, дорогой Шота, не далее, как сегодня утром, похитили мою рясу. С чужого плеча пришлось на себя надеть. Диковинный вор забрался, однако, в келью: бесценные книги и светильники из серебра оставил без внимания, а на старую рясу позарился.
– Да ведь это Юрий Андреевич! – неожиданно для себя воскликнул Михейка.
Шота обернулся, с неодобрением посмотрел.
– Прости, господин Шота, что разговор перебил, по нечаянности вышло. Только дело у меня важное.
– Если дело, то слушаю, Микаэл. Господин Иванэ Шавтели, должно быть, нам разрешит.
– Помнишь, ты хотел, чтобы русские письмена переложили для тебя на грузинскую речь?
– Помню, и моё желание со временем не уменьшилось.
– Такой человек нашёлся.
– Где он? Веди нас скорее.
– Он заточён в новых пещерах Вардзии. Его охраняет стража.
– Кто же этот человек? – в изумлении спросил Шота.
– Князь и государь Гиорги Русский.
Наступило длительное молчание.
– Речь идёт о великой воинской поэме. Чахрухадзе познакомили с ней на Руси, – проговорил наконец Шота, обернувшись к своему собеседнику.
– И поэт Шота Руставели очень хочет увидеть человека, который мог бы ему рассказать об искусстве стихосложения другого народа? – живо спросил монах.
– Превыше всего на свете.
– Если узник в самом деле в монастыре, я помогу устроить с ним встречу.
– Великодушный порыв свидетельствует о дружественном расположении великого Шавтели к безвестному Шота. Но разве я осмелюсь отправиться к тому, кто попал в заточение, с праздным намерением побеседовать о стихах?
– Господин Шота, всё равно, о чём говорить, только пойди, передай государю вот это, – Михейка выхватил из-за пояса бронзовую пластину. Руки дрожали от нетерпения.
«Мальчонка – русский. Как я раньше не догадался, когда услышал, что он поёт песню про русского витязя. Должно быть, он ищет способ помочь своему государю. Могу ли я вступить с ним в союз?» Тыльной стороной ладони Шота провёл от виска к подбородку и после недолгого замешательства произнёс про себя твёрдо: «Рыцарь приходит на помощь рыцарю, умирающему от жажды и ран, даже если тот оказывается из стана врага. Неволя на чужбине хуже, чем смерть от жажды и ран. И не поступили бы Автандил, Тариэл и Фридон по-другому».
– Хорошо, Микаэл, передам, – сказал Шота вслух.
Михейка обернул пластину лоскутом красного шёлка.
– Спасибо тебе, господин Шота.
Второй разговор у Михейки произошёл с Липаритом.
– Как выпустят Евсю, вели, чтобы сразу отправился в тайности к тётушке Этери и безвыходно меня дожидался. К ночи коня для него приведу, – торопливо сказал Михейка.
– Разве ты не поедешь со мной? – удивился Липарит.
– Дело важное предстоит выполнить.
Липарит поднял глаза. Встретился с долгим ответным взглядом.
– Что задумал ты, Микаэл?
– Передай господину Бека, что ушёл я. Ещё скажи, что вовек буду помнить его доброту и мудрые наставления. В знак того, что правду сказал, клятву кровью даю.
Михейка вырвал из ножен клинок, полоснул левую руку.
– Как падает кровь на землю, так обещаю откинуть воинское оружие, когда выйдет тому возможность. Кинжал и стрелы сменю на молоток и чеканы.
Липарит хотел закричать: «Что ты делаешь?», хотел сказать: «Останься, без нас пропадёшь». Но ничего этого он не сказал, только крепко обнял мальчонку.
– Прощай, Микаэл. Если беда случится, помни – в Тбилиси второй твой дом.
– Когда возьму орудия в руки, первое, что выбью на металле или, случится, на камне, как поднимался на небо полководец Александр Великий. «Кто тебя научил?» – спросят люди. «Мой старший брат», – отвечу им я.
Михейка ушёл, но, не сделав и трёх шагов, воротился.
– Для Нино бронзу с рисунком припас, да пришлось с подарком расстаться, – сказал он смущённо. – Передай, чтобы помнила. Через тебя она мне сестрой доводится.
– Будь счастлив, мой мальчик, на твоей далёкой лесной родине.
«Давно Липарит и господин Бека про меня догадались. Молчали из благородства и доброты», – подумал Михейка. Он поклонился по-русски, поясным низким поклоном, коснувшись рукой земли, и скрылся в толпе.
