Страница:
– В крепости наше дело, – вмешался Михейка. Ему не терпелось расспросить об Евсевии.
– Верно сказал, что в крепости, – тётушка Этери по-своему поняла Михейкину горячность. – Только припозднились вы, видно сумки дорожные сбирали долго. Просватана ваша Нино.
– Как просватана, за кого? – вскричал Липарит.
– За азнаура просватана, хоть и дочь кузнеца. Реваз в азнауры сам вышел недавно. Лет с десяток тому назад отличился в битве с сельджуками, в награду звание получил. Он тогда и Нино подобрал. Не родной он отец – приёмный. Родных отца с матерью сельджуки порубили у Нино на глазах. Она после этого онемела, долгое время лишь головой кивала: «да», мол, или «нет». Реваз позвал меня. «Исцели, – говорит, – приёмную дочь». – «Доброта и ласка – лучшие для неё средства». Не поскупился Реваз Мтбевари на доброту, полюбил Нино больше родных дочерей. А сейчас словно злой дух вселился. «Старшие дочери, – говорит, – живут с мужьями-азнаурами в богатстве и почёте. И младшая дочь за азнаура пойдёт. Велика ли беда, что жених немолод? Звание пребывает при нём».
– Что же Нино? – упавшим голосом спросил Липарит.
– Всё тебя поджидала. «Братом, – говорит, – назвался, а сам пропал. Не едет, весточки не посылает».
– Разве я смел надеяться, когда узнал, что отец Нино начальник крепости и азнаур.
– Неосторожные я выговорила в ту пору слова. Выхожу виноватой, должна иначе всё повернуть.
Тётушка Этери достала тёмный с кистями платок, повязала вокруг головы.
– В крепость пойду, с Нино повидаюсь.
Михейка бросил на Липарита тревожный взгляд.
– Тётушка Этери, – сказал Липарит и придержал рукой дверь. – Нино для меня больше, чем жизнь. День ли, ночь – каждый час о своей ласточке думаю. Но сюда мы явились ещё для того, чтобы помочь человеку, которого почитаем. Ему стало известно, что в крепости заключён узник по имени Евсевий. Он поручил нам узнать, за какую провинность держат Евсевия и долго ли будет длиться его заточение.
– От дома не отлучайтесь, вернусь с вестями. – Тётушка Этери отвела руку, державшую дверь, и вышла.
Липарит опустился на лавку, уставился на пол. «Сам во всём виноват, только трусы бездействуют, – понеслись в голове тяжёлые мысли. – Ничего не узнал, не разведал, сдался без боя. Теперь зато знаю, что равен Нино по происхождению. У обоих отцы занимались одним ремеслом – оба кузнечили. Теперь буду биться за мерцхали-ласточку, хоть с целой стаей коршунов и орлов».
 Смутная тревога заставила Липарита оторвать взгляд от пола. Он почувствовал вдруг, что находится в доме один и Микаэла с ним нет.
Смутная тревога заставила Липарита оторвать взгляд от пола. Он почувствовал вдруг, что находится в доме один и Микаэла с ним нет.
Михейка выскочил следом за тётушкой Этери, незаметно пошёл за ней. Когда вдалеке показалась крепость, он присел на ствол искривлённого дерева, подождал, пока скрылась его невольная проводница. После чего, не таясь, двинулся по обходной тропе.
В Грузии что ни скала, то утвердилась крепость, что ни холм, то встала дозорная башня. Пещеры в горах превратились в укрытия, ущелья закрылись стенами. Набеги сельджуков и персов долгие годы терзали страну, и каменная броня служила людям надёжной защитой. Но такого мощного сооружения, какой оказалась Верхняя, Михейка ранее не видал. Крепость выступала навстречу, как сплочённый для битвы полк. Булыжные стены, наращивая скалу, закрывали полнеба. Башни с навесными бойницами грозно глядели на стороны света, словно великаны из-под насупленных хмуро бровей. Возле обитых железом ворот стояли вооружённые воины.
«Без пропуска или условленных слов не пройти», – отметил Михейка. Он продвигался теперь по дну ущелья, вдоль обмелевшего за лето ручья. Узкая полоска воды то и дело разбивалась на рукава или ныряла под камни, грозя застрять там совсем. «Тысяча человек в случае надобности укроются, – продолжал Михейка свои наблюдения за булыжными стенами и великанами-башнями, взнесёнными высоко над головой. – Продовольствия припасено в подклетях достаточно. Воду берут из ручья. Во время осады добывают с гор».
Михейка обогнул колючий кустарник, споткнулся и чуть не упал. Дорогу перегородила глиняная труба. Огромной змеёй она выползла из толщи скалы и смотрелась круглым жерлом в ручей.
«Так и есть, – снова подумал Михейка. – Самое простое поднимать воду снизу. И хитро как приладили. Трубу уложили в каменный жёлоб, прикрыли плитами с выемкой – покойся, словно в горсти». Он хотел было двинуться дальше, но что-то удерживало его на месте, какая-то смутная мысль, вернее сказать, воспоминание. Не ко времени в памяти всплыл услышанный когда-то давно жаркий спор. Михейка тогда в малолетних ходил, а Юрий Андреевич грузинским царём прозывался, супругом царицы Тамар. Собрались у Юрия Андреевича в палатах гости. Ели, пили, игру музыкантов слушали – всё, как положено. И вдруг заспорили, да так, что чуть не до гнева дошло. Юрий Андреевич в спор не вступал, только усмехался. Чудную причину выбрали гости кричать и горячиться. «В персидском сочинении влюблённые Вис и Рамин бегут через топку в бане, – кричали одни. – А в переводе Саргиса Тмогвели Вис и Рамин спасаются через подземный спуск для сточной воды. Против правды Саргис поступил, нарушив точность рассказа». – «Саргис персидское сочинение переложил на грузинский лад. Он описал грузинскую баню, а не персидскую. Правильно сделал, что заменил топку сточной трубой», – возражали другие.
Отчего так отчётливо вспомнился вдруг этот спор?
В стороне Михейка приметил другую трубу. Подошёл. Труба имела квадратное жерло, обмазанное внутри плотным слоем извёстки. Это был сток. Тогда, во время спора, Михейка подумал: «Из-за сточных труб горячатся». Теперь возникли мысли другие: «Выходит, что сочинительство способно в деле помочь».

Тётушка Этери вернулась домой опечаленная.
– Под замок самодур-отец посадил названую дочь. Захотелось попасть к знатному азнауру в родню, так силой согласия требует. Только плохо он Нино свою знает. Нино твердить будет «нет», пока горы не сдвинутся с места, не опрокинется небо на землю, не потекут реки назад.
– Весть бы подать.
– Стражи сказывают, начальник воспрещает к оконцу приблизиться, к дверям подойти. До того крепко держит, что еду сам приносит. Нино в крепости любят, так у Реваза доверия ни к кому нет. Со мной разговаривать отказался.
– И Микаэл пропал, – грустно сказал Липарит.
– Куда подевался?
– Тихо ушёл. Я вокруг поискал. Кричать поопасался, чтобы внимания не привлечь.
– Побродит-побродит, вернётся.
– Что, если в крепость пошёл?
– Мальчонка смышлёный. Барсу в пасть не полезет.
Плечи бились об узкие стены, дышать становилось трудно. Воздух тонкими ручейками утекал из трубы. Но в крепости находился Евся, и никогда по собственной воле не повернул бы Михейка обратно.
Упереться коленями и локтями – податься вперёд. Снова упереться – снова вперёд. Ещё раз, ещё…
Труба поднималась вначале круто, потом спустила наклон. Ползти стало легче, дышать тяжелее. Пот застилал глаза. Упереться – податься, упереться… Руки Михейка ободрал до крови. Податься… Впереди возникло светлое пятно. Потянуло воздухом. Ещё немного, ещё…
Михейка подтянулся в последний раз и выполз из жерла.
Сочинитель правильно написал. Труба привела в бани.
Свет сквозь круглые отверстия в своде разливался столбцами по двум помещениям, связанным между собой открытым проёмом. Первое помещение, с раковинами и стоком для слива воды, предназначалось для мытья. Михейка сразу приметил случившийся здесь непорядок, кусок штукатурки возле одной из раковин отвалился. Наружу торчала развороченная глиняная труба. Во втором помещении, где стояли три каменные лежанки из цельных плит в человеческий рост, никаких повреждений не было. Стены красовались красными кружками и волнистыми линиями. В углублениях-нишах поигрывали синей поливой глиняные кувшины для благовоний. Михейке приходилось видеть бани намного нарядней, в узорах из золота, с драгоценной китайской посудой и беломраморными лежанками, отполированными, как бронзовые зеркала. В банях мылись, но также и отдыхали. На лежанках, пока прогревали тело до самых костей, велись бесконечные разговоры. На скамьях играли в шахматы, заключали торговые сделки.
Михейка вышел в предбанник, толкнул наружную дверь. Она оказалась запертой. Никаким попыткам сорвать её с петель дверь не поддалась, тем более что действовать приходилось без шума, не в полную силу. Неужели весь путь был проделан напрасно и не попасть ему в крепость? Михейка вернулся в банные помещения, стал думать, где могли бы располагаться топка с котлом. Откуда поступала в раковины горячая вода, шёл жар для лежанок и разогретый дым, разносящий в стенах по трубам тепло? Никаких других выходов, кроме предбанника, не имелось. Оставалось одно: попробовать сдвинуть с места лежанку, посмотреть, что под ней. Михейка сел на иол, спиной к стене. Согнутыми в коленях ногами упёрся в плиту, ладонями – в иол и попробовал распрямить ноги. С равным успехом он мог бы толкать скалу. Михейка усилил напряжение, давил и давил, ни на мгновение не расслабляясь. Ему казалось, что рухнет стена – он продавит её спиной, опустится пол под напором его ладоней. Наконец камень дрогнул, отъехал углом. На толщину в два пальца проступила чёрная щель. Михейка вновь напряг ноги, ладони, всё тело. Камень пополз, медленно и нехотя отодвинулся.
– Всё, – сказал сам себе Михейка. – Теперь в подвал.
Повисев на руках, Михейка спрыгнул вниз. При слабом свете, пробившемся из-под сдвинутой лежанки, он увидел крутобокий котёл с большой топкой. Во все стороны расходились трубы. Михейка осторожно их обошёл. В темноте, за котлом нащупал ступени – вот и вход, через который в подвал входил истопник. Михейка поднялся вверх, дёрнул дверную скобу. С неожиданной лёгкостью дверь распахнулась. В глаза выстрелил яркий, солнечный луч. Михейка переступил порог, замер.
В небольшом помещении, куда он попал, его поджидали.

Глава XII
Глава XIII
– Верно сказал, что в крепости, – тётушка Этери по-своему поняла Михейкину горячность. – Только припозднились вы, видно сумки дорожные сбирали долго. Просватана ваша Нино.
– Как просватана, за кого? – вскричал Липарит.
– За азнаура просватана, хоть и дочь кузнеца. Реваз в азнауры сам вышел недавно. Лет с десяток тому назад отличился в битве с сельджуками, в награду звание получил. Он тогда и Нино подобрал. Не родной он отец – приёмный. Родных отца с матерью сельджуки порубили у Нино на глазах. Она после этого онемела, долгое время лишь головой кивала: «да», мол, или «нет». Реваз позвал меня. «Исцели, – говорит, – приёмную дочь». – «Доброта и ласка – лучшие для неё средства». Не поскупился Реваз Мтбевари на доброту, полюбил Нино больше родных дочерей. А сейчас словно злой дух вселился. «Старшие дочери, – говорит, – живут с мужьями-азнаурами в богатстве и почёте. И младшая дочь за азнаура пойдёт. Велика ли беда, что жених немолод? Звание пребывает при нём».
– Что же Нино? – упавшим голосом спросил Липарит.
– Всё тебя поджидала. «Братом, – говорит, – назвался, а сам пропал. Не едет, весточки не посылает».
– Разве я смел надеяться, когда узнал, что отец Нино начальник крепости и азнаур.
– Неосторожные я выговорила в ту пору слова. Выхожу виноватой, должна иначе всё повернуть.
Тётушка Этери достала тёмный с кистями платок, повязала вокруг головы.
– В крепость пойду, с Нино повидаюсь.
Михейка бросил на Липарита тревожный взгляд.
– Тётушка Этери, – сказал Липарит и придержал рукой дверь. – Нино для меня больше, чем жизнь. День ли, ночь – каждый час о своей ласточке думаю. Но сюда мы явились ещё для того, чтобы помочь человеку, которого почитаем. Ему стало известно, что в крепости заключён узник по имени Евсевий. Он поручил нам узнать, за какую провинность держат Евсевия и долго ли будет длиться его заточение.
– От дома не отлучайтесь, вернусь с вестями. – Тётушка Этери отвела руку, державшую дверь, и вышла.
Липарит опустился на лавку, уставился на пол. «Сам во всём виноват, только трусы бездействуют, – понеслись в голове тяжёлые мысли. – Ничего не узнал, не разведал, сдался без боя. Теперь зато знаю, что равен Нино по происхождению. У обоих отцы занимались одним ремеслом – оба кузнечили. Теперь буду биться за мерцхали-ласточку, хоть с целой стаей коршунов и орлов».

Михейка выскочил следом за тётушкой Этери, незаметно пошёл за ней. Когда вдалеке показалась крепость, он присел на ствол искривлённого дерева, подождал, пока скрылась его невольная проводница. После чего, не таясь, двинулся по обходной тропе.
В Грузии что ни скала, то утвердилась крепость, что ни холм, то встала дозорная башня. Пещеры в горах превратились в укрытия, ущелья закрылись стенами. Набеги сельджуков и персов долгие годы терзали страну, и каменная броня служила людям надёжной защитой. Но такого мощного сооружения, какой оказалась Верхняя, Михейка ранее не видал. Крепость выступала навстречу, как сплочённый для битвы полк. Булыжные стены, наращивая скалу, закрывали полнеба. Башни с навесными бойницами грозно глядели на стороны света, словно великаны из-под насупленных хмуро бровей. Возле обитых железом ворот стояли вооружённые воины.
«Без пропуска или условленных слов не пройти», – отметил Михейка. Он продвигался теперь по дну ущелья, вдоль обмелевшего за лето ручья. Узкая полоска воды то и дело разбивалась на рукава или ныряла под камни, грозя застрять там совсем. «Тысяча человек в случае надобности укроются, – продолжал Михейка свои наблюдения за булыжными стенами и великанами-башнями, взнесёнными высоко над головой. – Продовольствия припасено в подклетях достаточно. Воду берут из ручья. Во время осады добывают с гор».
Михейка обогнул колючий кустарник, споткнулся и чуть не упал. Дорогу перегородила глиняная труба. Огромной змеёй она выползла из толщи скалы и смотрелась круглым жерлом в ручей.
«Так и есть, – снова подумал Михейка. – Самое простое поднимать воду снизу. И хитро как приладили. Трубу уложили в каменный жёлоб, прикрыли плитами с выемкой – покойся, словно в горсти». Он хотел было двинуться дальше, но что-то удерживало его на месте, какая-то смутная мысль, вернее сказать, воспоминание. Не ко времени в памяти всплыл услышанный когда-то давно жаркий спор. Михейка тогда в малолетних ходил, а Юрий Андреевич грузинским царём прозывался, супругом царицы Тамар. Собрались у Юрия Андреевича в палатах гости. Ели, пили, игру музыкантов слушали – всё, как положено. И вдруг заспорили, да так, что чуть не до гнева дошло. Юрий Андреевич в спор не вступал, только усмехался. Чудную причину выбрали гости кричать и горячиться. «В персидском сочинении влюблённые Вис и Рамин бегут через топку в бане, – кричали одни. – А в переводе Саргиса Тмогвели Вис и Рамин спасаются через подземный спуск для сточной воды. Против правды Саргис поступил, нарушив точность рассказа». – «Саргис персидское сочинение переложил на грузинский лад. Он описал грузинскую баню, а не персидскую. Правильно сделал, что заменил топку сточной трубой», – возражали другие.
Отчего так отчётливо вспомнился вдруг этот спор?
В стороне Михейка приметил другую трубу. Подошёл. Труба имела квадратное жерло, обмазанное внутри плотным слоем извёстки. Это был сток. Тогда, во время спора, Михейка подумал: «Из-за сточных труб горячатся». Теперь возникли мысли другие: «Выходит, что сочинительство способно в деле помочь».

Тётушка Этери вернулась домой опечаленная.
– Под замок самодур-отец посадил названую дочь. Захотелось попасть к знатному азнауру в родню, так силой согласия требует. Только плохо он Нино свою знает. Нино твердить будет «нет», пока горы не сдвинутся с места, не опрокинется небо на землю, не потекут реки назад.
– Весть бы подать.
– Стражи сказывают, начальник воспрещает к оконцу приблизиться, к дверям подойти. До того крепко держит, что еду сам приносит. Нино в крепости любят, так у Реваза доверия ни к кому нет. Со мной разговаривать отказался.
– И Микаэл пропал, – грустно сказал Липарит.
– Куда подевался?
– Тихо ушёл. Я вокруг поискал. Кричать поопасался, чтобы внимания не привлечь.
– Побродит-побродит, вернётся.
– Что, если в крепость пошёл?
– Мальчонка смышлёный. Барсу в пасть не полезет.
Плечи бились об узкие стены, дышать становилось трудно. Воздух тонкими ручейками утекал из трубы. Но в крепости находился Евся, и никогда по собственной воле не повернул бы Михейка обратно.
Упереться коленями и локтями – податься вперёд. Снова упереться – снова вперёд. Ещё раз, ещё…
Труба поднималась вначале круто, потом спустила наклон. Ползти стало легче, дышать тяжелее. Пот застилал глаза. Упереться – податься, упереться… Руки Михейка ободрал до крови. Податься… Впереди возникло светлое пятно. Потянуло воздухом. Ещё немного, ещё…
Михейка подтянулся в последний раз и выполз из жерла.
Сочинитель правильно написал. Труба привела в бани.
Свет сквозь круглые отверстия в своде разливался столбцами по двум помещениям, связанным между собой открытым проёмом. Первое помещение, с раковинами и стоком для слива воды, предназначалось для мытья. Михейка сразу приметил случившийся здесь непорядок, кусок штукатурки возле одной из раковин отвалился. Наружу торчала развороченная глиняная труба. Во втором помещении, где стояли три каменные лежанки из цельных плит в человеческий рост, никаких повреждений не было. Стены красовались красными кружками и волнистыми линиями. В углублениях-нишах поигрывали синей поливой глиняные кувшины для благовоний. Михейке приходилось видеть бани намного нарядней, в узорах из золота, с драгоценной китайской посудой и беломраморными лежанками, отполированными, как бронзовые зеркала. В банях мылись, но также и отдыхали. На лежанках, пока прогревали тело до самых костей, велись бесконечные разговоры. На скамьях играли в шахматы, заключали торговые сделки.
Михейка вышел в предбанник, толкнул наружную дверь. Она оказалась запертой. Никаким попыткам сорвать её с петель дверь не поддалась, тем более что действовать приходилось без шума, не в полную силу. Неужели весь путь был проделан напрасно и не попасть ему в крепость? Михейка вернулся в банные помещения, стал думать, где могли бы располагаться топка с котлом. Откуда поступала в раковины горячая вода, шёл жар для лежанок и разогретый дым, разносящий в стенах по трубам тепло? Никаких других выходов, кроме предбанника, не имелось. Оставалось одно: попробовать сдвинуть с места лежанку, посмотреть, что под ней. Михейка сел на иол, спиной к стене. Согнутыми в коленях ногами упёрся в плиту, ладонями – в иол и попробовал распрямить ноги. С равным успехом он мог бы толкать скалу. Михейка усилил напряжение, давил и давил, ни на мгновение не расслабляясь. Ему казалось, что рухнет стена – он продавит её спиной, опустится пол под напором его ладоней. Наконец камень дрогнул, отъехал углом. На толщину в два пальца проступила чёрная щель. Михейка вновь напряг ноги, ладони, всё тело. Камень пополз, медленно и нехотя отодвинулся.
– Всё, – сказал сам себе Михейка. – Теперь в подвал.
Повисев на руках, Михейка спрыгнул вниз. При слабом свете, пробившемся из-под сдвинутой лежанки, он увидел крутобокий котёл с большой топкой. Во все стороны расходились трубы. Михейка осторожно их обошёл. В темноте, за котлом нащупал ступени – вот и вход, через который в подвал входил истопник. Михейка поднялся вверх, дёрнул дверную скобу. С неожиданной лёгкостью дверь распахнулась. В глаза выстрелил яркий, солнечный луч. Михейка переступил порог, замер.
В небольшом помещении, куда он попал, его поджидали.

Глава XII
ВОЗВРАЩЕНИЕ
С рассвета белые облака недвижно лежали на дальних вершинах. После полудня клубящийся поток потянулся вниз.
– Хлынет дождь, пригонит мальчонку обратно, – сказала тётушка Этери.
Дождь хлынул долгий и яростный. Струи громко били по крыше, словно хотели ворваться в дом.
– Ты кто?
– Я – Михейка. Микаэл моё имя.
– Стой, где стоишь, порога не переступай. Как пролез?
– По сточной трубе. Да ты сама кто такая, чтобы расспросы вести? – Михейка в любое мгновение готов был ринуться вниз и скрыться.
– Я-то хозяйка, а что за змея вползла в крепость по трубам, это ещё надо выяснить. Я тебя задержала.
– Сама зачем взгромоздилась на стол, мышей испугалась?
– Какие мыши? Слышу, орудует кто-то внизу, захотела в оконце на помощь позвать, да любопытно стало.
Девчонка, не намного старше Михейки, стояла на столе и держалась рукой за оконную нишу, расположенную под потолком.
– Ладно, заходи, – сказала она строго. – Вижу, что оружия при себе не имеешь, а я имею. Помни про это.
Девчонка спрыгнула на пол, и тут Михейка увидел, что глаза у неё синие, как камень сапфир.
– Ты Нино?
– Смотрите, и в крепость он лаз отыскал, и меня знает.
– Ещё бы не знать. Первое, я и есть тот раненый, которого ты под деревом обнаружила. Второе, Липарит об одной тебе думает, камни называет твоим именем. Раньше камни как назывались? «Ночная звезда», или «Гневное око», или «Отблеск луны в полнолуние». Теперь называются «Мерцхали Нино».
Нино опустилась на лавку, перекинула за спину косы.
– Тебя послали, чтобы ты рассказал мне об этом? – спросила она с вызовом.
– Ничего не послали. У Липарита своё здесь дело, у меня, на особь, своё. Узник в Верхней содержится. Можешь свести меня с ним?
Нино расхохоталась. Кровь отхлынула от лица мальчонки. Губы скривились. Белыми пятнами проступили скулы.
– Думаешь, если узник, то непременно враг. Какой он враг, если нет у нас войска. Родины, дома, родных – ничего у нас нет.
Нино оборвала смех.
– Я потому, – сказала она тихо, – что сама взаперти сижу. Мне ли другим помогать? Да и не пошла бы я против отца. Он в крепости главный, за всё в ответе. Заточён твой узник в верху южной башни, во двор не выходит. Вот и весь сказ.
– Какая на нём вина, что так крепко держат?
– Тайный он узник. Заточён по приказу амирспасалара. Сам отец ничего другого не знает.
– Понятно, – Михейка потёр кулаками виски. – А тебя за какую провинность заключили вместе с горшками?
В нишах и на лавках вдоль стен стояли кувшины с мыльными жидкостями и благовонными умащениями.
– Маленький, чтобы понимать.
– Я в пять лет заглянул первый раз в глаза смерти. Запамятовал, когда значился в маленьких.
– Не ты один. Ладно, скажу: замуж идти неволят.
– Ух ты! – присвистнул Михейка. – Липариту тогда погибель. Да чего дожидаться? Бежим. Вис за Рамином через трубы сбежала. Сток сухой. Вниз ползти – не вверх взбираться. Мигом в ущелье окажемся.
Михейка потянул Нино к спуску в подвал.
– Пусти, – вырвалась Нино. – Названый отец мне родных отца с матерью заменил, когда их порубили сельджуки. Мне ли забыть о доброте и опозорить его дом?
Михейка хотел возразить, но опустил голову и промолчал. В сказанном заключена была правда.
– Ты обо мне не печалься, – сказала Нино. – Меня до поры закрыли, пока выправляют поломанную у раковины трубу. Выправят – выпустят. Остаться без бани не пожелают.
– В другое место запрут.
– И в другом продержат не целую вечность. Всё равно не вырвут согласия на ненавистную свадьбу. Понял?
– Понял, передам, кому надо. Ты же узнику поклонись.
– Об этом молчи. Ступай. В крепости больше не появляйся, первая подниму крик.
– Мир стоит до рати, а рать до мира, – произнёс Михейка. Такими словами князья на Руси предлагали друг другу покончить с усобицей и заключить мир.
Михейка выбрался из бани тем же путём, каким проник.
Громада южной башни висела над самым высоким обрывом. Стены из булыги и бутового камня поднимались на высоту в сорок локтей. Навесные бойницы отсутствовали. Башня слепо помаргивала узкими щелями, прорезанными на верхних ярусах. Кровлю обегал зубчатый венец.
«Евсю закрыли на четвёртом ярусе, на третьем расположились воины. В бойницы ласточка с трудом пролетит», – прикидывал Михейка. Он поднялся на противоположный склон и занял место в кустах против башни. Мысли потекли невесёлые. Как Михейка ни прикидывал, как ни считал, башня никаким расчётам не поддавалась. Подкоп сквозь толщу скалы не пробить, кровлю не разобрать, с воинами в одиночку не справиться. «Вся надежда на господина Шота, если захочет противоборствовать самому амирспасалару».
Михейка раздвинул кусты и выпрямился в рост. Нужно было подать Евсе знак, чтобы он знал и надеялся. Только как это сделать? По-грузински крикнуть – стража поймёт. По-русски – Евсю выдать, навлечь на него новые беды. Времени на раздумья оставалось в обрез. С гор наползали тучи. Земля и небо притихли, как бывает перед большим дождём. Хлынет дождь – сквозь ливень звукам трубы не пробиться, не то что крику. И тут Михейка запел. Он затянул без слов, одним голосом, любимую песню Юрия Андреевича о подвигах Добрыни, неустрашимого богатыря. Из бойницы на верхнем ярусе выпал камушек, потом ещё и ещё один.
Евся услышал. Он принял сигнал.
Вестники шли по грузинской земле, трубя в трубы и созывая народ. «Радуйтесь, люди – апхазы, грузины, раны, кахи и месхи! Мощью своей, силой духа и разумом царь царей Тамар одолела врага. Храбрые рати сокрушили все вражьи крепости, прошли по городам и селениям и захватили большую добычу». Люди слушали, плакали и ликовали. Рыдали в голос, оплакивая погибших. Радостными возгласами приветствовали победу.
«Осенённые счастьем Тамар, малочисленные победили многочисленных! – продолжали вестники. – Витязи царя царей показали себя по-обычному. Они рассеяли неприятеля, как соколы куропаток, как барсы джейранов. Они обратили сельджуков в бегство и доставили превозносимой изо дня в день Тамар несчётное множество людей и коней».
«Лев по когтям узнаётся, а Тамар по делам, – записал в тетради придворный историограф Басили. – Кто пожелает знать, пусть посмотрит города, крепости и земли, принадлежавшие султанам и ею взятые, пусть узнает о наложенной дани».
Караваны с богатым грузом потянулись в Тбилиси. Были в тюках золото в слитках и драгоценная утварь, были уборы из жемчуга и каменьев, аксамит и виссон, шёлк и парча, затканная золотой и серебряной нитью. Были шлемы и сабли испытанные, кольчуги из мелких стальных колец, посеребрённые щиты. В сосудах из золота и серебра благоухали смолы алойных деревьев.

Поверх тюков, ларцов и корзин лежала добыча главнее всех прочих – знамёна, отнятые у врага.
В память победы царица цариц раздавала захваченные богатства. Каждого, кто отличился в бою, нашла её щедрость. Наградой вельможам служили земли, крепости и селения. Воины из простых получили звание азнауров. Неимущие сделались сильными. Сильные укрепились, стали ещё сильней и богаче.
Радовались, веселились, охотились, пировали. Ходили слухи о предстоявших состязаниях, о раздаче новых наград.
В самый разгар веселья из дальних странствий возвратился Чахрухадзе. Он отсутствовал достаточно долго, чтобы многие при дворе успели забыть о нём. Но тот, кто знал и любил его умную речь и пылкие строфы, обрадовался его приезду, как собственной удаче.
В честь поэта-скитальца Закарэ Мхаргрдзели устроил пир. Сам Давид Сослани почтил дом амирспасалара своим присутствием. Но государь пробыл недолго. Едва начали обносить третьей переменой, он пожелал счастливого пирования, распрощался и ушёл. Всем было известно, что супруг царицы цариц называл пиры «самым пустым расточительством времени».
Пировали весело. Время расточали бездумно.
«Тяжелее горы лежали на столах сокровища и богатства, казна и драгоценности, и легче соломинки были заботы пирующих», – сказано в поэме о Вис и Рамин.
За окнами, обращёнными к Мтквари, висела непроглядная тьма. В пиршественном зале царил яркий день. Семь светильников спускались на цепях с потолка, как семь планет. Бронзовый шар в мелкой резьбе висел в середине и излучал сияние, наподобие солнца. На стенных изразцах отсвечивали золотые, лучистые звёзды.
Разместились за столом без чинов. Вельможные азнауры сидели рядом с поэтами и учёными. Знатность рода ставилась высоко, талант и знания, однако, ценились не меньше.
После ухода Давида Сослани резное хозяйское кресло с высокой спинкой оставалось пустым. Закарэ сидел среди остальных гостей, рядом с почётным гостем. В день возвращения Чахрухадзе передал слово в слово свою беседу с великим князем Савалтом, и амирспасалар остался доволен. За дружеским столом разговор протекал иначе. Чахрухадзе-поэт рассказывал о чудесах, увиденных за лесами.
– Как многие непосвящённые в истину, я представлял северные русские земли дикими и неприветливыми. Я ожидал увидеть шалаши с земляными крышами, в беспорядке разбросанные в лесу. Но стоило лишь вступить в речные ворота Владимира, как нелепость подобных вымыслов сменилась чувством восторга при виде красивого и разумно устроенного города. Храмы поспорят величием с константинопольскими. Дома горожан удобны и основательны. Русские строят жилища из брёвен, так как считают, что в каменных строениях трудно дышать.
– Русские правы, – засмеялся Закарэ и повёл рукой в сторону курильниц.
Вдоль туфовых стен с изразцовыми плитами выстроились бронзовые барсы, лошади, петухи. Сквозь узорные прорези, наподобие пятен на шкуре или разводов перьев, тянулся тонкий смолистый запах и освежал сгустившийся под каменным потолком воздух.
– Что превыше всего поразило твоё воображение? – спросил Шота. Он сидел по левую руку от Чахрухадзе и не сводил с рассказчика тёмных без блеска глаз.
– Поразила грамотность жителей. Даже женщины из простонародья умеют читать и писать. Много тем для размышлений предоставила также рыцарская поэма о походе против степных орд, и, насколько я мог расслышать музыку незнакомого языка, рассказ ведётся взволнованным и высоким слогом. Подобно птице, парит поэт над страной; он видит дальние дали и прозревает толщу ушедших лет, чтобы великие деяния предков постоянно служили примером ныне живущим. Саму неудачу похода поэт использовал для призыва к сплочению и единству.
– Возымел призыв действие? – с усмешкой спросил Закарэ.
– Несомненно, мой господин. Доказательством явился новый поход, собравший под свои знамёна почти всех владетельных русских князей. «Слово поэта – огонь на ветру» – так сказал владимирский историограф.
– Великие слова. Они достойны, чтобы их повторяли! – воскликнул Шота. – Назови нам имя русского собрата-поэта.
– Увы, не сумел спросить. Знаю только, что он спасалар во время войны, поэт и учёный во время мира. Список поэмы мне передали как дар великого князя Савалта.
– Поэма в Тбилиси и ты об этом молчишь?
– Поэма молчит в Тбилиси, Шота, и нужен второй Саргис Тмогвели, пересказавший нам «Вис и Рамин», чтобы поэма заговорила.
Слуги внесли сациви из кур, с толчёными орехами, наполнили чаши. Загремели, загромыхали тимпаны, тонко повела шестиствольная флейта – ларчеми, запели трёхструнные пандури. В зал ворвались танцоры. Понеслись, закружились в вихревой пляске. Замелькали кинжалы, принялись разить плечи и грудь. Светлой молнией нож летел через спину и замирал на ладони танцора. Слуга в тёмном шёлковом ахалухе с трудом пробился сквозь пляску, напоминавшую яростный бой. Неприметной тенью он приблизился к амирспасалару, что-то тихо проговорил. Амирспасалар поднялся и вышел.
Танцоров сменили плясуньи, стремительные и лёгкие, словно ласточки. Запели певцы.
Пир шёл своим чередом, и не предвиделось конца веселью. Звенели чанги – грузинские арфы. Ларчеми и пандури заливались многоголосно. Шут в колпаке с петушиным гребнем дурачился и дразнил гостей. Семь бронзовых светильников обливали светом золотые блюда и чаши в каменьях, кубки из расписного египетского стекла и кувшины грузинской работы с высокими лебедиными горлами, в чеканных узорах.
Тяжелее горы лежали на столах сокровища и богатства. Но верно ли, что легче соломинки были заботы пирующих?
В закрытой от постороннего взора палате Закарэ ожидало письмо. Гонец вручил его слугам как спешное. Закарэ сломал печать, развернул скатанный в трубку лист. Бумага не содержала ни единого знака. Закарэ поднёс лист к курильнице с тлевшими углями. От тепла проступили чёрные буквы, нанесённые раствором нашатыря. Сообщение было столь же коротким, сколь и неприятным: «Гиорги Русский в Византии не появлялся. След разыскать не удалось».
«Поистине, тяжесть забот иногда тяжелее горы», – подумал Закарэ. Он сжёг донесение на жаровне. К гостям вернулся с ясным взором и безмятежной улыбкой.
– Пусть извинит меня мой господин, что докучаю в час отдыха и веселья, но гложет меня забота, чёрную тучу которой способен рассеять только амирспасалар, – такими словами встретил его Шота.
– Какие у поэта заботы? – Закарэ догадался, что разговор получится не из приятных и попробовал свести всё к весёлой шутке. – Мысль не укладывается в слова или слова не подчиняются заданному размеру? Только я всего лишь жалкий спасалар. Полки должным образом выстроить – за это возьмусь. Выстроить в ряд слова, увы, не сумею.
Шота шутки не поддержал.
– Мне случайно стало известно, что человек, спасший мне жизнь, заключён в крепость Верхняя, неподалёку от Тмогви. Ряды из слов не понадобятся. Одно слово амирспасалара способно вернуть узнику волю и снять тяжесть с души поэта, – произнёс Шота твёрдо.
– Откуда у тебя подобные сведения?
– Я сказал: «Мне случайно стало известно».
Улыбка сохранилась на мужественном, красивом лице амирспасалара. Только взор сделался твёрже стали.
– Забудь, что узнал, забудь об этом человеке.
– Моя просьба обращена теперь не к амирспасалару, а к близкому другу.
– Шота Руставели в скором времени займёт пост верховного казначея и получит кресло в дарбази. Плохой из него выйдет сановник, если он не усвоит простую истину: у дружбы нет власти над делами и тайнами государства.
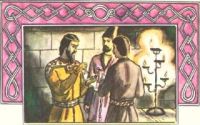
– Хлынет дождь, пригонит мальчонку обратно, – сказала тётушка Этери.
Дождь хлынул долгий и яростный. Струи громко били по крыше, словно хотели ворваться в дом.
– Ты кто?
– Я – Михейка. Микаэл моё имя.
– Стой, где стоишь, порога не переступай. Как пролез?
– По сточной трубе. Да ты сама кто такая, чтобы расспросы вести? – Михейка в любое мгновение готов был ринуться вниз и скрыться.
– Я-то хозяйка, а что за змея вползла в крепость по трубам, это ещё надо выяснить. Я тебя задержала.
– Сама зачем взгромоздилась на стол, мышей испугалась?
– Какие мыши? Слышу, орудует кто-то внизу, захотела в оконце на помощь позвать, да любопытно стало.
Девчонка, не намного старше Михейки, стояла на столе и держалась рукой за оконную нишу, расположенную под потолком.
– Ладно, заходи, – сказала она строго. – Вижу, что оружия при себе не имеешь, а я имею. Помни про это.
Девчонка спрыгнула на пол, и тут Михейка увидел, что глаза у неё синие, как камень сапфир.
– Ты Нино?
– Смотрите, и в крепость он лаз отыскал, и меня знает.
– Ещё бы не знать. Первое, я и есть тот раненый, которого ты под деревом обнаружила. Второе, Липарит об одной тебе думает, камни называет твоим именем. Раньше камни как назывались? «Ночная звезда», или «Гневное око», или «Отблеск луны в полнолуние». Теперь называются «Мерцхали Нино».
Нино опустилась на лавку, перекинула за спину косы.
– Тебя послали, чтобы ты рассказал мне об этом? – спросила она с вызовом.
– Ничего не послали. У Липарита своё здесь дело, у меня, на особь, своё. Узник в Верхней содержится. Можешь свести меня с ним?
Нино расхохоталась. Кровь отхлынула от лица мальчонки. Губы скривились. Белыми пятнами проступили скулы.
– Думаешь, если узник, то непременно враг. Какой он враг, если нет у нас войска. Родины, дома, родных – ничего у нас нет.
Нино оборвала смех.
– Я потому, – сказала она тихо, – что сама взаперти сижу. Мне ли другим помогать? Да и не пошла бы я против отца. Он в крепости главный, за всё в ответе. Заточён твой узник в верху южной башни, во двор не выходит. Вот и весь сказ.
– Какая на нём вина, что так крепко держат?
– Тайный он узник. Заточён по приказу амирспасалара. Сам отец ничего другого не знает.
– Понятно, – Михейка потёр кулаками виски. – А тебя за какую провинность заключили вместе с горшками?
В нишах и на лавках вдоль стен стояли кувшины с мыльными жидкостями и благовонными умащениями.
– Маленький, чтобы понимать.
– Я в пять лет заглянул первый раз в глаза смерти. Запамятовал, когда значился в маленьких.
– Не ты один. Ладно, скажу: замуж идти неволят.
– Ух ты! – присвистнул Михейка. – Липариту тогда погибель. Да чего дожидаться? Бежим. Вис за Рамином через трубы сбежала. Сток сухой. Вниз ползти – не вверх взбираться. Мигом в ущелье окажемся.
Михейка потянул Нино к спуску в подвал.
– Пусти, – вырвалась Нино. – Названый отец мне родных отца с матерью заменил, когда их порубили сельджуки. Мне ли забыть о доброте и опозорить его дом?
Михейка хотел возразить, но опустил голову и промолчал. В сказанном заключена была правда.
– Ты обо мне не печалься, – сказала Нино. – Меня до поры закрыли, пока выправляют поломанную у раковины трубу. Выправят – выпустят. Остаться без бани не пожелают.
– В другое место запрут.
– И в другом продержат не целую вечность. Всё равно не вырвут согласия на ненавистную свадьбу. Понял?
– Понял, передам, кому надо. Ты же узнику поклонись.
– Об этом молчи. Ступай. В крепости больше не появляйся, первая подниму крик.
– Мир стоит до рати, а рать до мира, – произнёс Михейка. Такими словами князья на Руси предлагали друг другу покончить с усобицей и заключить мир.
Михейка выбрался из бани тем же путём, каким проник.
Громада южной башни висела над самым высоким обрывом. Стены из булыги и бутового камня поднимались на высоту в сорок локтей. Навесные бойницы отсутствовали. Башня слепо помаргивала узкими щелями, прорезанными на верхних ярусах. Кровлю обегал зубчатый венец.
«Евсю закрыли на четвёртом ярусе, на третьем расположились воины. В бойницы ласточка с трудом пролетит», – прикидывал Михейка. Он поднялся на противоположный склон и занял место в кустах против башни. Мысли потекли невесёлые. Как Михейка ни прикидывал, как ни считал, башня никаким расчётам не поддавалась. Подкоп сквозь толщу скалы не пробить, кровлю не разобрать, с воинами в одиночку не справиться. «Вся надежда на господина Шота, если захочет противоборствовать самому амирспасалару».
Михейка раздвинул кусты и выпрямился в рост. Нужно было подать Евсе знак, чтобы он знал и надеялся. Только как это сделать? По-грузински крикнуть – стража поймёт. По-русски – Евсю выдать, навлечь на него новые беды. Времени на раздумья оставалось в обрез. С гор наползали тучи. Земля и небо притихли, как бывает перед большим дождём. Хлынет дождь – сквозь ливень звукам трубы не пробиться, не то что крику. И тут Михейка запел. Он затянул без слов, одним голосом, любимую песню Юрия Андреевича о подвигах Добрыни, неустрашимого богатыря. Из бойницы на верхнем ярусе выпал камушек, потом ещё и ещё один.
Евся услышал. Он принял сигнал.
Вестники шли по грузинской земле, трубя в трубы и созывая народ. «Радуйтесь, люди – апхазы, грузины, раны, кахи и месхи! Мощью своей, силой духа и разумом царь царей Тамар одолела врага. Храбрые рати сокрушили все вражьи крепости, прошли по городам и селениям и захватили большую добычу». Люди слушали, плакали и ликовали. Рыдали в голос, оплакивая погибших. Радостными возгласами приветствовали победу.
«Осенённые счастьем Тамар, малочисленные победили многочисленных! – продолжали вестники. – Витязи царя царей показали себя по-обычному. Они рассеяли неприятеля, как соколы куропаток, как барсы джейранов. Они обратили сельджуков в бегство и доставили превозносимой изо дня в день Тамар несчётное множество людей и коней».
«Лев по когтям узнаётся, а Тамар по делам, – записал в тетради придворный историограф Басили. – Кто пожелает знать, пусть посмотрит города, крепости и земли, принадлежавшие султанам и ею взятые, пусть узнает о наложенной дани».
Караваны с богатым грузом потянулись в Тбилиси. Были в тюках золото в слитках и драгоценная утварь, были уборы из жемчуга и каменьев, аксамит и виссон, шёлк и парча, затканная золотой и серебряной нитью. Были шлемы и сабли испытанные, кольчуги из мелких стальных колец, посеребрённые щиты. В сосудах из золота и серебра благоухали смолы алойных деревьев.

Поверх тюков, ларцов и корзин лежала добыча главнее всех прочих – знамёна, отнятые у врага.
В память победы царица цариц раздавала захваченные богатства. Каждого, кто отличился в бою, нашла её щедрость. Наградой вельможам служили земли, крепости и селения. Воины из простых получили звание азнауров. Неимущие сделались сильными. Сильные укрепились, стали ещё сильней и богаче.
Радовались, веселились, охотились, пировали. Ходили слухи о предстоявших состязаниях, о раздаче новых наград.
В самый разгар веселья из дальних странствий возвратился Чахрухадзе. Он отсутствовал достаточно долго, чтобы многие при дворе успели забыть о нём. Но тот, кто знал и любил его умную речь и пылкие строфы, обрадовался его приезду, как собственной удаче.
В честь поэта-скитальца Закарэ Мхаргрдзели устроил пир. Сам Давид Сослани почтил дом амирспасалара своим присутствием. Но государь пробыл недолго. Едва начали обносить третьей переменой, он пожелал счастливого пирования, распрощался и ушёл. Всем было известно, что супруг царицы цариц называл пиры «самым пустым расточительством времени».
Пировали весело. Время расточали бездумно.
«Тяжелее горы лежали на столах сокровища и богатства, казна и драгоценности, и легче соломинки были заботы пирующих», – сказано в поэме о Вис и Рамин.
За окнами, обращёнными к Мтквари, висела непроглядная тьма. В пиршественном зале царил яркий день. Семь светильников спускались на цепях с потолка, как семь планет. Бронзовый шар в мелкой резьбе висел в середине и излучал сияние, наподобие солнца. На стенных изразцах отсвечивали золотые, лучистые звёзды.
Разместились за столом без чинов. Вельможные азнауры сидели рядом с поэтами и учёными. Знатность рода ставилась высоко, талант и знания, однако, ценились не меньше.
После ухода Давида Сослани резное хозяйское кресло с высокой спинкой оставалось пустым. Закарэ сидел среди остальных гостей, рядом с почётным гостем. В день возвращения Чахрухадзе передал слово в слово свою беседу с великим князем Савалтом, и амирспасалар остался доволен. За дружеским столом разговор протекал иначе. Чахрухадзе-поэт рассказывал о чудесах, увиденных за лесами.
– Как многие непосвящённые в истину, я представлял северные русские земли дикими и неприветливыми. Я ожидал увидеть шалаши с земляными крышами, в беспорядке разбросанные в лесу. Но стоило лишь вступить в речные ворота Владимира, как нелепость подобных вымыслов сменилась чувством восторга при виде красивого и разумно устроенного города. Храмы поспорят величием с константинопольскими. Дома горожан удобны и основательны. Русские строят жилища из брёвен, так как считают, что в каменных строениях трудно дышать.
– Русские правы, – засмеялся Закарэ и повёл рукой в сторону курильниц.
Вдоль туфовых стен с изразцовыми плитами выстроились бронзовые барсы, лошади, петухи. Сквозь узорные прорези, наподобие пятен на шкуре или разводов перьев, тянулся тонкий смолистый запах и освежал сгустившийся под каменным потолком воздух.
– Что превыше всего поразило твоё воображение? – спросил Шота. Он сидел по левую руку от Чахрухадзе и не сводил с рассказчика тёмных без блеска глаз.
– Поразила грамотность жителей. Даже женщины из простонародья умеют читать и писать. Много тем для размышлений предоставила также рыцарская поэма о походе против степных орд, и, насколько я мог расслышать музыку незнакомого языка, рассказ ведётся взволнованным и высоким слогом. Подобно птице, парит поэт над страной; он видит дальние дали и прозревает толщу ушедших лет, чтобы великие деяния предков постоянно служили примером ныне живущим. Саму неудачу похода поэт использовал для призыва к сплочению и единству.
– Возымел призыв действие? – с усмешкой спросил Закарэ.
– Несомненно, мой господин. Доказательством явился новый поход, собравший под свои знамёна почти всех владетельных русских князей. «Слово поэта – огонь на ветру» – так сказал владимирский историограф.
– Великие слова. Они достойны, чтобы их повторяли! – воскликнул Шота. – Назови нам имя русского собрата-поэта.
– Увы, не сумел спросить. Знаю только, что он спасалар во время войны, поэт и учёный во время мира. Список поэмы мне передали как дар великого князя Савалта.
– Поэма в Тбилиси и ты об этом молчишь?
– Поэма молчит в Тбилиси, Шота, и нужен второй Саргис Тмогвели, пересказавший нам «Вис и Рамин», чтобы поэма заговорила.
Слуги внесли сациви из кур, с толчёными орехами, наполнили чаши. Загремели, загромыхали тимпаны, тонко повела шестиствольная флейта – ларчеми, запели трёхструнные пандури. В зал ворвались танцоры. Понеслись, закружились в вихревой пляске. Замелькали кинжалы, принялись разить плечи и грудь. Светлой молнией нож летел через спину и замирал на ладони танцора. Слуга в тёмном шёлковом ахалухе с трудом пробился сквозь пляску, напоминавшую яростный бой. Неприметной тенью он приблизился к амирспасалару, что-то тихо проговорил. Амирспасалар поднялся и вышел.
Танцоров сменили плясуньи, стремительные и лёгкие, словно ласточки. Запели певцы.
Пир шёл своим чередом, и не предвиделось конца веселью. Звенели чанги – грузинские арфы. Ларчеми и пандури заливались многоголосно. Шут в колпаке с петушиным гребнем дурачился и дразнил гостей. Семь бронзовых светильников обливали светом золотые блюда и чаши в каменьях, кубки из расписного египетского стекла и кувшины грузинской работы с высокими лебедиными горлами, в чеканных узорах.
Тяжелее горы лежали на столах сокровища и богатства. Но верно ли, что легче соломинки были заботы пирующих?
В закрытой от постороннего взора палате Закарэ ожидало письмо. Гонец вручил его слугам как спешное. Закарэ сломал печать, развернул скатанный в трубку лист. Бумага не содержала ни единого знака. Закарэ поднёс лист к курильнице с тлевшими углями. От тепла проступили чёрные буквы, нанесённые раствором нашатыря. Сообщение было столь же коротким, сколь и неприятным: «Гиорги Русский в Византии не появлялся. След разыскать не удалось».
«Поистине, тяжесть забот иногда тяжелее горы», – подумал Закарэ. Он сжёг донесение на жаровне. К гостям вернулся с ясным взором и безмятежной улыбкой.
– Пусть извинит меня мой господин, что докучаю в час отдыха и веселья, но гложет меня забота, чёрную тучу которой способен рассеять только амирспасалар, – такими словами встретил его Шота.
– Какие у поэта заботы? – Закарэ догадался, что разговор получится не из приятных и попробовал свести всё к весёлой шутке. – Мысль не укладывается в слова или слова не подчиняются заданному размеру? Только я всего лишь жалкий спасалар. Полки должным образом выстроить – за это возьмусь. Выстроить в ряд слова, увы, не сумею.
Шота шутки не поддержал.
– Мне случайно стало известно, что человек, спасший мне жизнь, заключён в крепость Верхняя, неподалёку от Тмогви. Ряды из слов не понадобятся. Одно слово амирспасалара способно вернуть узнику волю и снять тяжесть с души поэта, – произнёс Шота твёрдо.
– Откуда у тебя подобные сведения?
– Я сказал: «Мне случайно стало известно».
Улыбка сохранилась на мужественном, красивом лице амирспасалара. Только взор сделался твёрже стали.
– Забудь, что узнал, забудь об этом человеке.
– Моя просьба обращена теперь не к амирспасалару, а к близкому другу.
– Шота Руставели в скором времени займёт пост верховного казначея и получит кресло в дарбази. Плохой из него выйдет сановник, если он не усвоит простую истину: у дружбы нет власти над делами и тайнами государства.
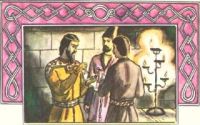
Глава XIII
В ПОКОЯХ ВДОВСТВУЮЩЕЙ ЦАРИЦЫ
Работать над чашей Липарит начал давно, но вперёд продвигался без спешки, то и дело чашу откладывал из-за новых заказов. После поездки в крепость положение изменилось. Заказчики могли гневаться сколько угодно. Оклады, перстни и кубки незаконченными отправлялись в ларцы и на полки ждать своего часа. Липарит занялся другим. С рассвета до темноты его молоток выбивал торопливую дробь по крюку-чекану для выколотки полых изделий. От ударов мелко подрагивала серебряная чаша на литых ножках, формой схожая с яблоком, у которого срезали верх. Как на подушках, чаша покоилась на мешочках с песком и медленно поворачивалась, подставляя чекану тщательно выровненные бока. С каждым поворотом ясней и отчётливей проступали на стенках фигуры. Пели певцы, плясали танцоры, веселье разворачивалось под арками дворцовых палат. А на серебряном поле, свободном и ясном, как небо, взмывала вверх огромная птица-паскунджи
