Страница:
«МОСКВА, 24 сентября (молния). Как и следовало ожидать, советский стратостат никуда не полетел. Большевики, по обыкновению, переоценили свои возможности. Из осведомленных источников сообщают, что неудача стратостата является результатом саботажа нескольких крупных инженеров, недовольных своими бытовыми условиями и требующих повышения заработной платы.»
В дальнейшем эта же телеграмма подвергалась тщательной «идеологической» переработке где-нибудь в Риге. В результате телеграмма эта приобретала следующий вид:
«РИГА, 24 сентября. Как сообщают из Москвы, советский стратостат не полетел в результате низкого качества советского водорода. Неудачному старту предшествовало вооруженное восстание инженеров, строивших стратостат. Восставшими инженерами командовал известный летчик Чухновский. Стратостат оборонял отряд китайцев и латышей под командой летчика Бабушкина. По непроверенным слухам выясняется, что вообще никакого стратостата в природе не существовало, и что все это — очередная провокация ГПУ.»
А вот в самом низу, на дне белогвардейского болота в каком-нибудь мелком городке Югославии престарелый генерал уже несся по улицам с пачкой газет экстренного выпуска и, захлебываясь от радости, выкрикивал:
«— Советский стратостат лопнул! Совнарком арестован! Войска восставших под командой генерала Бабушкина-Чухновского подходят к Серпухову!»
ТРИДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ
МАРС И РЫБА
В ГОНДОЛЕ
В дальнейшем эта же телеграмма подвергалась тщательной «идеологической» переработке где-нибудь в Риге. В результате телеграмма эта приобретала следующий вид:
«РИГА, 24 сентября. Как сообщают из Москвы, советский стратостат не полетел в результате низкого качества советского водорода. Неудачному старту предшествовало вооруженное восстание инженеров, строивших стратостат. Восставшими инженерами командовал известный летчик Чухновский. Стратостат оборонял отряд китайцев и латышей под командой летчика Бабушкина. По непроверенным слухам выясняется, что вообще никакого стратостата в природе не существовало, и что все это — очередная провокация ГПУ.»
А вот в самом низу, на дне белогвардейского болота в каком-нибудь мелком городке Югославии престарелый генерал уже несся по улицам с пачкой газет экстренного выпуска и, захлебываясь от радости, выкрикивал:
«— Советский стратостат лопнул! Совнарком арестован! Войска восставших под командой генерала Бабушкина-Чухновского подходят к Серпухову!»
ТРИДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ
Ночь на 30 сентября предъявила нам все свои созвездия, и в каждом из них, от Альфы до Омеги, все сулило нам наконец «исполнение желаний». Немедленно началась подготовка к старту. Она проводилась с образцовой четкостью, спокойствием и быстротой. Неудача прошлого старта во многом пошла на пользу. Газ на этот раз давали не из металлических баллонов, а из больших резиновых газгольдеров. Легкие и огромные, медленно-колышущиеся резиновые туши зеленых газгольдеров напоминали, как уже было не раз замечено, слонов. Большое стадо резиновых слонов паслось на траве аэродрома. Красноармейцы подводили их «под уздцы», и длинный хобот шланга соединял газгольдеры с оболочкой Затем по команде красноармейцы разом бросались на газгольдер и выжимали из него газ, как выжимают из тюбика краску.
Ночной туман стелился над землей, но небо было чисто, предвещая прекрасный день, удачный старт. Оболочка вздувалась пока еще огромным полушарием. Поспешая за ней, раздувалось рассветом небо.
В дежурной комнате аэродрома всю ночь сновали люди, хлопали двери, звенел телефон, стучали машинки. Иностранные корреспонденты торопливо отстукивали сообщения для всего мира. Между городом и аэродромом сновали машины, летели во все страны телеграммы. Мы чувствовали себя в преддверии огромного исторического события. А в углу нашей комнаты сидел безучастный и сонный человек, подшивал какие-то бумаги и невозмутимо медленно, с упоением щелкал на счетах…
Два небольших воздушных шара-прыгуна с подвешенными скамеечками-качелями, на которых сидело по человеку, двигались в воздухе вокруг исполинской, ставшей уже бокалообразной, оболочки стратостата. Шары витали над стратостатом, порхали вокруг него, взбирались на него, скользили на привязи вдоль его боков. Я слышно было, как терлись друг о друга упругие шелковистые оболочки. Люди были так малы, в сравнении с громадой стратостата, что глаз просто скидывал их со счетов, почти не замечая.
В синеющем рассветом небе, в кометных хвостах прожекторов вращались летучие шары, осиянные фиолетовыми лучами; где-то внизу в не растаявшем тумане копошились крохотные фигурки людей. Чудовищная махина оболочки медленно неуклонно вздувалась над слоем мглы и росла, росла, словно выпертая из недр земли какими-то титаническими силами, похожая на громадный протуберанец, ударивший в небо, взброшенный и застывший… Это было зрелище захватывающего, почти космического величия. Может быть, его смогла бы передать кисть Юона, автора картины «Рождение планеты».
Отпущенная на длину стропов, оболочка стратостата высилась более чем на 75 метров. Она была так непомерно и грандиозно высока, что верхушка и человечек с шаром на ней осветились солнцем задолго до того, когда первые лучи светила коснулись нас, стоящих на поле внизу.
Сначала засияла нежным розовым светом серебристая раздутая верхушка оболочки. Потом — розовая глазурь, как с верхушки кулича, стала растекаться по складкам, спускаясь все ниже и ниже. Туман оползал с неба, и в великолепном рассиявшемся утре стратостат возник над полем необъятно громадный, ликующий, похожий на сказочной величины восклицательный знак, в «точке» которого легко умещались трое людей.
Небо было открыто для полета!
Но вот все было закончено и на земле. Стратостат взвешен, аппаратура еще раз проверена. Аэронавты уже обрастали бытом путешествия. Им принесли костюмы, пищу, оружие. Командир стратостата т. Прокофьев, хладнокровно покусывая бисквит, возился у люка стратостата.
 …Последняя густая волна утреннего тумана накатывается на аэродром, на короткое время плотно закрывая поле. Но метеорологи приносят последнюю сводку погоды. Кривые разомкнулись. Сводка благоприятна. Прогнозы полны оптимизма. Годунов смотрит на карту, смотрит потом на ясное бестуманное небо…
…Последняя густая волна утреннего тумана накатывается на аэродром, на короткое время плотно закрывая поле. Но метеорологи приносят последнюю сводку погоды. Кривые разомкнулись. Сводка благоприятна. Прогнозы полны оптимизма. Годунов смотрит на карту, смотрит потом на ясное бестуманное небо…
— Ну, — весело говорит он, — сегодня уж шалишь! Обязательно полетим.
— Изумительная погода! — поздравляют аэронавтов провожающие. — Смотрите, прямо не шелохнет. Этак вы и будете висеть над Москвой.
— Пожалуйста, — отвечает Прокофьев. — Почему бы не сесть прямо на Красную площадь. Я — с удовольствием!
— Вот мы вам какую погоду приготовили, — смеется метеоролог. — Прямо по заказу.
— Благодарю за старание, — шутливо отвечает Прокофьев и идет за черту старта выкурить последнюю папиросу. Он курит ее медленно и со смаком. Пахучий дымок улетучивается в синее небо. И капитан занебесного корабля уверенно осматривает горизонты.
Одна за другой, свистя в воздухе и свертываясь змеей, падают выдернутые поясные веревки.
— Внимание! Первый, второй, третий сектора на поясных. Дать слабину!
И стратостат, напружившись, с силой потянулся вверх
— Хоррош! Красота!
Прокофьев идет в гондолу. Он жмет на ходу руки, прощаясь. Жужжат киноаппараты. Красноармейцы с трудом удерживают в руках гондолу, с трудом сдерживают рвение стратостата.
Специальная комиссия приближается к гондоле. Пломбируют метеорологические приборы. Теперь перья самопишущих приборов установлены на барабане. Перья воткнулись в нуль. Теперь никто, кроме комиссии, не имеет права вскрыть аппараты и снять с валиков их нелицеприятные записи, их автоматическую короткую летопись предстоящего полета.
Взвивается, быстро уходя в небо, гирлянда легких шаров-зондов знаменитой системы профессора Молчанова Маленький пропеллер вертится от движения ветра под нижним шаром. Он похож на соединенные вместе четыре деревянные ложки. Он вертит маленькую динамку, и зонд шлет нам с высоты свои холодные наблюдения над погодой, ветром, состоянием атмосферы. Это — разведчик, посланный в небо.
— Внимание, полную тишину на старте! — командует Гараканидзе.
Поворачивается штурвал в гондоле.
Натянулась красная бечева, связанная с клапаном. Раздается звенящий свист. Человечек с шаром подлетает к верхушке стратостата и прислушивается, как работает клапан.
«Провожающие, выходи!» — пошутил кто-то из команды. Люди, проверявшие скрепления стропов гондолы, соскочили на землю. Внутри осталось трое: Прокофьев, Годунов, Бирнбаум. Трое советских людей, трое представителей человечества, летящих в неведомое, может быть, три Атланта нашей эры, которым суждено своими плечами поднять небо повыше. Командир старта Гараканидзе приказал всем, кроме команды, отойти от гондолы. В последний раз, похлопав ладонью манящий глянец гондолы, мы отошли. Прокофьев, высунувшись из люка со спокойной хорошей улыбкой кивал провожающим. Он оглядел ясное синеющее небо. Остатки тумана уползали с поля, и солнце согревало уверенный мужественный лоб капитана далекого воздухоплавания.
— Можно пускать?
— Можно.
— Экипаж в кабине?
— Есть в кабине!
— Бортжурнал?
— Есть бортжурнал!
Была тишина. Воздух, крепкий воздух земной поверхности вбирался внутрь гондолы. Там, наверху, в случае, если полет затянется, каждый кубометр воздуха будет дорог, как дорог глоток пресной воды среди океана соленой. Была тишина, какая бывает перед началом большого, серьезного научного опыта. Вдруг мы почувствовали себя в центре огромного мира. Мир следил за этими тремя людьми, ждал и надеялся. Как у Гоголя, «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Слово «История», никем не произнесенное, подслушал в себе каждый. И в то же время вдруг люди в гондоле стали всем нам очень близкими, родными, их было страшно отпускать. Они, живые, теплые, уйдут сейчас в ледяные дали, наши товарищи по работе, наши братья по земле.
В эту минуту все мыслилось в каких-то огромных и абстрактных масштабах. «Жизнь есть форма существования белковых тел», — вспомнилась нам почему-то энгельсовская формула. Ах, чорт, какая замечательная форма, какое превосходное белковое тело — человек! Вот ему были отпущены на жизнь два «плоских» измерения, а он смело лезет отвоевывать у природы третье — вверх.
— Отдать гондолу! — скомандовал Гараканидзе.
Красноармейцы разом отпустили… Они отбежали в сторону, и стратостат тотчас быстро, плавно, неукоснительно пошел вверх.
— В полете! — крикнул командир старта.
— Есть в полете! — звучно ответил сверху командир улетающего стратостата.
Ура!.. Он улетал, улетал, он уходил вверх, весь серебристый, легкий, но непреклонно спокойный и напористый. Великолепное небо принимало его.
 — Уф, две недели ждали мы этого часу, — произнес кто-то.
— Уф, две недели ждали мы этого часу, — произнес кто-то.
— Ничего, товарищ, человечество ждало тысячелетия, — ответили ему.
Мы вспомнили в эту минуту не легендарных Дедала и Икара, не братьев Монгольфьеров и даже не профессора Пиккара, выглядывающего из люка кабинки. Мы вспомнили недавно виденное нами серьезное лицо со сдвинутыми бровями и нахмуренным лбом, молодое мужественное лицо, склонившееся над картой, озаренное мягким светом настольной лампы. Нам искренно жаль полковника Линдберга, Чарльза Линдберга, нам жаль его потому, что невозможно верить в того бога, которому он поклоняется. Не существует в природе бога техники, он — выдумка фарисеев, заблуждение тех, которые, подобно страусу, прячут свою голову подмышкой в священном ужасе перед политикой, в паническом бегстве от классовой борьбы.
Мы вспомнили полковника Линдберга потому, что этот человек, образец завоевателя стихии, ухитрился отрегулировать свою волю, свой рассудок, свои способности с микроскопической точностью. Мы вспомнили любопытный облик полковника Линдберга, захватанный грязными руками шакалов мещанского болота, потому, что в тот момент, когда тяжелыми слоями пал на землю густой и белесый туман и стратостат подпрыгнул в высь, как большой резиновый мяч, один из иностранных корреспондентов, находящихся в Москве, нашел уместным произнести пошловатую остроту:
— Какая изумительная погода! Бог, очевидно, покровительствует безбожникам! Здорово вам везет, чорт возьми!
Мы вспомнили короля воздуха, полковника Линдберга, в этот момент потому, что мы как раз за несколько дней до его отлета из СССР имели с ним любопытную беседу на тему о счастливчиках и неудачниках, на тему о «везении», о счастье, о пилотской судьбе.
Полковник Линдберг усмехался вежливо и одновременно несколько снисходительно. Снисходительно не по отношению к большевикам, задающим каждому гостю из «потустороннего» мира каверзные вопросы, но по отношению к тем искателям приключений на больших воздушных дорогах земного шара, которые не летают по пятницам и по понедельникам, которые украшают свои пилотские кабинки языческими «маскотами», носительницами счастья, которые обставляют свое трудное, умное благородное летное дело десятком бессмысленных бабьих предрассудков.
Полковник Линдберг преклоняется перед богом техники, он не верит в суеверия, он верит в науку, в технику и математику, в точный расчет.
Ни одно решение, касающееся своих полетов, он не принимает, не почерпнув предварительно из драгоценного кладезя технических завоеваний человечества необходимых ему точных математических формул, не вооружившись бумагой и карандашом, не сосредоточив своей воли и своего ума на вычитаниях и сложениях, на умножениях на логарифмах.
Когда советский стратостат поставил мировой рекорд, мы искренно пожалели полковника Линдберга, ибо мы много богаче его.
В тот же день длинная колонна советских автомобилей после десятитысячного пробега по необъятным просторам нашей страны финишировала в Красной столице. Советские автомобили — плоть и кровь пятилетки, — преодолев невероятные трудности, в неустанной каждодневной борьбе со стихией, закончили свое победное шествие по лесам, болотам, степям и пустыням.
За истекшие годы слой за слоем, как туман, опустившийся на московский аэродром в день вылета стратостата, открыв в результате своего падет голубое улыбающееся небо, спадала с сознания трудящихся шестой части мира пелена невежества, безграмотности и суеверия. Она спадала постепенно, слой за слоем, вместе с кровавыми лохмотьями, в которые облечена была молодая революции с оружием в руках защищавшая завоевания Октября…
Мы улыбались все в этот день, и улыбалось нам голубое осеннее небо, ибо в новой нашей победе, одержанной в пространствах, до сих пор недосягаемых для человечества, был надежный залог для наших грядущих побед в борьбе за переустройство мира.
…Какой это необыкновенный был день — 30 сентября 1933 года, один из тех дней, которые входят преданьем в века. С одного конца Москвы вылетел в занебесье первый советский стратостат, а с другого — в тот же час вступала в город героическая колонна автомобилей Кара-Кумского пробега, Это был день великих стартов и славных финишей. День преодоления необлетанных пустынь неба и исхоженных троп земли. Он сам сиял, как влюбленный, этот день, день головокружительной высоты, солнечно-ликующий, щедро-синий. Мы давно не видели, чтобы столько людей радовалось разом…
Мы возвращались в город. Москва стояла, задравши голову. Высовывались из окон кондукторши автобусов. Затормозив машину, глядели в небо шоферы. Стояли пешеходы на тротуарах. Закинув голову на горб, исходя счастливой улыбкой, стоял на углу худенький горбун. И дети, дети, скача на асфальте, кричали:
— Трататат летит, трататат!..
Нет, это был какой-то необыкновенный день! На стадионе «Динамо» на зеленом плато его мелькали майки футболистов в генеральной схватке сезона, в матче лучших команд Советского союза — «Украина-РСФСР». Это был день теплый и яркий, как бы случайно оброненный уже ушедшим летом на скучной осенней дороге. В Зоологическом саду выпускали при шумном ликовании детворы свой воздушный шар с синими утками, крашеными фуксином… Москва жила на улицах и за городом, нельзя было усидеть в комнате, нельзя было отвести глаз от сверкающей серебряной искринки, повиснувшей на невиданной высоте в московском синем небе.
Ночной туман стелился над землей, но небо было чисто, предвещая прекрасный день, удачный старт. Оболочка вздувалась пока еще огромным полушарием. Поспешая за ней, раздувалось рассветом небо.
В дежурной комнате аэродрома всю ночь сновали люди, хлопали двери, звенел телефон, стучали машинки. Иностранные корреспонденты торопливо отстукивали сообщения для всего мира. Между городом и аэродромом сновали машины, летели во все страны телеграммы. Мы чувствовали себя в преддверии огромного исторического события. А в углу нашей комнаты сидел безучастный и сонный человек, подшивал какие-то бумаги и невозмутимо медленно, с упоением щелкал на счетах…
Два небольших воздушных шара-прыгуна с подвешенными скамеечками-качелями, на которых сидело по человеку, двигались в воздухе вокруг исполинской, ставшей уже бокалообразной, оболочки стратостата. Шары витали над стратостатом, порхали вокруг него, взбирались на него, скользили на привязи вдоль его боков. Я слышно было, как терлись друг о друга упругие шелковистые оболочки. Люди были так малы, в сравнении с громадой стратостата, что глаз просто скидывал их со счетов, почти не замечая.
В синеющем рассветом небе, в кометных хвостах прожекторов вращались летучие шары, осиянные фиолетовыми лучами; где-то внизу в не растаявшем тумане копошились крохотные фигурки людей. Чудовищная махина оболочки медленно неуклонно вздувалась над слоем мглы и росла, росла, словно выпертая из недр земли какими-то титаническими силами, похожая на громадный протуберанец, ударивший в небо, взброшенный и застывший… Это было зрелище захватывающего, почти космического величия. Может быть, его смогла бы передать кисть Юона, автора картины «Рождение планеты».
Отпущенная на длину стропов, оболочка стратостата высилась более чем на 75 метров. Она была так непомерно и грандиозно высока, что верхушка и человечек с шаром на ней осветились солнцем задолго до того, когда первые лучи светила коснулись нас, стоящих на поле внизу.
Сначала засияла нежным розовым светом серебристая раздутая верхушка оболочки. Потом — розовая глазурь, как с верхушки кулича, стала растекаться по складкам, спускаясь все ниже и ниже. Туман оползал с неба, и в великолепном рассиявшемся утре стратостат возник над полем необъятно громадный, ликующий, похожий на сказочной величины восклицательный знак, в «точке» которого легко умещались трое людей.
Небо было открыто для полета!
Но вот все было закончено и на земле. Стратостат взвешен, аппаратура еще раз проверена. Аэронавты уже обрастали бытом путешествия. Им принесли костюмы, пищу, оружие. Командир стратостата т. Прокофьев, хладнокровно покусывая бисквит, возился у люка стратостата.

— Ну, — весело говорит он, — сегодня уж шалишь! Обязательно полетим.
— Изумительная погода! — поздравляют аэронавтов провожающие. — Смотрите, прямо не шелохнет. Этак вы и будете висеть над Москвой.
— Пожалуйста, — отвечает Прокофьев. — Почему бы не сесть прямо на Красную площадь. Я — с удовольствием!
— Вот мы вам какую погоду приготовили, — смеется метеоролог. — Прямо по заказу.
— Благодарю за старание, — шутливо отвечает Прокофьев и идет за черту старта выкурить последнюю папиросу. Он курит ее медленно и со смаком. Пахучий дымок улетучивается в синее небо. И капитан занебесного корабля уверенно осматривает горизонты.
Одна за другой, свистя в воздухе и свертываясь змеей, падают выдернутые поясные веревки.
— Внимание! Первый, второй, третий сектора на поясных. Дать слабину!
И стратостат, напружившись, с силой потянулся вверх
— Хоррош! Красота!
Прокофьев идет в гондолу. Он жмет на ходу руки, прощаясь. Жужжат киноаппараты. Красноармейцы с трудом удерживают в руках гондолу, с трудом сдерживают рвение стратостата.
Специальная комиссия приближается к гондоле. Пломбируют метеорологические приборы. Теперь перья самопишущих приборов установлены на барабане. Перья воткнулись в нуль. Теперь никто, кроме комиссии, не имеет права вскрыть аппараты и снять с валиков их нелицеприятные записи, их автоматическую короткую летопись предстоящего полета.
Взвивается, быстро уходя в небо, гирлянда легких шаров-зондов знаменитой системы профессора Молчанова Маленький пропеллер вертится от движения ветра под нижним шаром. Он похож на соединенные вместе четыре деревянные ложки. Он вертит маленькую динамку, и зонд шлет нам с высоты свои холодные наблюдения над погодой, ветром, состоянием атмосферы. Это — разведчик, посланный в небо.
— Внимание, полную тишину на старте! — командует Гараканидзе.
Поворачивается штурвал в гондоле.
Натянулась красная бечева, связанная с клапаном. Раздается звенящий свист. Человечек с шаром подлетает к верхушке стратостата и прислушивается, как работает клапан.
«Провожающие, выходи!» — пошутил кто-то из команды. Люди, проверявшие скрепления стропов гондолы, соскочили на землю. Внутри осталось трое: Прокофьев, Годунов, Бирнбаум. Трое советских людей, трое представителей человечества, летящих в неведомое, может быть, три Атланта нашей эры, которым суждено своими плечами поднять небо повыше. Командир старта Гараканидзе приказал всем, кроме команды, отойти от гондолы. В последний раз, похлопав ладонью манящий глянец гондолы, мы отошли. Прокофьев, высунувшись из люка со спокойной хорошей улыбкой кивал провожающим. Он оглядел ясное синеющее небо. Остатки тумана уползали с поля, и солнце согревало уверенный мужественный лоб капитана далекого воздухоплавания.
— Можно пускать?
— Можно.
— Экипаж в кабине?
— Есть в кабине!
— Бортжурнал?
— Есть бортжурнал!
Была тишина. Воздух, крепкий воздух земной поверхности вбирался внутрь гондолы. Там, наверху, в случае, если полет затянется, каждый кубометр воздуха будет дорог, как дорог глоток пресной воды среди океана соленой. Была тишина, какая бывает перед началом большого, серьезного научного опыта. Вдруг мы почувствовали себя в центре огромного мира. Мир следил за этими тремя людьми, ждал и надеялся. Как у Гоголя, «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Слово «История», никем не произнесенное, подслушал в себе каждый. И в то же время вдруг люди в гондоле стали всем нам очень близкими, родными, их было страшно отпускать. Они, живые, теплые, уйдут сейчас в ледяные дали, наши товарищи по работе, наши братья по земле.
В эту минуту все мыслилось в каких-то огромных и абстрактных масштабах. «Жизнь есть форма существования белковых тел», — вспомнилась нам почему-то энгельсовская формула. Ах, чорт, какая замечательная форма, какое превосходное белковое тело — человек! Вот ему были отпущены на жизнь два «плоских» измерения, а он смело лезет отвоевывать у природы третье — вверх.
— Отдать гондолу! — скомандовал Гараканидзе.
Красноармейцы разом отпустили… Они отбежали в сторону, и стратостат тотчас быстро, плавно, неукоснительно пошел вверх.
— В полете! — крикнул командир старта.
— Есть в полете! — звучно ответил сверху командир улетающего стратостата.
Ура!.. Он улетал, улетал, он уходил вверх, весь серебристый, легкий, но непреклонно спокойный и напористый. Великолепное небо принимало его.

— Ничего, товарищ, человечество ждало тысячелетия, — ответили ему.
Мы вспомнили в эту минуту не легендарных Дедала и Икара, не братьев Монгольфьеров и даже не профессора Пиккара, выглядывающего из люка кабинки. Мы вспомнили недавно виденное нами серьезное лицо со сдвинутыми бровями и нахмуренным лбом, молодое мужественное лицо, склонившееся над картой, озаренное мягким светом настольной лампы. Нам искренно жаль полковника Линдберга, Чарльза Линдберга, нам жаль его потому, что невозможно верить в того бога, которому он поклоняется. Не существует в природе бога техники, он — выдумка фарисеев, заблуждение тех, которые, подобно страусу, прячут свою голову подмышкой в священном ужасе перед политикой, в паническом бегстве от классовой борьбы.
Мы вспомнили полковника Линдберга потому, что этот человек, образец завоевателя стихии, ухитрился отрегулировать свою волю, свой рассудок, свои способности с микроскопической точностью. Мы вспомнили любопытный облик полковника Линдберга, захватанный грязными руками шакалов мещанского болота, потому, что в тот момент, когда тяжелыми слоями пал на землю густой и белесый туман и стратостат подпрыгнул в высь, как большой резиновый мяч, один из иностранных корреспондентов, находящихся в Москве, нашел уместным произнести пошловатую остроту:
— Какая изумительная погода! Бог, очевидно, покровительствует безбожникам! Здорово вам везет, чорт возьми!
Мы вспомнили короля воздуха, полковника Линдберга, в этот момент потому, что мы как раз за несколько дней до его отлета из СССР имели с ним любопытную беседу на тему о счастливчиках и неудачниках, на тему о «везении», о счастье, о пилотской судьбе.
Полковник Линдберг усмехался вежливо и одновременно несколько снисходительно. Снисходительно не по отношению к большевикам, задающим каждому гостю из «потустороннего» мира каверзные вопросы, но по отношению к тем искателям приключений на больших воздушных дорогах земного шара, которые не летают по пятницам и по понедельникам, которые украшают свои пилотские кабинки языческими «маскотами», носительницами счастья, которые обставляют свое трудное, умное благородное летное дело десятком бессмысленных бабьих предрассудков.
Полковник Линдберг преклоняется перед богом техники, он не верит в суеверия, он верит в науку, в технику и математику, в точный расчет.
Ни одно решение, касающееся своих полетов, он не принимает, не почерпнув предварительно из драгоценного кладезя технических завоеваний человечества необходимых ему точных математических формул, не вооружившись бумагой и карандашом, не сосредоточив своей воли и своего ума на вычитаниях и сложениях, на умножениях на логарифмах.
Когда советский стратостат поставил мировой рекорд, мы искренно пожалели полковника Линдберга, ибо мы много богаче его.
В тот же день длинная колонна советских автомобилей после десятитысячного пробега по необъятным просторам нашей страны финишировала в Красной столице. Советские автомобили — плоть и кровь пятилетки, — преодолев невероятные трудности, в неустанной каждодневной борьбе со стихией, закончили свое победное шествие по лесам, болотам, степям и пустыням.
За истекшие годы слой за слоем, как туман, опустившийся на московский аэродром в день вылета стратостата, открыв в результате своего падет голубое улыбающееся небо, спадала с сознания трудящихся шестой части мира пелена невежества, безграмотности и суеверия. Она спадала постепенно, слой за слоем, вместе с кровавыми лохмотьями, в которые облечена была молодая революции с оружием в руках защищавшая завоевания Октября…
Мы улыбались все в этот день, и улыбалось нам голубое осеннее небо, ибо в новой нашей победе, одержанной в пространствах, до сих пор недосягаемых для человечества, был надежный залог для наших грядущих побед в борьбе за переустройство мира.
…Какой это необыкновенный был день — 30 сентября 1933 года, один из тех дней, которые входят преданьем в века. С одного конца Москвы вылетел в занебесье первый советский стратостат, а с другого — в тот же час вступала в город героическая колонна автомобилей Кара-Кумского пробега, Это был день великих стартов и славных финишей. День преодоления необлетанных пустынь неба и исхоженных троп земли. Он сам сиял, как влюбленный, этот день, день головокружительной высоты, солнечно-ликующий, щедро-синий. Мы давно не видели, чтобы столько людей радовалось разом…
Мы возвращались в город. Москва стояла, задравши голову. Высовывались из окон кондукторши автобусов. Затормозив машину, глядели в небо шоферы. Стояли пешеходы на тротуарах. Закинув голову на горб, исходя счастливой улыбкой, стоял на углу худенький горбун. И дети, дети, скача на асфальте, кричали:
— Трататат летит, трататат!..
Нет, это был какой-то необыкновенный день! На стадионе «Динамо» на зеленом плато его мелькали майки футболистов в генеральной схватке сезона, в матче лучших команд Советского союза — «Украина-РСФСР». Это был день теплый и яркий, как бы случайно оброненный уже ушедшим летом на скучной осенней дороге. В Зоологическом саду выпускали при шумном ликовании детворы свой воздушный шар с синими утками, крашеными фуксином… Москва жила на улицах и за городом, нельзя было усидеть в комнате, нельзя было отвести глаз от сверкающей серебряной искринки, повиснувшей на невиданной высоте в московском синем небе.
МАРС И РЫБА
Нахлобучив наушники, ввинчиваясь в эфир, рукоятками конденсаторов и вариометров мы ловили волну стратостата. И вот мы поймали:
— Говорит Марс, говорит Марс, — услышали мы с волнением, и каждый удар сердца гулко отдавался в наушниках. «Говорит Марс», это звучало величественно и планетарно, как величественен и планетарен был весь этот день.
— Говорит Марс. Высота десять километров. Наружная температура минус пятьдесят пять градусов Цельсия…
Знакомый голос Бирнбаума, с которым мы только что разговаривали на площадке старта, раздавался на весь мир:
— Говорит Марс. Высота двенадцать километров Наружная температура минус шестьдесят градусов.
Это было в 9 час. 08 мин., а через шесть минут мы услышали:
— Находимся на высоте пятнадцати километров. Поднимаемся вверх со скоростью 3 1/2 -4 1/2 метра в секунду.
— Ого! — Мы переглядывались… — Вот это тянут. Этак они через несколько минут пройдут пиккаровскую черту…
Земля отвечала стратостату. С земли говорила «Рыба». Таковы были позывные сигналы радиостанции, которая вела переговоры с экипажем стратостата.
— Говорит Марс, — кричало небо.
— Говорит Рыба, — отвечала земля.
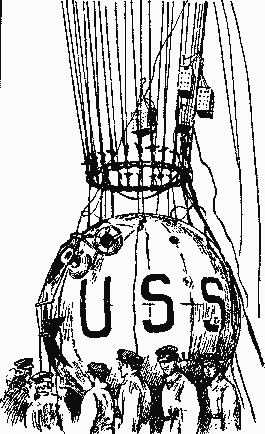 В 9 часов 25 минут мы слышим:
В 9 часов 25 минут мы слышим:
— Алло!.. Говорит Марс. Высота 17.200 метров. Наружная температура минус пятьдесят четыре. Внутри кабины температура нормальная, не чувствуем ни холода, ни жары. Самочувствие отличное.
И земля отвечает:
— У аппарата Алкснис. Приняли вас прекрасно. Слышимость отличная. Желаю успеха… — Сообщите, каково себя чувствуете, — присоединяется с земли руководитель Осоавиахима Эйдеман, — вы уже побили рекорд Пиккара. Рекорд Пиккара побит. Поздравляем!
— Говорит Марс. Принимаю на репродуктор. Орет на всю кабину. Вы просили говорить реже, говорю реже. Высота семнадцать с половиной километров. Наружная температура минус сорок шесть. Прем вверх со скоростью метра в секунду. Настроение хорошее, что надо.
— Желаю успеха, — отвечает земля. — Но рекорд побит, и особенно не увлекайтесь. Слышите? Сообщите, как работают кислородные приборы? Как идут наблюдения? Как используете маневренный балласт? Какой разогрей газа внутри оболочки? Видите ли землю?
Проходят электромагнитные вихри, шорох и писк врываются в этот необыкновенный разговор, и мы на время теряем стратостат из слуха. Но, высунувшись из окна, мы видим их. Мы видим прямо над нашим домом, высоко над Москвой, сверкающий пузырек. По небесной синьке медленно катится серебряный шарик. Миллионы взоров притягивает он. И в это время стратостат опять оказывается в сфере нашего слуха.
— Говорит Марс, — это было в 9 часов 58 минут, — говорит Марс, вашу радиограмму принял. Принимайте от меня. Начальнику ВВС РККА т. Алкснису. Давление 60 миллиметров. По альтиметру высота — 17900 метров. Руководствуемся вашими указаниями. Привет от первого экипажа стратостата «СССР». Прокофьев, Бирнбаум, Годунов.
— Кислород работает пока хорошо. Кислорода достаточно. Внутри гондолы плюс четырнадцать градусов. Стенка кабины, обращенная к солнцу, горяча. Противоположная — холодна, но не особенно сильно. Сейчас гондола поворачивается, разогрев будет со всех сторон равномерный.
Семнадцать тысяч девятьсот! Пиккаровская вершина осталась далеко внизу. И как вообще непохож сегодняшний полет на взлет ученого-одиночки, оторванного от мира и улетевшего в неизвестность. Он связан с землей, наш советский стратостат. Он ни минуты не теряет связи с теми, кто создал, строил, оправил его. Он не рвет корней. Он руководствуется указаниями «земных» товарищей.
В две минуты двенадцатого стратостат сообщает нам:
— Наружная температура минус шестьдесят семь градусов. Внутренняя двадцать два. Подогревает… Балласта маневренного израсходовано восемьдесят килограммов. Перегрев газа оболочки семьдесят пять градусов. Землю видим хорошо, но не знаем, где мы находимся. Сообщите, видно ли нас, где мы.
— Говорит Рыба. Стратостат наблюдаем все время. Вас хорошо видно. Земные пункты наблюдения определили ваше положение в 11 часов: двадцать четыре километра на юго-восток от места старта. Сообщите о вашем самочувствии Сколько времени предполагаете быть на достигнутой высоте? Ваши успехи передаем по радио всей стране и за рубеж. Руководство и экипаж стратостата, Осоавиахим приветствует вас и поздравляет с мировым достижением. Желаем дальнейших успехов и благополучного завершения полета. Алкснис, Эйдеман, Хрипин, Ильин, Вангенгейм.
В 12 часов 13 минут мир услышал следующее сообщение:
— После осадки балласта мы достигли высоты 18400 метров. Давление 51 миллиметр ртутного столба. Механизм сбрасывания балласта в порядке. Оболочка наполнена полностью. Через аппендикс хорошо видна внутренность оболочки около клапана. Клапан в порядке. Приветствуем рабочих «Каучук» номер тридцать девять, НИИ Резино-треста, Главную геофизическую обсерваторию и бюро постройки стратостата как организаторов и строителей стратостата «СССР». Спасибо, товарищи! Благодарим за приветствие участников будущего второго советского полета в стратосферу. Самочувствие экипажа превосходное. Слышим вас отлично.
Прошло полчаса, и в 12 часов 45 минут мы, вся страна, весь мир, были потрясены радостной вестью из стратосферы:
— Говорит Марс. Алкснису, Хрипину. Высота девятнадцать километров. Мы дошли до высоты девятнадцати километров. Давление пятьдесят миллиметров. Следите точнее за нашей высотой с земли.
Теперь сообщения следовали одно за другим:
— 12 час. 50 минут. Алло! Говорит Марс. Высота та же — девятнадцать километров. Уравновесили систему стратостата. Потолок. Мы достигли потолка. Сейчас пойдем на посадку. Передайте наш рапорт с высоты девятнадцати километров.
Передайте в ЦК партии товарищу Сталину!
Передайте в Реввоенсовет товарищу Ворошилову!
Сообщите в Совнарком СССР товарищу Молотову! — что экипаж первого советского стратостата успешно выполнил поставленную перед ним задачу и сообщает о благополучном завершении подъема стратостата «СССР» на высоту девятнадцать тысяч метров (по приборам). Экипаж готов к дальнейшей общей работе по овладению стратосферой.
Командир стратостата «СССР» — Прокофьев. Пилот — Бирнбаум. Инженер — Годунов. Нельзя было усидеть на месте! Мы поздравляли друг друга. Мы стучали в стенку соседям. Мы звонили по телефонам. «Девятнадцать»! — кричали мы в трубку. «Занято» — отвечала станция. Мы выбегали на улицу и, как зачарованные, не могли отвести глаз от новой звезды московского неба. Девятнадцать километров! Мы видели их на высоте девятнадцати километров. В конце концов мы, москвичи, были первыми людьми, видевшими человека на такой высоте… Утолив зрение, мы бежали насыщать слух. Слышимость продолжает быть отличной. Мы слышим тихие переговоры в гондоле. Мы слышим их троих, разговаривающих на чудовищной высоте. Мы слышим, как Прокофьев спрашивает у соратников о высоте, о наружной температуре. Потом мы снова слышим голос Бирнбаума, обращенный к земле:
— Медленно идем на спуск. Чувствуем себя превосходно. Полны энергии. Сейчас высота семнадцать километров.
Земля готовилась принять трех аэронавтов в свое лоно.
— Наблюдаем ваше снижение, — сообщала земля. — В шестнадцать часов передадим вам данные шаропилотных наблюдений для расчетов на посадку. Сядете, вероятно, между Бронницами и Коломной. Высылаем туда техпомощь. Держим самолеты в резерве, чтобы доставить немедленно вас в Москву. Желаем благополучной посадки.
— Говорит Марс, говорит Марс, — услышали мы с волнением, и каждый удар сердца гулко отдавался в наушниках. «Говорит Марс», это звучало величественно и планетарно, как величественен и планетарен был весь этот день.
— Говорит Марс. Высота десять километров. Наружная температура минус пятьдесят пять градусов Цельсия…
Знакомый голос Бирнбаума, с которым мы только что разговаривали на площадке старта, раздавался на весь мир:
— Говорит Марс. Высота двенадцать километров Наружная температура минус шестьдесят градусов.
Это было в 9 час. 08 мин., а через шесть минут мы услышали:
— Находимся на высоте пятнадцати километров. Поднимаемся вверх со скоростью 3 1/2 -4 1/2 метра в секунду.
— Ого! — Мы переглядывались… — Вот это тянут. Этак они через несколько минут пройдут пиккаровскую черту…
Земля отвечала стратостату. С земли говорила «Рыба». Таковы были позывные сигналы радиостанции, которая вела переговоры с экипажем стратостата.
— Говорит Марс, — кричало небо.
— Говорит Рыба, — отвечала земля.
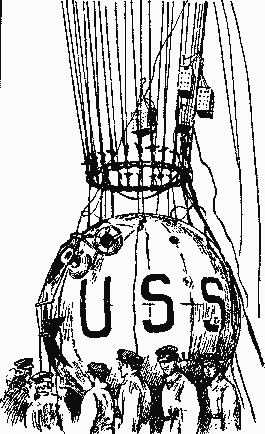
— Алло!.. Говорит Марс. Высота 17.200 метров. Наружная температура минус пятьдесят четыре. Внутри кабины температура нормальная, не чувствуем ни холода, ни жары. Самочувствие отличное.
И земля отвечает:
— У аппарата Алкснис. Приняли вас прекрасно. Слышимость отличная. Желаю успеха… — Сообщите, каково себя чувствуете, — присоединяется с земли руководитель Осоавиахима Эйдеман, — вы уже побили рекорд Пиккара. Рекорд Пиккара побит. Поздравляем!
— Говорит Марс. Принимаю на репродуктор. Орет на всю кабину. Вы просили говорить реже, говорю реже. Высота семнадцать с половиной километров. Наружная температура минус сорок шесть. Прем вверх со скоростью метра в секунду. Настроение хорошее, что надо.
— Желаю успеха, — отвечает земля. — Но рекорд побит, и особенно не увлекайтесь. Слышите? Сообщите, как работают кислородные приборы? Как идут наблюдения? Как используете маневренный балласт? Какой разогрей газа внутри оболочки? Видите ли землю?
Проходят электромагнитные вихри, шорох и писк врываются в этот необыкновенный разговор, и мы на время теряем стратостат из слуха. Но, высунувшись из окна, мы видим их. Мы видим прямо над нашим домом, высоко над Москвой, сверкающий пузырек. По небесной синьке медленно катится серебряный шарик. Миллионы взоров притягивает он. И в это время стратостат опять оказывается в сфере нашего слуха.
— Говорит Марс, — это было в 9 часов 58 минут, — говорит Марс, вашу радиограмму принял. Принимайте от меня. Начальнику ВВС РККА т. Алкснису. Давление 60 миллиметров. По альтиметру высота — 17900 метров. Руководствуемся вашими указаниями. Привет от первого экипажа стратостата «СССР». Прокофьев, Бирнбаум, Годунов.
— Кислород работает пока хорошо. Кислорода достаточно. Внутри гондолы плюс четырнадцать градусов. Стенка кабины, обращенная к солнцу, горяча. Противоположная — холодна, но не особенно сильно. Сейчас гондола поворачивается, разогрев будет со всех сторон равномерный.
Семнадцать тысяч девятьсот! Пиккаровская вершина осталась далеко внизу. И как вообще непохож сегодняшний полет на взлет ученого-одиночки, оторванного от мира и улетевшего в неизвестность. Он связан с землей, наш советский стратостат. Он ни минуты не теряет связи с теми, кто создал, строил, оправил его. Он не рвет корней. Он руководствуется указаниями «земных» товарищей.
В две минуты двенадцатого стратостат сообщает нам:
— Наружная температура минус шестьдесят семь градусов. Внутренняя двадцать два. Подогревает… Балласта маневренного израсходовано восемьдесят килограммов. Перегрев газа оболочки семьдесят пять градусов. Землю видим хорошо, но не знаем, где мы находимся. Сообщите, видно ли нас, где мы.
— Говорит Рыба. Стратостат наблюдаем все время. Вас хорошо видно. Земные пункты наблюдения определили ваше положение в 11 часов: двадцать четыре километра на юго-восток от места старта. Сообщите о вашем самочувствии Сколько времени предполагаете быть на достигнутой высоте? Ваши успехи передаем по радио всей стране и за рубеж. Руководство и экипаж стратостата, Осоавиахим приветствует вас и поздравляет с мировым достижением. Желаем дальнейших успехов и благополучного завершения полета. Алкснис, Эйдеман, Хрипин, Ильин, Вангенгейм.
В 12 часов 13 минут мир услышал следующее сообщение:
— После осадки балласта мы достигли высоты 18400 метров. Давление 51 миллиметр ртутного столба. Механизм сбрасывания балласта в порядке. Оболочка наполнена полностью. Через аппендикс хорошо видна внутренность оболочки около клапана. Клапан в порядке. Приветствуем рабочих «Каучук» номер тридцать девять, НИИ Резино-треста, Главную геофизическую обсерваторию и бюро постройки стратостата как организаторов и строителей стратостата «СССР». Спасибо, товарищи! Благодарим за приветствие участников будущего второго советского полета в стратосферу. Самочувствие экипажа превосходное. Слышим вас отлично.
Прошло полчаса, и в 12 часов 45 минут мы, вся страна, весь мир, были потрясены радостной вестью из стратосферы:
— Говорит Марс. Алкснису, Хрипину. Высота девятнадцать километров. Мы дошли до высоты девятнадцати километров. Давление пятьдесят миллиметров. Следите точнее за нашей высотой с земли.
Теперь сообщения следовали одно за другим:
— 12 час. 50 минут. Алло! Говорит Марс. Высота та же — девятнадцать километров. Уравновесили систему стратостата. Потолок. Мы достигли потолка. Сейчас пойдем на посадку. Передайте наш рапорт с высоты девятнадцати километров.
Передайте в ЦК партии товарищу Сталину!
Передайте в Реввоенсовет товарищу Ворошилову!
Сообщите в Совнарком СССР товарищу Молотову! — что экипаж первого советского стратостата успешно выполнил поставленную перед ним задачу и сообщает о благополучном завершении подъема стратостата «СССР» на высоту девятнадцать тысяч метров (по приборам). Экипаж готов к дальнейшей общей работе по овладению стратосферой.
Командир стратостата «СССР» — Прокофьев. Пилот — Бирнбаум. Инженер — Годунов. Нельзя было усидеть на месте! Мы поздравляли друг друга. Мы стучали в стенку соседям. Мы звонили по телефонам. «Девятнадцать»! — кричали мы в трубку. «Занято» — отвечала станция. Мы выбегали на улицу и, как зачарованные, не могли отвести глаз от новой звезды московского неба. Девятнадцать километров! Мы видели их на высоте девятнадцати километров. В конце концов мы, москвичи, были первыми людьми, видевшими человека на такой высоте… Утолив зрение, мы бежали насыщать слух. Слышимость продолжает быть отличной. Мы слышим тихие переговоры в гондоле. Мы слышим их троих, разговаривающих на чудовищной высоте. Мы слышим, как Прокофьев спрашивает у соратников о высоте, о наружной температуре. Потом мы снова слышим голос Бирнбаума, обращенный к земле:
— Медленно идем на спуск. Чувствуем себя превосходно. Полны энергии. Сейчас высота семнадцать километров.
Земля готовилась принять трех аэронавтов в свое лоно.
— Наблюдаем ваше снижение, — сообщала земля. — В шестнадцать часов передадим вам данные шаропилотных наблюдений для расчетов на посадку. Сядете, вероятно, между Бронницами и Коломной. Высылаем туда техпомощь. Держим самолеты в резерве, чтобы доставить немедленно вас в Москву. Желаем благополучной посадки.
В ГОНДОЛЕ
Так слушали мы полет с земли, так в словах и интонациях одного из аэронавтов старались мы почерпнуть сведения и штрихи, необходимые, чтобы представить себе величественную картину полета. А вот как выглядел этот исторический полет внутри самой гондолы, вот каким показался он трем героям его. Они рассказывали нам о незабываемых часах, проведенных в занебесьи с изумительной скромностью, будничными голосами. Они повествовали нам о своем мировом рекорде как о чем-то само собою подразумевавшемся. Необычайно мало, досадно скупо говорили они о себе и о своих ощущениях в стратосфере. Вот как приблизительно произошел полет с точки зрения самих аэронавтов.
Все трое долгие дни ждали хорошей походы, разрешения лететь, старта. Давно уже были продуманы до мельчайших деталей все этапы полета. И в ту минуту, когда наступила суровая предстартовая тишина, когда последняя команда Гараканидзе уже должна была оторвать стратостат от земли, все трое испытали радостное волнение, все трое почувствовали напряженность и значительность мгновения. Они были совершенно спокойны. Каждый из них много летал в прошлом. Но сейчас предстоял полет в неизведанные сферы, может быть, не подчиняющиеся законам нижних слоев воздуха, и это не устрашало, но заставляло сердце биться учащенней и чувствовать во всем теле мобилизованность каждого нерва, бодрость и решительное упорство. С нетерпением ждали аэронавты команды стартера. И вот они услышали:
— Отдать гондолу!.. В полете!
И тотчас пол кабины с силой прижался к подошвам. Легкий толчок, и поле аэродрома стало падать вниз. Долетели крики «ура», аплодисменты. Прокофьев и Годунов, высунувшись из люка, еще махали провожающим, а Бирнбаум уже засел к своей радиостанции.
По расчету скорость подъема должна была не превосходить пяти метров в секунду. Более быстрый подъем затруднил бы одновременное наблюдение за приборами, за температурой, за давлением. И вскоре после отлета пилоты убедились, что стратостат подымается именно с заданной скоростью.
Когда стратостат поднялся на высоту двух тысяч метров, аэронавты подняли круглые заслонки и завинтили, задраили люки. И в это время в кабине послышался голос земли; Бирнбаум быстро включил репродуктор, и в гондоле раздался ясный и отчетливый человеческий голос:
Все трое долгие дни ждали хорошей походы, разрешения лететь, старта. Давно уже были продуманы до мельчайших деталей все этапы полета. И в ту минуту, когда наступила суровая предстартовая тишина, когда последняя команда Гараканидзе уже должна была оторвать стратостат от земли, все трое испытали радостное волнение, все трое почувствовали напряженность и значительность мгновения. Они были совершенно спокойны. Каждый из них много летал в прошлом. Но сейчас предстоял полет в неизведанные сферы, может быть, не подчиняющиеся законам нижних слоев воздуха, и это не устрашало, но заставляло сердце биться учащенней и чувствовать во всем теле мобилизованность каждого нерва, бодрость и решительное упорство. С нетерпением ждали аэронавты команды стартера. И вот они услышали:
— Отдать гондолу!.. В полете!
И тотчас пол кабины с силой прижался к подошвам. Легкий толчок, и поле аэродрома стало падать вниз. Долетели крики «ура», аплодисменты. Прокофьев и Годунов, высунувшись из люка, еще махали провожающим, а Бирнбаум уже засел к своей радиостанции.
По расчету скорость подъема должна была не превосходить пяти метров в секунду. Более быстрый подъем затруднил бы одновременное наблюдение за приборами, за температурой, за давлением. И вскоре после отлета пилоты убедились, что стратостат подымается именно с заданной скоростью.
Когда стратостат поднялся на высоту двух тысяч метров, аэронавты подняли круглые заслонки и завинтили, задраили люки. И в это время в кабине послышался голос земли; Бирнбаум быстро включил репродуктор, и в гондоле раздался ясный и отчетливый человеческий голос:
