Страница:
Было бы неверно утверждать, что кембриджская суета заставила его забыть о друзьях, своих старых друзьях, совсем не физиках, о тех беседах, которые они вели когда-то студентами. Максвелл решил возобновить те беседы, воссоздать через двадцать лет то, что было когда-то клубом «Апостолы». «Апостолов» оказалось уже не двенадцать, а четыре, редко – пять.
Новый дискуссионный клуб, более умеренного и серьезного направления, называли «Эранус».
Входили в «Эранус» Максвелл, доктор Лайтфут, профессора Хорт и Весткотт. Здесь уже, конечно, не было юношеской горячности, но было новое, не менее ценное – здесь царила спокойная мудрость.
Все они со студенческих времен несколько ушли в себя, особенно Максвелл. Ему уже сложно было приобретать новых друзей, у него в присутствии новых людей с трудом поворачивался язык. Новые знакомые никогда не могли понять, шутит он или говорит серьезно. Куда легче и приятней собраться в старом студенческом кругу и сообщить им, друзьям, что продумано и понято за двадцать лет.
С ними было легко, они понимали тайный смысл его слов, его странный, порой несмешной юмор. Все они не имели отношения к физике, Лайтфута уже прочили в епископы, все они были влиятельными людьми во цвете лет, и мысли их установились.
5 февраля 1878 года он прочел друзьям свое новое эссе «Психофизика». Максвелл поделился в тот день с друзьями своими сокровеннейшими мыслями, своими ответами на три извечных вопроса:
– Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?
Жизненный опыт, научная работа приводили Максвелла к важным философским выводам.
– Кто я? – спрашивал Максвелл, всматриваясь в лица постаревших друзей. – Наставники моей юности ожидали бы ответа: «Я – это Субъект, по отношению к которому все другие существа материального, человеческого и божественного происхождения – это только Объекты...» Разумеется, я и тогда часто ловил себя на мысли о том, что думал о своем теле или мозге, предполагая, что думаю о себе самом...
Я знаю, что я существую сейчас и что я действую, и то, что я делаю, может быть правильно и неправильно; и правильные или неправильные – это мои действия, от которых я не могу отрекаться...
В поиске информации о самом себе я сделал для себя один вывод: когда... мы полагаем, что думаем о Субъекте, мы на самом деле имеем дело с Объектом под фальшивым именем...
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ГЕНРИ КАВЕНДИШ
МАКСВЕЛЛ НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ТЕРМОДИНАМИКУ
УЧЕНИКИ
Новый дискуссионный клуб, более умеренного и серьезного направления, называли «Эранус».
Входили в «Эранус» Максвелл, доктор Лайтфут, профессора Хорт и Весткотт. Здесь уже, конечно, не было юношеской горячности, но было новое, не менее ценное – здесь царила спокойная мудрость.
Все они со студенческих времен несколько ушли в себя, особенно Максвелл. Ему уже сложно было приобретать новых друзей, у него в присутствии новых людей с трудом поворачивался язык. Новые знакомые никогда не могли понять, шутит он или говорит серьезно. Куда легче и приятней собраться в старом студенческом кругу и сообщить им, друзьям, что продумано и понято за двадцать лет.
С ними было легко, они понимали тайный смысл его слов, его странный, порой несмешной юмор. Все они не имели отношения к физике, Лайтфута уже прочили в епископы, все они были влиятельными людьми во цвете лет, и мысли их установились.
5 февраля 1878 года он прочел друзьям свое новое эссе «Психофизика». Максвелл поделился в тот день с друзьями своими сокровеннейшими мыслями, своими ответами на три извечных вопроса:
– Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?
Жизненный опыт, научная работа приводили Максвелла к важным философским выводам.
– Кто я? – спрашивал Максвелл, всматриваясь в лица постаревших друзей. – Наставники моей юности ожидали бы ответа: «Я – это Субъект, по отношению к которому все другие существа материального, человеческого и божественного происхождения – это только Объекты...» Разумеется, я и тогда часто ловил себя на мысли о том, что думал о своем теле или мозге, предполагая, что думаю о себе самом...
Я знаю, что я существую сейчас и что я действую, и то, что я делаю, может быть правильно и неправильно; и правильные или неправильные – это мои действия, от которых я не могу отрекаться...
В поиске информации о самом себе я сделал для себя один вывод: когда... мы полагаем, что думаем о Субъекте, мы на самом деле имеем дело с Объектом под фальшивым именем...
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ГЕНРИ КАВЕНДИШ
Не мог, возможно, объяснить себе Джеймс Клерк Максвелл, как не могут и до сих пор объяснить это обстоятельство дотошные историки науки, – почему он в расцвете здоровья и сил тратит пять драгоценнейших лет жизни на редактирование и подготовку к изданию двадцати пакетов манускриптов достопочтенного Генри Кавендиша – тех двадцати пакетов, которые были торжественно переданы ему в день открытия Кавендишской лаборатории герцогом Девонширским.
Конечно, никто не смог бы оценить рукописи Кавендиша и перевести их на современный язык лучше, чем Максвелл; но, быть может, науке бы больше повезло, если бы кто-нибудь другой занялся этими манускриптами.
Может быть, Максвелл думал, что впереди еще много времени?
Может быть, он выполнял свой долг перед Кавендишской лабораторией?
Может быть, его увлекла таинственная связь дат его рождения и начала деятельности в качестве кавендишского профессора и дат рождения Кавендиша и начала его физических исследований? 1731-й и 1831-й, 1771-й и 1871-й?
Может быть, его увлек образ человека, как он, проданного только науке, но доведшего эту свою страсть до идеала или, может быть, абсурда?
Все эти предположения имеют право на жизнь – одни в большей, другие в меньшей степени, но никогда мы не узнаем правды, ибо нет на этот счет свидетельств, а единственный человек, который мог бы объяснить все, жив лишь в нашей памяти. И поэтому никакое предположение не может быть сразу отвергнуто, и никакое – принято. И поэтому можно выдвинуть еще одно: Максвелл стал работать над рукописями Кавендиша, над их редактированием и изданием потому, что эта работа его увлекла. Она ему нравилась.
Его увлекли неочевидные порывы этой легендарной личности, как через много лет образ и порывы самого Максвелла станут притягательны, необычайно интересны и поучительны для новых исследований.
Генри Кавендиш родился в Ницце, где его мать безуспешно старалась согнать с себя признаки плохого здоровья. Она умерла, когда Кавендишу было всего два года.
Видел ли Джеймс Клерк Максвелл сходство судеб? Кавендиш не стал герцогом, потому что его отец был третьим сыном в семье герцога Девонширского, а Максвелл не стал баронетом, потому что его отец был младше дядюшки Джорджа. Ранняя смерть матерей, совпадение с разницей на сто лет года рождения, первые научные занятия под руководством любителей-отцов. Оба очень поздно пошли в университет, оба в Кембридж, оба в Питерхаус, и оба покинули его – Максвелл перешел в Тринити, а Кавендиш ушел совсем, даже не пытаясь сдавать экзаменов, – он сам был для себя высшим экзаменатором. Он обожал математику, но не желал подвергнуться гонениям и унижениям математического трайпоса. Он был замкнут и загадочен. Первая научная работа: «Эксперименты с мышьяком». Наука есть наука, и мышьяк как элемент ничем не хуже какого-нибудь другого, скажем натрия, но у этого человека, казалось, даже первая работа имела скрытый зловещий смысл.
Начиная с 1764 года он провел серию исследований по теплоте, но не счел нужным публиковать их в течение двадцати лет; а это было слишком большим перерывом. Кавендиш был одним из первых, кто отверг флогистон, а честь этого открытия досталась Блеку и русскому академику Рихману, которые доказали, что термометры вовсе не измеряют количества содержащегося в теле теплорода, которые провели измерения теплоты плавления и парообразования. Кавендиш не только подошел к этому, но даже составил таблицу теплоемкостей многих тел. Он, видимо, просто не читал статьи Блека по этому же вопросу.
Первая посланная в Королевское общество статья: «Искусственные атмосферы». Затем в «Философских трудах» появляется труд: «Анализ работы одного из лондонских насосов (на Ратбонплейс)».
Это был счастливый век. Физики могли заниматься столь разными вещами и в каждой находить новое.
Странная нелюдимость, паническая боязнь женщин, угрюмый характер, молчаливость. Визгливый голос, с каким-то великим трудом и препятствиями исторгающийся из горла. Друзья злоупотребляли его доверием в пользовании его библиотекой. Незнакомцы не могли и думать о приглашении в дом. Все, что он делал, он, казалось, делал с великим трудом: писал, ходил. Странной казалась его походка, быстрая, но вместе с тем какая-то болезненная и искусственная, нелегкая. Ходил он, чтобы ни с кем не здороваться, посередине мостовой, между экипажами. Ко всему, что не касалось науки, Кавендиш был холодно-безразличен, никогда не слышали, чтобы он о чем-то отозвался более или менее положительно.
Он умер после единственной в его жизни болезни на восьмидесятом году. Почувствовав, что умирает, он приказал слугам до вечера не заходить в его комнату. К вечеру слуги нашли его уже при смерти и вызвали врача. Тот прибыл. Умирающий Кавендиш заявил, что продолжение его жизни означало бы продолжение страданий. Врач сэр Эверард Хьюм остался в бездействии. Кавендиш умер, оставив миллионное наследство своему кузену, деду Вильяма Кавендиша, седьмого герцога Девонширского, канцлера Кембриджского университета во времена Максвелла.
У Максвелла было двадцать два источника, по которым он мог работать над наследием Кавендиша, – две его статьи по электричеству, изданные в период 1771-1781 годов, и двадцать пакетов рукописей[45]. Едва начав разбирать манускрипты, Максвелл поразился, как много открытий было сделано Кавендишем, открытий самого высшего ранга, о которых он не счел необходимым информировать ни общество, ни ученый мир.
И все эти тончайшие быстротечные измерения были проделаны Кавендишем без приборов – они тоже еще не были к тому времени изобретены! У Кавендиша был только «физиологический гальванометр», «шокметр» – он мог оценивать электрический потенциал лишь по силе получаемого им электрического удара. Впрочем, богатейший вельможа Кавендиш вполне мог легко избежать неприятных ощущений, связанных с электрическим ударом. Так он и сделал. Роль «живого гальванометра» выполнял у Кавендиша его слуга Ричард.
Максвелл решил исследовать «живые гальванометры», и долгое время каждому новому посетителю Кавендишской лаборатории предлагали взяться руками за два оголенных конца, к которым подводилось напряжение, с тем чтобы определить, «хорошие» или «плохие» они гальванометры. Исключение было сделано для чемпионов университета по гребле. Их загрубевшие от тренировок руки практически не пропускали тока.
И второе, что интересно в письме, – это признание того, что исследования Кавендиша необходимо повторить, «дойти до точки, где он остановился». Недаром и измерения емкости, и уточнение закона Ома, и определение Хевисайдом плотности Земли, и проверка закона Кулона, раньше подмеченного Эпинусом и Кавендишем, занимали в работах лаборатории достойное место. Максвелл ценил классиков – и в литературе и в науке – и справедливо считал, что никогда не следует пренебрегать их мыслями.
Поражает тщательность, с которой работал Максвелл над рукописями Кавендиша.
Максвелл изучает все детали кавендишевских опытов, изучает новые для себя названия, стремится точно воспроизвести опыты Кавендиша – для практики стажеров, для проверки, а может быть, и для поиска новых явлений.
Франц Ульрих Теодор Эпинус, «немец», после смерти Рихмана от удара молнии занявший пост заведующего физическим кабинетом Российской академии наук, много натерпелся от заведующего химическим кабинетом Михаила Васильевича Ломоносова. И вполне справедливо: Эпинус был воспитателем Павла, много времени посвящал придворным обязанностям и запустил руководство кабинетом.
Справедливо укорял Ломоносов Эпинуса, не смог тот содержать в должном порядке физический кабинет. Был Эпинус по складу ума своего теоретиком и, быть может, первым применил к исследованию электрических и магнитных явлений высшую математику. В 1759 году он выступил с трактатом «Опыт теории электричества и магнетизма», в котором глубоко и последовательно развивал теорию Франклина, теорию «одного» электричества, теорию электричества одного знака, распространив ее на магнитные явления. Эпинус прозорливо видел внутреннюю связь электрических и магнитных явлений.
Для этого нужна была смелость. Но только смелости было бы недостаточно. Нужны были еще открытия Гальвани и Вольты, нужно было, чтобы под скальпелем затрепыхалась лапка лягушки, чтобы Вольта создал свой вольтов столб, чтобы Эрстед увидел колебания стрелки компаса. Смелость потребовалась тогда, когда она была подкреплена ранними открытиями, и проявить ее пришлось уже представителям иного века – Амперу, Фарадею и Максвеллу.
Математика, впервые примененная Эпинусом к изучению электрических и магнитных явлений, привела его ко многим важнейшим выводам. Он заметил, что частицы как электрической, так и магнитной «жидкостей» взаимодействуют между собой «даже на значительном расстоянии», правда, ограниченном «атмосферой магнита». Эпинус постулирует, что сила взаимодействия пропорциональна электрическим зарядам и, исходя из всеобщей гармонии природы, уменьшается, как и ньютоновское взаимодействие гравитационных масс, пропорционально квадрату расстояния, – то есть предвосхищает закон Кулона!
Однако Эпинус неправильно полагал, что электричество сосредоточено во всем объеме тела, а не на его поверхности, и это помешало ему высказаться более категорично и заявить свои права на открытие. Эпинус строит первый воздушный конденсатор, выясняет роль в конденсаторе стекла не как накопителя электричества, а как сохранителя его, раньше Вольты (Вольта признавал это) изобретает простейший прибор для накопления электричества – электрофор, открывает миру пироэлектричество, образующееся не при трении, а при нагревании у турмалина.
Имя Эпинуса было в большой чести в Кембридже и стояло никак не ниже имени, например, Франклина. Мастер Тринити Вильям Вевелл в своей «Истории индуктивных наук» высоко вознес это имя в Кембридже. А во времена Кавендиша Эпинус вообще был одним из величайших авторитетов в теории электричества. Вевелл возносил Эпинуса даже в противовес Франклину, утверждая, что «та великая слава, какой он (Франклин) пользовался при жизни, зависела от ясности и искусства, с какими он излагал свои открытия, от того, что он занимался электричеством в величественной форме грома и молнии, и отчасти, может быть, оттого, что он был американец и политический человек...»
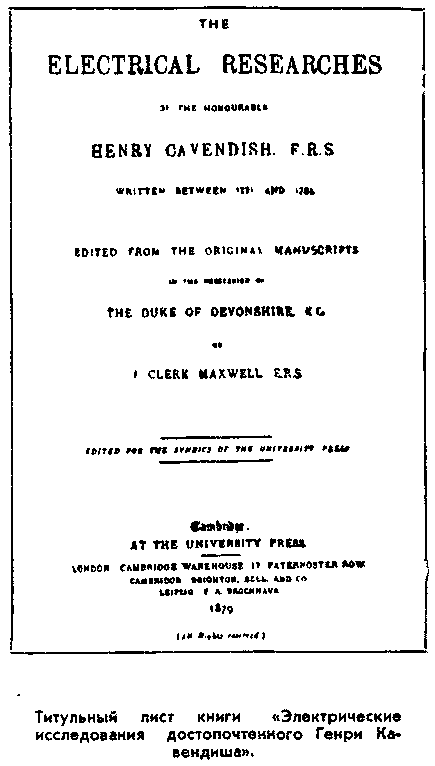
Кавендиш поначалу не соглашался с ненастойчиво выраженным мнением Эпинуса о том, что сила взаимодействия электрически заряженных тел обратно пропорциональна второй степени расстояния. Он полагал сначала, что показатель степени при расстоянии не вполне равен двум; он предполагал, что этот показатель находится где-то в области между 1 и 3. И лишь впоследствии, в 1772 году, изучая работу сферического конденсатора, он сам доказал, что, будь показатель степени при расстоянии не точно двойкой, электричество при установлении проводящего контакта между обкладками такого конденсатора неизбежно перетекало бы с внешней обкладки на незаряженную внутреннюю. А этого, как показал Кавендиш, не происходило.
Это было доказательством того, что позже будет названо законом Кулона. Почему Кулона? Потому что Кавендиш в свое время не счел необходимым публиковать свои результаты.
Говорят, слишком долго пролежавшее вино превращается в уксус. Печальный, но поучительный факт! Ни одно из открытий Кавендиша не осталось неоткрытым в течение ста лет. История науки сама поставила эксперимент, заставив гениального ученого по неясным соображениям прятать свои открытия от мира. И ни одно из них в течение ста лет не ускользнуло от внимательного любопытства других, шаг науки оказался необычайно размеренным и закономерным, несмотря на все случайные повороты пути. Многому учит нас этот эксперимент. По-видимому, бесполезно искать сейчас, через несколько десятилетий, пропавшие рукописи гениального последователя Максвелла – Хевисайда: можно определенно утверждать, что все гениальное, что в них было, уже стало нашим достоянием благодаря трудам других авторов. Печально, но не суждено в рукописях давно умерших ученых найти то, что оплодотворило бы современную науку. И Максвелл тоже убедился в этом. Своим идеям нельзя было давать отлеживаться слишком долго; скорость научного движения возрастала, и того, кто не двигался вместе с наукой, неизбежно ждала бы участь отстающего. Нельзя было терять темп. Необходимо было наверстывать упущенное время.
Конечно, никто не смог бы оценить рукописи Кавендиша и перевести их на современный язык лучше, чем Максвелл; но, быть может, науке бы больше повезло, если бы кто-нибудь другой занялся этими манускриптами.
Может быть, Максвелл думал, что впереди еще много времени?
Может быть, он выполнял свой долг перед Кавендишской лабораторией?
Может быть, его увлекла таинственная связь дат его рождения и начала деятельности в качестве кавендишского профессора и дат рождения Кавендиша и начала его физических исследований? 1731-й и 1831-й, 1771-й и 1871-й?
Может быть, его увлек образ человека, как он, проданного только науке, но доведшего эту свою страсть до идеала или, может быть, абсурда?
Все эти предположения имеют право на жизнь – одни в большей, другие в меньшей степени, но никогда мы не узнаем правды, ибо нет на этот счет свидетельств, а единственный человек, который мог бы объяснить все, жив лишь в нашей памяти. И поэтому никакое предположение не может быть сразу отвергнуто, и никакое – принято. И поэтому можно выдвинуть еще одно: Максвелл стал работать над рукописями Кавендиша, над их редактированием и изданием потому, что эта работа его увлекла. Она ему нравилась.
Его увлекли неочевидные порывы этой легендарной личности, как через много лет образ и порывы самого Максвелла станут притягательны, необычайно интересны и поучительны для новых исследований.
Генри Кавендиш родился в Ницце, где его мать безуспешно старалась согнать с себя признаки плохого здоровья. Она умерла, когда Кавендишу было всего два года.
Видел ли Джеймс Клерк Максвелл сходство судеб? Кавендиш не стал герцогом, потому что его отец был третьим сыном в семье герцога Девонширского, а Максвелл не стал баронетом, потому что его отец был младше дядюшки Джорджа. Ранняя смерть матерей, совпадение с разницей на сто лет года рождения, первые научные занятия под руководством любителей-отцов. Оба очень поздно пошли в университет, оба в Кембридж, оба в Питерхаус, и оба покинули его – Максвелл перешел в Тринити, а Кавендиш ушел совсем, даже не пытаясь сдавать экзаменов, – он сам был для себя высшим экзаменатором. Он обожал математику, но не желал подвергнуться гонениям и унижениям математического трайпоса. Он был замкнут и загадочен. Первая научная работа: «Эксперименты с мышьяком». Наука есть наука, и мышьяк как элемент ничем не хуже какого-нибудь другого, скажем натрия, но у этого человека, казалось, даже первая работа имела скрытый зловещий смысл.
Начиная с 1764 года он провел серию исследований по теплоте, но не счел нужным публиковать их в течение двадцати лет; а это было слишком большим перерывом. Кавендиш был одним из первых, кто отверг флогистон, а честь этого открытия досталась Блеку и русскому академику Рихману, которые доказали, что термометры вовсе не измеряют количества содержащегося в теле теплорода, которые провели измерения теплоты плавления и парообразования. Кавендиш не только подошел к этому, но даже составил таблицу теплоемкостей многих тел. Он, видимо, просто не читал статьи Блека по этому же вопросу.
Первая посланная в Королевское общество статья: «Искусственные атмосферы». Затем в «Философских трудах» появляется труд: «Анализ работы одного из лондонских насосов (на Ратбонплейс)».
Это был счастливый век. Физики могли заниматься столь разными вещами и в каждой находить новое.
Странная нелюдимость, паническая боязнь женщин, угрюмый характер, молчаливость. Визгливый голос, с каким-то великим трудом и препятствиями исторгающийся из горла. Друзья злоупотребляли его доверием в пользовании его библиотекой. Незнакомцы не могли и думать о приглашении в дом. Все, что он делал, он, казалось, делал с великим трудом: писал, ходил. Странной казалась его походка, быстрая, но вместе с тем какая-то болезненная и искусственная, нелегкая. Ходил он, чтобы ни с кем не здороваться, посередине мостовой, между экипажами. Ко всему, что не касалось науки, Кавендиш был холодно-безразличен, никогда не слышали, чтобы он о чем-то отозвался более или менее положительно.
Он умер после единственной в его жизни болезни на восьмидесятом году. Почувствовав, что умирает, он приказал слугам до вечера не заходить в его комнату. К вечеру слуги нашли его уже при смерти и вызвали врача. Тот прибыл. Умирающий Кавендиш заявил, что продолжение его жизни означало бы продолжение страданий. Врач сэр Эверард Хьюм остался в бездействии. Кавендиш умер, оставив миллионное наследство своему кузену, деду Вильяма Кавендиша, седьмого герцога Девонширского, канцлера Кембриджского университета во времена Максвелла.
У Максвелла было двадцать два источника, по которым он мог работать над наследием Кавендиша, – две его статьи по электричеству, изданные в период 1771-1781 годов, и двадцать пакетов рукописей[45]. Едва начав разбирать манускрипты, Максвелл поразился, как много открытий было сделано Кавендишем, открытий самого высшего ранга, о которых он не счел необходимым информировать ни общество, ни ученый мир.
«Джеймс Клеркс Максвелл – В.Гарнетту[46], эскв.Все свои открытия Кавендиш сделал до того, как Вольта изобрел первый источник постоянного электричества – вольтов столб, первую электрическую батарею. Все свои исследования Кавендиш должен был проделывать с электричеством слабым, быстротечным, неуловимым, электричеством, накапливаемым в облаках и прорывающимся молнией – гигантской электрической искрой, электричеством, образующимся при трении, электричеством электростатических машин – статическим электричеством.
Гленлейр, 8 июля 1874
...В своих рукописях он [Кавендиш] обнаруживает знакомство с законами параллельного и последовательного соединения проводников, однако для того, чтобы пролить свет на смысл его слов, нужно обратиться к его опубликованной статье (о торпедо). Он провел весьма обширные исследования в области проводимости солевых растворов в трубках, которые можно уподобить проволокам из разных металлов. Создается впечатление, что он достоин еще больших почестей, так как он превзошел Ома задолго до того, как были открыты постоянные токи. Его измерения емкости заставят нас попотеть в Кавендишской лаб., прежде чем мы достигнем точки, где он остановился. Его единственным несчастьем было то, что у него не было электрометра Томсона. Он нашел диэлектрические постоянные для стекла, смолы, воска и т.п.».
И все эти тончайшие быстротечные измерения были проделаны Кавендишем без приборов – они тоже еще не были к тому времени изобретены! У Кавендиша был только «физиологический гальванометр», «шокметр» – он мог оценивать электрический потенциал лишь по силе получаемого им электрического удара. Впрочем, богатейший вельможа Кавендиш вполне мог легко избежать неприятных ощущений, связанных с электрическим ударом. Так он и сделал. Роль «живого гальванометра» выполнял у Кавендиша его слуга Ричард.
Максвелл решил исследовать «живые гальванометры», и долгое время каждому новому посетителю Кавендишской лаборатории предлагали взяться руками за два оголенных конца, к которым подводилось напряжение, с тем чтобы определить, «хорошие» или «плохие» они гальванометры. Исключение было сделано для чемпионов университета по гребле. Их загрубевшие от тренировок руки практически не пропускали тока.
И второе, что интересно в письме, – это признание того, что исследования Кавендиша необходимо повторить, «дойти до точки, где он остановился». Недаром и измерения емкости, и уточнение закона Ома, и определение Хевисайдом плотности Земли, и проверка закона Кулона, раньше подмеченного Эпинусом и Кавендишем, занимали в работах лаборатории достойное место. Максвелл ценил классиков – и в литературе и в науке – и справедливо считал, что никогда не следует пренебрегать их мыслями.
Поражает тщательность, с которой работал Максвелл над рукописями Кавендиша.
«Джеймс Клерк Максвелл -И т.д., и т.д.
библиотекарю Королевского общества
Еленлейр, Далбетти, 23 июня 1879
Дорогой сэр, Ваша информация о членах Королевского общества была настолько полезна мне, что я хотел бы еще спросить о д-ре Г.Найте, члене Королевского общества, библиотекаре Британского музея.
1. Как его точно звали: Гован, Говен, Говин или Годвин – встречаются все эти написания?
2. Кто является автором статьи в «Фил. Тр.» за 1776 год (примерно в конце тома), описывающей большие наборы магнитов?
3. Являются ли эти наборы (см. рисунок), собранные в виде больших пушек, все еще собственностью Королевского общества?
4. Имеется ли портрет Говина Найта работы Бенджамена Вильсона в коллекции картин Королевского общества?..»
Максвелл изучает все детали кавендишевских опытов, изучает новые для себя названия, стремится точно воспроизвести опыты Кавендиша – для практики стажеров, для проверки, а может быть, и для поиска новых явлений.
«Джеймс Клерк Максвелл – Вильяму ГарнеттуИ еще одна сенсация поджидала Максвелла при изучении пролежавших сто лет без движения кавендишевских рукописей. Содержалась она в работах Кавендиша по развитию идей русского академика Эпинуса.
Гленлейр, 23 августа 1877
Последнее время я копировал Кавендиша по сопротивлению электролитов. Если найдется кто-нибудь, кто попробует хотя бы грубо померить сопротивление нескольких электролитов в U-образных трубках, было бы интересно сопоставить эти измерения с результатами Кавендиша.
Если профессор Лайвинг в Кембридже, не могли бы Вы попросить его подобрать для меня книгу по химии образца 1777 года, с тем чтобы можно было найти эквиваленты и названия солей, использованных Кавендишем?..
Кавендиш был первым, кто открыл закон Ома, поскольку он последовательной серией экспериментов нашел, что сопротивление в следующих степенях зависит от скорости: 1,08, 1,03, 0,980, и заключил, что это первая степень. И все это – с помощью физиологического гальванометра...»
Франц Ульрих Теодор Эпинус, «немец», после смерти Рихмана от удара молнии занявший пост заведующего физическим кабинетом Российской академии наук, много натерпелся от заведующего химическим кабинетом Михаила Васильевича Ломоносова. И вполне справедливо: Эпинус был воспитателем Павла, много времени посвящал придворным обязанностям и запустил руководство кабинетом.
Справедливо укорял Ломоносов Эпинуса, не смог тот содержать в должном порядке физический кабинет. Был Эпинус по складу ума своего теоретиком и, быть может, первым применил к исследованию электрических и магнитных явлений высшую математику. В 1759 году он выступил с трактатом «Опыт теории электричества и магнетизма», в котором глубоко и последовательно развивал теорию Франклина, теорию «одного» электричества, теорию электричества одного знака, распространив ее на магнитные явления. Эпинус прозорливо видел внутреннюю связь электрических и магнитных явлений.
Для этого нужна была смелость. Но только смелости было бы недостаточно. Нужны были еще открытия Гальвани и Вольты, нужно было, чтобы под скальпелем затрепыхалась лапка лягушки, чтобы Вольта создал свой вольтов столб, чтобы Эрстед увидел колебания стрелки компаса. Смелость потребовалась тогда, когда она была подкреплена ранними открытиями, и проявить ее пришлось уже представителям иного века – Амперу, Фарадею и Максвеллу.
Математика, впервые примененная Эпинусом к изучению электрических и магнитных явлений, привела его ко многим важнейшим выводам. Он заметил, что частицы как электрической, так и магнитной «жидкостей» взаимодействуют между собой «даже на значительном расстоянии», правда, ограниченном «атмосферой магнита». Эпинус постулирует, что сила взаимодействия пропорциональна электрическим зарядам и, исходя из всеобщей гармонии природы, уменьшается, как и ньютоновское взаимодействие гравитационных масс, пропорционально квадрату расстояния, – то есть предвосхищает закон Кулона!
Однако Эпинус неправильно полагал, что электричество сосредоточено во всем объеме тела, а не на его поверхности, и это помешало ему высказаться более категорично и заявить свои права на открытие. Эпинус строит первый воздушный конденсатор, выясняет роль в конденсаторе стекла не как накопителя электричества, а как сохранителя его, раньше Вольты (Вольта признавал это) изобретает простейший прибор для накопления электричества – электрофор, открывает миру пироэлектричество, образующееся не при трении, а при нагревании у турмалина.
Имя Эпинуса было в большой чести в Кембридже и стояло никак не ниже имени, например, Франклина. Мастер Тринити Вильям Вевелл в своей «Истории индуктивных наук» высоко вознес это имя в Кембридже. А во времена Кавендиша Эпинус вообще был одним из величайших авторитетов в теории электричества. Вевелл возносил Эпинуса даже в противовес Франклину, утверждая, что «та великая слава, какой он (Франклин) пользовался при жизни, зависела от ясности и искусства, с какими он излагал свои открытия, от того, что он занимался электричеством в величественной форме грома и молнии, и отчасти, может быть, оттого, что он был американец и политический человек...»
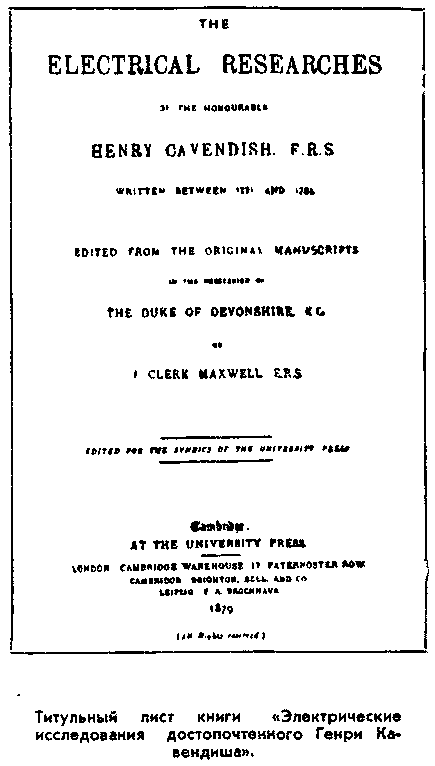
Кавендиш поначалу не соглашался с ненастойчиво выраженным мнением Эпинуса о том, что сила взаимодействия электрически заряженных тел обратно пропорциональна второй степени расстояния. Он полагал сначала, что показатель степени при расстоянии не вполне равен двум; он предполагал, что этот показатель находится где-то в области между 1 и 3. И лишь впоследствии, в 1772 году, изучая работу сферического конденсатора, он сам доказал, что, будь показатель степени при расстоянии не точно двойкой, электричество при установлении проводящего контакта между обкладками такого конденсатора неизбежно перетекало бы с внешней обкладки на незаряженную внутреннюю. А этого, как показал Кавендиш, не происходило.
Это было доказательством того, что позже будет названо законом Кулона. Почему Кулона? Потому что Кавендиш в свое время не счел необходимым публиковать свои результаты.
Говорят, слишком долго пролежавшее вино превращается в уксус. Печальный, но поучительный факт! Ни одно из открытий Кавендиша не осталось неоткрытым в течение ста лет. История науки сама поставила эксперимент, заставив гениального ученого по неясным соображениям прятать свои открытия от мира. И ни одно из них в течение ста лет не ускользнуло от внимательного любопытства других, шаг науки оказался необычайно размеренным и закономерным, несмотря на все случайные повороты пути. Многому учит нас этот эксперимент. По-видимому, бесполезно искать сейчас, через несколько десятилетий, пропавшие рукописи гениального последователя Максвелла – Хевисайда: можно определенно утверждать, что все гениальное, что в них было, уже стало нашим достоянием благодаря трудам других авторов. Печально, но не суждено в рукописях давно умерших ученых найти то, что оплодотворило бы современную науку. И Максвелл тоже убедился в этом. Своим идеям нельзя было давать отлеживаться слишком долго; скорость научного движения возрастала, и того, кто не двигался вместе с наукой, неизбежно ждала бы участь отстающего. Нельзя было терять темп. Необходимо было наверстывать упущенное время.
МАКСВЕЛЛ НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ТЕРМОДИНАМИКУ
Неизвестно, кто предложил в 1876 году организовать в Лондоне выставку исторических научных приборов, но идея эта всем понравилась. Уже стало очевидно тогда влияние наук на прогресс или отставание стран, и на этот раз научные приборы, как некогда плоды земли, должны были лишний раз продемонстрировать миру, как велика маленькая Англия и как приумножает она и хранит научную славу.
Квадрант Тихо Браге, телескоп и «оккьялино» Галилея, арифмометр Паскаля, костяшки-счеты Непера, электрический телеграф Земмеринга, старинные швейцарские часы из дуврского замка, магдебургские полушария Отто фон Герике. И как завершающий, торжественный аккорд – английская часть выставки: астролябия сэра Френсиса Дрейка, телескоп Ньютона, безопасная шахтерская лампа Дэви, магнитоэлектрические аппараты Фарадея, аппараты Форбса и Брюстера, барометр Дальтона. Да, неплохо выглядела Англия, особенно Англия XIX века, на этой выставке. Тем более что экскурсоводами этой выставки были виднейшие английские ученые, и в том числе – в отделе молекулярной физики – Максвелл.
В мае 1876 года Максвелл писал своему дяде и другу, брату покойной матери, Роберту Кею:
«Меня послали в Лондон для того, чтобы объяснить королеве, почему Отто фон Герике посвятил себя открытию „ничего“, и показать ей два полушария, в которых он содержал это „ничего“, и картины, изображающие 16 лошадей, которые не могли оторвать полушария друг от друга, и как через 200 лет В.Крукс подошел гораздо ближе к „ничего“ и запечатал его в стеклянный шар для публичного обозрения. Ее Величество, однако, отпустила нас довольно легко и не доставила нам с „ничего“ много хлопот – видимо, у нее была еще бездна тяжелой работы на конец дня...»
Можно вообразить, как на фоне уникальных приборов – научных реликвий, свидетелей прозрений гениев – стоит Джеймс Клерк Максвелл перед «маленькой дамой в сером» – королевой Викторией, живым символом процветающей викторианской Англии, перед ее сестрой, германской императрицей, перед собравшимися тут же вельможами и затерявшимися между ними виднейшими учеными Европы, как размышляет о том, что сказать ему сейчас, с этой внезапно представившейся трибуны, какие свои идеи обнародовать, подчеркнуть, во что заставить поверить эту пеструю толпу?
Сейчас они могут выслушать все, в эти отмеренные несколько минут, они будут делать понимающие глаза и кивать головами. Сейчас можно говорить все.
И Максвелл начинает говорить... о Гиббсе. О никому не известном Джозайя Уилларде Гиббсе из Йельского колледжа в Соединенных Штатах Америки, о котором и самому-то Максвеллу несколько лет назад было ничего не известно и могло бы остаться неизвестным и далее, если бы не одна его, Гиббса, своеобразная особенность.
Дело в том, что после выхода каждого очередного своего труда Гиббс, стройный тридцатисемилетний холостяк с короткой бородкой на скуластом лице, принимался за трудную работу. Справедливо полагая, что ни один серьезный европейский ученый не возьмет в руки, скажем, «Труды Коннектикутской Академии наук», где он печатался, Гиббс, положив перед собой список в 507 имен, начинал собственноручно отсылать всем известным ему ученым из двадцати стран оттиски своих трудов.
И не без умысла. Чтобы кто-нибудь начал читать его статьи и, более того, дочитал бы их до конца, потребовалось бы известное усилие, которое Гиббс и стимулировал столь искусно своим эпистолярным вниманием!
Гиббс в своих статьях не делал никаких предварительных замечаний и текущих комментариев. Все манипуляции над формулами и понятиями проделывались им в собственном мозгу, и на долю читателя оставалось взирать на неизвестно откуда и каким путем полученные формулы, несущие глубокий физический смысл.
Настолько глубокий, что труды Гиббса поразили самого Максвелла. Более того, он безо всякого кокетства зимой 1873 года в письме к Тэту вдруг объявил, что наконец стал понимать термодинамику. В новых изданиях своей книги «Теория теплоты» он делает исправления и признает, что ранее излагал второе начало термодинамики неверно. Целую зиму мастерит Максвелл в Гленлейре модель гиббсовской термодинамической поверхности воды и потом демонстрирует ее королеве на выставке исторических научных инструментов.
Склад мышления Гиббса, его привязанности к диаграммам, графикам необычайно близки Максвеллу. У Гиббса он наконец понял то, чего не мог понять у Клаузиуса, – физический смысл энтропии, которая в толковании Гиббса была вполне измеримой величиной. Оказалось, что в течение чуть не двадцати лет вслед за Тэтом и Томсоном Максвелл, не понимая работ Клаузиуса, неверно толковал томсоновское второе начало через клаузиусовскую энтропию. И внутренне, вероятно, покраснел. Ну, Тэт, это понятно. Он ни в грош не ставит Клаузиуса из шовинистических соображений, никогда всерьез не читал его, но как мог он, Максвелл, не пробиться через всю эту немецкую словесную премудрость и не постичь правильного смысла энтропии? Может быть, потому, что энтропия – понятие трудно представимое, не поддающееся прямому моделированию, не то что легко измеримые работа, давление, объем, температура. Гиббс прибавил к этим физически ясным понятиям слово «энтропия».
Зримым следом увлечения Максвелла термодинамикой остались лишь его неопубликованные заметки по равновесию гетерогенных веществ и модели гиббсовских термодинамических поверхностей, которые были вылеплены Максвеллом и подарены Вильяму Томсону и Тэту и, конечно, Гиббсу.
Гиббс, как и сам Максвелл, был сдержан и немногословен, чужд тщеславия.
Когда его ученики, прекрасно знавшие о происхождении модели, которую он демонстрировал на своих лекциях, с ясной целью спрашивали его:
– А кто сделал эту модель?
Он отвечал обычно:
– Один мой друг.
– Какой друг? – следовал углубляющий вопрос.
– Друг из Англии.
Гиббс и Максвелл никогда не встречались...
...Вряд ли на королеву Викторию и ее пышное окружение горячая речь Максвелла произвела сколько-нибудь заметное впечатление. Отшелестели платья, отзвенели шпоры, и вот уже видно в окно, как трогаются шестерки лошадей, запряженных в придворные золоченые кареты. А в первой, в которую запряжены были лимонно-желтые, как бы тоже позолоченные лошади, укатила в Букингемский дворец та, чьим именем будут названы шестьдесят лет ее правления, – королева Виктория.
Да, судьба распорядилась так, что вся жизнь Максвелла уложилась в рамки «викторианской» Англии. Он был викторианским ученым, но его идеи перерастали викторианский век. Они предвосхищали уже век новый – двадцатый.
Квадрант Тихо Браге, телескоп и «оккьялино» Галилея, арифмометр Паскаля, костяшки-счеты Непера, электрический телеграф Земмеринга, старинные швейцарские часы из дуврского замка, магдебургские полушария Отто фон Герике. И как завершающий, торжественный аккорд – английская часть выставки: астролябия сэра Френсиса Дрейка, телескоп Ньютона, безопасная шахтерская лампа Дэви, магнитоэлектрические аппараты Фарадея, аппараты Форбса и Брюстера, барометр Дальтона. Да, неплохо выглядела Англия, особенно Англия XIX века, на этой выставке. Тем более что экскурсоводами этой выставки были виднейшие английские ученые, и в том числе – в отделе молекулярной физики – Максвелл.
В мае 1876 года Максвелл писал своему дяде и другу, брату покойной матери, Роберту Кею:
«Меня послали в Лондон для того, чтобы объяснить королеве, почему Отто фон Герике посвятил себя открытию „ничего“, и показать ей два полушария, в которых он содержал это „ничего“, и картины, изображающие 16 лошадей, которые не могли оторвать полушария друг от друга, и как через 200 лет В.Крукс подошел гораздо ближе к „ничего“ и запечатал его в стеклянный шар для публичного обозрения. Ее Величество, однако, отпустила нас довольно легко и не доставила нам с „ничего“ много хлопот – видимо, у нее была еще бездна тяжелой работы на конец дня...»
Можно вообразить, как на фоне уникальных приборов – научных реликвий, свидетелей прозрений гениев – стоит Джеймс Клерк Максвелл перед «маленькой дамой в сером» – королевой Викторией, живым символом процветающей викторианской Англии, перед ее сестрой, германской императрицей, перед собравшимися тут же вельможами и затерявшимися между ними виднейшими учеными Европы, как размышляет о том, что сказать ему сейчас, с этой внезапно представившейся трибуны, какие свои идеи обнародовать, подчеркнуть, во что заставить поверить эту пеструю толпу?
Сейчас они могут выслушать все, в эти отмеренные несколько минут, они будут делать понимающие глаза и кивать головами. Сейчас можно говорить все.
И Максвелл начинает говорить... о Гиббсе. О никому не известном Джозайя Уилларде Гиббсе из Йельского колледжа в Соединенных Штатах Америки, о котором и самому-то Максвеллу несколько лет назад было ничего не известно и могло бы остаться неизвестным и далее, если бы не одна его, Гиббса, своеобразная особенность.
Дело в том, что после выхода каждого очередного своего труда Гиббс, стройный тридцатисемилетний холостяк с короткой бородкой на скуластом лице, принимался за трудную работу. Справедливо полагая, что ни один серьезный европейский ученый не возьмет в руки, скажем, «Труды Коннектикутской Академии наук», где он печатался, Гиббс, положив перед собой список в 507 имен, начинал собственноручно отсылать всем известным ему ученым из двадцати стран оттиски своих трудов.
И не без умысла. Чтобы кто-нибудь начал читать его статьи и, более того, дочитал бы их до конца, потребовалось бы известное усилие, которое Гиббс и стимулировал столь искусно своим эпистолярным вниманием!
Гиббс в своих статьях не делал никаких предварительных замечаний и текущих комментариев. Все манипуляции над формулами и понятиями проделывались им в собственном мозгу, и на долю читателя оставалось взирать на неизвестно откуда и каким путем полученные формулы, несущие глубокий физический смысл.
Настолько глубокий, что труды Гиббса поразили самого Максвелла. Более того, он безо всякого кокетства зимой 1873 года в письме к Тэту вдруг объявил, что наконец стал понимать термодинамику. В новых изданиях своей книги «Теория теплоты» он делает исправления и признает, что ранее излагал второе начало термодинамики неверно. Целую зиму мастерит Максвелл в Гленлейре модель гиббсовской термодинамической поверхности воды и потом демонстрирует ее королеве на выставке исторических научных инструментов.
Склад мышления Гиббса, его привязанности к диаграммам, графикам необычайно близки Максвеллу. У Гиббса он наконец понял то, чего не мог понять у Клаузиуса, – физический смысл энтропии, которая в толковании Гиббса была вполне измеримой величиной. Оказалось, что в течение чуть не двадцати лет вслед за Тэтом и Томсоном Максвелл, не понимая работ Клаузиуса, неверно толковал томсоновское второе начало через клаузиусовскую энтропию. И внутренне, вероятно, покраснел. Ну, Тэт, это понятно. Он ни в грош не ставит Клаузиуса из шовинистических соображений, никогда всерьез не читал его, но как мог он, Максвелл, не пробиться через всю эту немецкую словесную премудрость и не постичь правильного смысла энтропии? Может быть, потому, что энтропия – понятие трудно представимое, не поддающееся прямому моделированию, не то что легко измеримые работа, давление, объем, температура. Гиббс прибавил к этим физически ясным понятиям слово «энтропия».
Зримым следом увлечения Максвелла термодинамикой остались лишь его неопубликованные заметки по равновесию гетерогенных веществ и модели гиббсовских термодинамических поверхностей, которые были вылеплены Максвеллом и подарены Вильяму Томсону и Тэту и, конечно, Гиббсу.
Гиббс, как и сам Максвелл, был сдержан и немногословен, чужд тщеславия.
Когда его ученики, прекрасно знавшие о происхождении модели, которую он демонстрировал на своих лекциях, с ясной целью спрашивали его:
– А кто сделал эту модель?
Он отвечал обычно:
– Один мой друг.
– Какой друг? – следовал углубляющий вопрос.
– Друг из Англии.
Гиббс и Максвелл никогда не встречались...
...Вряд ли на королеву Викторию и ее пышное окружение горячая речь Максвелла произвела сколько-нибудь заметное впечатление. Отшелестели платья, отзвенели шпоры, и вот уже видно в окно, как трогаются шестерки лошадей, запряженных в придворные золоченые кареты. А в первой, в которую запряжены были лимонно-желтые, как бы тоже позолоченные лошади, укатила в Букингемский дворец та, чьим именем будут названы шестьдесят лет ее правления, – королева Виктория.
Да, судьба распорядилась так, что вся жизнь Максвелла уложилась в рамки «викторианской» Англии. Он был викторианским ученым, но его идеи перерастали викторианский век. Они предвосхищали уже век новый – двадцатый.
УЧЕНИКИ
Уже через много лет после смерти Максвелла, да и через много лет после смерти его преемников на посту директора Кавендишской лаборатории лорда Релея, бывшего Джона Стрэтта, Дж.Дж.Томсона и лорда Резерфорда возникла необходимость передвинуть один из рабочих столов, стоящий в лаборатории со дня ее основания и использовавшийся по традиции всеми директорами лаборатории. Когда его отодвинули от стены, в нем стало возможным открыть еще один ряд ящиков – и в одном из них оказались забытые бумаги и приборы человека, расщепившего атом, – Резерфорда. А в глубине ящика завалялась скатанная в шарик, пожелтевшая от времени бумажка.
