Сегодня на Клэр брючки-капри цвета жевательной резинки, безрукавка, шарфик и солнечные очки: starlette manique[4]. Ей нравится стиль ретро, однажды она даже сказала: «Если у меня будут дети, я дам им ретро-имена типа Мадж, Верна или Ральф. Такие, как у посетителей в столовках 50-х».
Дег, напротив, наряжен в поношенные полотняные штаны, гладкую хлопковую рубашку и мокасины на босу ногу — сокращенная версия его обычного стиля «падший мормон». И темных очков он не надел — собирается смотреть на солние. Воскресший Хаксли или Монтгомери Клифт[5] на отходняке, пытающийся вжиться в образ своего героя.
— Отчего это, — спрашивают мои друзья, — мы делаем из покойных знаменитостей что-то вроде аттракциона с ужастиками?
А я? Я — всего лишь я. По-моему, я никогда уже не научусь подбирать одежки, как Клэр (по принципу «сочетания эпох вместо сочетаний тонов») или заниматься «канни-бализацией времени», как это называет Дег. Все мои силы уходят на то, чтобы кое-как продержаться в «здесь и сейчас», большего я не прошу. Я одеваюсь, чтобы остаться незаметным, спрятаться — слиться с родом человеческим. Закамуфлироваться.
Багажник автомобиля громко захлопывается. Здесь мы будем есть куриные грудки, пить чай со льдом и с наигранным восторгом приветствовать приносимые собаками кусочки дерева и змеиных шнур. И под горячим, иссушающим сеянием, среди пустующих участков, которые в иной реальности могли бы быть прелестными уединенными жилищами мистера Вильяма Холдена, мисс Грейс Келли или других кинозвезд, будем рассказывать друг другу наши; сказки на сон грядущий. В этих домах мои друзья Дегмар Беллингхаузен и Клэр Бакстер были бы дорогими гостями — с кем еще можно так замечательно поплескаться в бассейне, посплетничать или выпить студеного рома цвета заката в г, Голливуд, штат Калифорния.
Но то иная реальность. В этой мы просто съедим заранее приготовленный ленч на бесплодной земле — аналоге пустого кусочка страницы» конце главы, — земле столь голой, что все предметы, попавшие на ее горячую кожу, превращаются в объекты насмешек. И здесь, под большим белым солнцем, мне удастся увидеть, как Дег с Клэр строят из себя обитателей той, иной, более гостеприимной реальности.
Дег, напротив, наряжен в поношенные полотняные штаны, гладкую хлопковую рубашку и мокасины на босу ногу — сокращенная версия его обычного стиля «падший мормон». И темных очков он не надел — собирается смотреть на солние. Воскресший Хаксли или Монтгомери Клифт[5] на отходняке, пытающийся вжиться в образ своего героя.
— Отчего это, — спрашивают мои друзья, — мы делаем из покойных знаменитостей что-то вроде аттракциона с ужастиками?
А я? Я — всего лишь я. По-моему, я никогда уже не научусь подбирать одежки, как Клэр (по принципу «сочетания эпох вместо сочетаний тонов») или заниматься «канни-бализацией времени», как это называет Дег. Все мои силы уходят на то, чтобы кое-как продержаться в «здесь и сейчас», большего я не прошу. Я одеваюсь, чтобы остаться незаметным, спрятаться — слиться с родом человеческим. Закамуфлироваться.
* * *
Словом, после долгого кружения по бездомным (в смысле, не имеющим домов) улицам Клэр выбирает для пикника угол Хлопковой и Сапфировой — не потому, будто там что-то есть (ибо нет там ничего, кроме потрескавшейся асфальтовой мостовой, которую потихоньку отвоевывают назад шалфей и креозотовые кусты), а скорее оттого, что, «если сильно постараться, можно почти ощутить оптимизм основателей поселка в миг, когда они раздавали улицам имена».Багажник автомобиля громко захлопывается. Здесь мы будем есть куриные грудки, пить чай со льдом и с наигранным восторгом приветствовать приносимые собаками кусочки дерева и змеиных шнур. И под горячим, иссушающим сеянием, среди пустующих участков, которые в иной реальности могли бы быть прелестными уединенными жилищами мистера Вильяма Холдена, мисс Грейс Келли или других кинозвезд, будем рассказывать друг другу наши; сказки на сон грядущий. В этих домах мои друзья Дегмар Беллингхаузен и Клэр Бакстер были бы дорогими гостями — с кем еще можно так замечательно поплескаться в бассейне, посплетничать или выпить студеного рома цвета заката в г, Голливуд, штат Калифорния.
Но то иная реальность. В этой мы просто съедим заранее приготовленный ленч на бесплодной земле — аналоге пустого кусочка страницы» конце главы, — земле столь голой, что все предметы, попавшие на ее горячую кожу, превращаются в объекты насмешек. И здесь, под большим белым солнцем, мне удастся увидеть, как Дег с Клэр строят из себя обитателей той, иной, более гостеприимной реальности.
Я ВАМ — НЕ ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Дег говорит, что он — лесбиянка, запертая, как в мышеловке, в мужском теле. Попробуй-ка понять эту формулировку. Когда смотришь, как он курит в пустыне сигареты с фильтром и пот, едва проступая на его лице, сразу же испаряется, а Клэр у зарешеченного заднего вентиля «сааба» дразнит собак кусочками курицы, единственное, что приходит на ум, -это выцветшие фотокарточки на бумаге «Кодак», сделанные много лет назад и пылящиеся, как правило, где-то на чердаке, в коробке от обуви. Ну знаете: пожелтевшие, мутные, на заднем плане обязательно виднеется большая нерезкая машина, а наряды смотрятся удивительно стильно. Глядя на эти фото, остается только дивиться, как милы, печальны и наивны мгновения жизни, зафиксированные объективом, — ведь будущее по-прежнему неведомо и еще только готовится причинить боль. В эти мгновения наши позы кажутся естественными.
Наблюдая, как дурачатся в пустыне Дег и Клэр, я понимаю, что до сих пор образы моей собственной персоны и моих друзей в этом повествовании были несколько расплывчатыми. Чуть-чуть поподробней о них и о себе — самое время. Переходим к историям болезни.
Сначала — Дег. Где-то с год назад его машина подкатила к тротуару у моего дома машина с номерами штата Онтарио, покрытыми горчичной коркой оклахомской грязи и мошкарой Небраски. Когда он открыл дверь, на тротуар вывалилась груда барахла, в том числе немедленно разбившийся флакон духов «Шанель кристаль». («Знаешь, лесбиянки просто обожают „Кристаль“. Масса энергии, спортивный азарт».) Я так и не выяснил, зачем ему понадобились духи, но с этого самого момента наша жизнь стала значительно интересней.
Вскоре после приезда Дега я подыскал ему жилье — пустующее бунгало между моим и Клэр — и работу на пару со мной в баре «У Ларри», где он быстро стал кем-то вроде властителя душ. К примеру, однажды он поспорил со мной на пятьдесят долларов, что сумеет заставить местную публику — занудных пустозвонов, неудавшихся За-За Габор, байкеров невысокого полета, варящих кислоту в горных хижинах, на их байкерских телок с бледно-зелеными блатными татуировками на пальцах и лицами того отталкивающего цвета, какой бывает у выброшенных на помойку, размокших под дождем манекенов, — так вот, он поспорил со мной, что до закрытия сможет заставить их пропеть вместе с ним «It's a Heartache»[6] — отвратную, удивительно немодную шотландскую любовную песню, которую ни разу не извлекали из музыкального авто— мата. Идея была абсолютно дурацкой, и, разумеется, я принял пари. Спустя пару минут стою я в коридоре, под висящей на стене коллекцией наконечников индейских стрел, звоню по междугородке — и вдруг из бара раздаются немелодичное блеяние и рев толпы, сопровождаемые колыханием причесок «вшивый домик» и жидкими, не в такт, аплодисментами вялых байкерских рук. Не без восхищения я вручил Дегу его полтинник, пока какой-то страхолюдный байкер обнимался с ним («Люблю я этого чувака!»), а потом узрел, как Дег положил купюру в рот, немножко пожевал и проглотил.
— Ау, Энди. Человек — это то, что он ест.
Раньше Дег работал в рекламе (более того, в сфере маркетинга) и приехал в Калифорнию из г. Торонто, страна Канада. Я там как-то побывал — и никак не мог отделаться от впечатления, что не город это, а трехмерная версия славного своей упорядоченностью справочника «Желтые страницы»[7], приправленного деревьями и расшитого прожилками холодной воды.
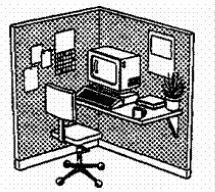 — Не думаю, что меня особо любили окружающие. В сущности, я был одним из тех мудозвонов, которые каждое утро, надев бейсбольные кепки, едут в своих спортивных машинах с опущенным верхом в деловую часть города. Ну знаете, такие зазнайки, неизменно довольные свежестью и безукоризненностью своей внешности. Мне жутко льстило, да что там, меня возвышало в собственных глазах, что производители предметов быта западной культуры видят во мне своего самого желанного, перспективного потребителя. Правда, я по малейшему поводу рассыпался в извинениях за свою деятельность — работу с восьми до пяти перед спермоубойным компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению «третьего мира». Но потом, ого! Било пять вечера, и я отрывался! Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я носил галстук-бабочку, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города.
— Не думаю, что меня особо любили окружающие. В сущности, я был одним из тех мудозвонов, которые каждое утро, надев бейсбольные кепки, едут в своих спортивных машинах с опущенным верхом в деловую часть города. Ну знаете, такие зазнайки, неизменно довольные свежестью и безукоризненностью своей внешности. Мне жутко льстило, да что там, меня возвышало в собственных глазах, что производители предметов быта западной культуры видят во мне своего самого желанного, перспективного потребителя. Правда, я по малейшему поводу рассыпался в извинениях за свою деятельность — работу с восьми до пяти перед спермоубойным компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению «третьего мира». Но потом, ого! Било пять вечера, и я отрывался! Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я носил галстук-бабочку, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города.
— В то утро окна здания, где находился наш офис, не стали открывать. Я сидел в своем отсеке, любовно окрещенном «загончиком для откорма молодняка». Меня все больше донимала мигрень и тошнота от циркулировавших в воздухе офисных токсинов и вирусов — вентиляторы без конца гоняли их туда-сюда.
Разумеется, эти ядовитые ветры, сопровождаемые гудением машин по производству белого шума и свечением мониторов, сильнее всего бушевали вокруг меня. Я ничего толком не делал, а только пялился, как вкалывает мой изготовленный компанией Ай-би-эм клон, окруженный морем блокнотов и плакатами рок-групп, которые я сдирал с дощатых заборов стройплощадок. Была там еще маленькая коричневая фотография деревянного китобойного судна, раздавленного в антарктических льдах, которую я когда-то вырезал из старого «Нэшнл джиогрэфик». Это фото я вставил в крохотную позолоченную рамочку, купленную в Чайнатауне. Бывало, я подолгу не сводил с картинки глаз, безуспешно силясь вообразить холодное, одинокое отчаяние, которое, видимо, испытывают люди в безвыходном положении, — тогда собственная участь казалась мне не такой уж безрадостной.
 Так или иначе, я не особо себя утруждал и, по правде говоря, в то утро понял, что мне очень сложно представить себя на этом же рабочем месте года через два. Сама мысль об этом казалась нелепицей — причем нелепицей, вгоняющей в депрессию. Так что я расслабился больше обычного. Состояние жутко приятное. Эйфория предвкушения «заявл. по собств. жел.». За истекшее время я испытал это чувство еще несколько раз.
Так или иначе, я не особо себя утруждал и, по правде говоря, в то утро понял, что мне очень сложно представить себя на этом же рабочем месте года через два. Сама мысль об этом казалась нелепицей — причем нелепицей, вгоняющей в депрессию. Так что я расслабился больше обычного. Состояние жутко приятное. Эйфория предвкушения «заявл. по собств. жел.». За истекшее время я испытал это чувство еще несколько раз.
Карен и Джеми, «девицы — компьютерицы», работавшие в соседних загончиках (мы называли наши отсеки то загончиками для откорма молодняка, то молодежным гетто), тоже чувствовали себя паршиво и тоже бездельничали. Насколько я помню, Карен была больше всех нас помешана на идее «больных зданий». У своей сестры, работавшей лаборанткой у рентгенолога в Монреале, она выпросила свинцовый фартук и надевала его, когда включала компьютер, — чтобы предохранить яичники. Она собиралась вскоре уволиться и податься во внештатные конторские служащие, которых нанимают на время через особые агентства: «Больше свободы — легче знакомиться с велокурьерами».
В общем, насколько мне помнится, я разрабатывал рекламную кампанию гамбургеров, главной задачей которой, по словам моего босса, озлобленного экс-хиппи Мартина, было «заставить этих монстров тащиться от гамбургеров так, чтоб блевали от восторга». И эту фразу произнес старик сорока лет от роду. Уже много месяцев я подозревал, что нечего мне тут работать, и вот предчувствия нахлынули на меня с новой силой. К счастью, судьбе было угодно, чтобы в то самое утро, откликнувшись на мой по— недельничный звонок (я поставил под сомнение полезность условий нашего труда для здоровья), пришел санитарный инспектор.
 Мартин был потрясен до глубины души тем, что какой-то служащий взял и позвонил инспектору, — серьезно, он просто офигел. В Торонто вполне могут заставить хозяев заняться перестройкой здания, а дело это дико дорогое — новые вентиляционные ходы и тому подобное; так что (плевать на здоровье работников) в глазах Мартина заплясали долларовые знаки и нули на десятки тысяч долларов. Он вызвал меня к себе и начал орать, и жиденький, с проседью хвостик на его затылке запрыгал вверх-вниз: «Я просто не понимаю вас, молодые люди. Ни одно рабочее место вас не устраивает. Вы жалуетесь, что у вас нетворческая работа, скулите, что вы в тупике, но когда вам наконец дают повышение, бросаете все и отправляетесь собирать виноград в Квинсленд или еще за какую-то чушь хватаетесь».
Мартин был потрясен до глубины души тем, что какой-то служащий взял и позвонил инспектору, — серьезно, он просто офигел. В Торонто вполне могут заставить хозяев заняться перестройкой здания, а дело это дико дорогое — новые вентиляционные ходы и тому подобное; так что (плевать на здоровье работников) в глазах Мартина заплясали долларовые знаки и нули на десятки тысяч долларов. Он вызвал меня к себе и начал орать, и жиденький, с проседью хвостик на его затылке запрыгал вверх-вниз: «Я просто не понимаю вас, молодые люди. Ни одно рабочее место вас не устраивает. Вы жалуетесь, что у вас нетворческая работа, скулите, что вы в тупике, но когда вам наконец дают повышение, бросаете все и отправляетесь собирать виноград в Квинсленд или еще за какую-то чушь хватаетесь».
Сейчас Мартин, как и большинство озлобленных экс-хиппи, стал яппи, и я ума не приложу, как надо с такими людьми общаться. Прежде чем лезть в бутылку и орать, что яппи на свете не бывает, взглянем правде в глаза: они есть. Мудозвоны типа Мартина, которые оскаливаются, как вурдалаки, когда не могут получить в ресторане столик у окна, в секции для некурящих, с полотняными салфетками. Не понимающие шуток андроиды, в самом факте существования которых есть что-то пугающее и конфузное, — они вроде тех недокормленных чау-чау, щерящих крошечные клыки в ожидании, когда их пнут в морду носком сапога. Еще их можно сравнить с молоком, выплеснутым на фиолетовые раскаленные нити гриля: изощренное глумление над природой. Яппи никогда не рискуют — они все заранее просчитывают. У них нет ауры.
— Эй, Мартин, — сказал я, войдя в его кабинет, самый что ни на есть джеймс-бондовский кабинет с видом на центр города; он сидел в пурпурном, компьютерного дизайна, свитере из Кореи, фактурном таком, материальном (Мартин обожал все материальное), — поставь себя на мое место. Неужели ты и вправду думаешь, что нам нравится работать на этой свалке токсичных отходов? — Безотчетный порыв под— хватил меня и понес. — И вдобавок слушать, как ты целыми днями болтаешь со своими приятелями-яппи о новейших операциях по отсасыванию жира, а сам раскручиваешь в нашем Ксанаду[8] искусственно подслащенное желе?
Сам того не желая, я зашел tres[9] далеко. Ну что ж, раз все равно увольняться, заодно можно и душу облегчить.
— Прошу прощения, — произнес Мартин; пылу в нем поубавилось.
— Или, коли на то пошло, ты действительно считаешь, что приятно слушать о твоем новеньком домишке за миллион долларов, когда нам едва хватает на дохлый сандвич в пластиковой коробке, — а ведь нам уже под тридцать? И позволь добавить, что дом ты выиграл в генетическую лотерею исключительно потому, что родился в исторически верный момент. Был бы ты сейчас моим ровесником, не протянул бы и десяти дней. Я же до конца своей жизни вынужден буду мириться с тем, что всякие дубоголовые, типа тебя, жируют, и смотреть, как вы вечно хватаете первыми лучший кусок пирога, а затем обносите колючей проволокой все оставшееся. Глаза б мои на тебя не глядели, Мартин.
К несчастью, зазвонил телефон, и я упустил возможность выслушать его — бьюсь об заклад — слабые возражения… Звонил кто-то вышестоящий — из тех, кому Мартин в данный период планомерно лизал задницу, а потому неотшивабельный. Я поплелся в служебный кафетерий. Там представитель фирмы по ремонту ксероксов выливал обжигающий кофе из пластикового стаканчика в кадку с фикусом, который и так еще толком не оправился после густых коктейлей и окурков с рождественской вечеринки. Снаружи лил дождь, по стеклам струилась вода, но внутри из-за непрерывной рециркуляции воздух был сух, как в Сахаре. Клерки честили общественный транспорт, рассказывали анекдоты про СПИД, перемывали косточки местным модникам, чихали, обсуждали гороскопы, строили планы на отпуск в таймшерах Санто-Доминго, а также поносили богатых и знаменитых. В этот момент я почувствовал себя циником — окружение этому соответствовало. Возле кофейного автомата рядом с мойкой я взял стаканчик, а Маргарет(моя коллега, работавшая в другом конце офиса), ожидая, пока заварится ее травяной чай, рассказала мне, что последовало за моей недавней вспышкой.
— Что ты наговорил Мартину, Дег? — спросила она. — Он у себя в кабинете рвет и мечет, обзывая тебя последними словами. Этот инспектор, он что, объявил наш офис Бхопалом[10]?
Наблюдая, как дурачатся в пустыне Дег и Клэр, я понимаю, что до сих пор образы моей собственной персоны и моих друзей в этом повествовании были несколько расплывчатыми. Чуть-чуть поподробней о них и о себе — самое время. Переходим к историям болезни.
Сначала — Дег. Где-то с год назад его машина подкатила к тротуару у моего дома машина с номерами штата Онтарио, покрытыми горчичной коркой оклахомской грязи и мошкарой Небраски. Когда он открыл дверь, на тротуар вывалилась груда барахла, в том числе немедленно разбившийся флакон духов «Шанель кристаль». («Знаешь, лесбиянки просто обожают „Кристаль“. Масса энергии, спортивный азарт».) Я так и не выяснил, зачем ему понадобились духи, но с этого самого момента наша жизнь стала значительно интересней.
Вскоре после приезда Дега я подыскал ему жилье — пустующее бунгало между моим и Клэр — и работу на пару со мной в баре «У Ларри», где он быстро стал кем-то вроде властителя душ. К примеру, однажды он поспорил со мной на пятьдесят долларов, что сумеет заставить местную публику — занудных пустозвонов, неудавшихся За-За Габор, байкеров невысокого полета, варящих кислоту в горных хижинах, на их байкерских телок с бледно-зелеными блатными татуировками на пальцах и лицами того отталкивающего цвета, какой бывает у выброшенных на помойку, размокших под дождем манекенов, — так вот, он поспорил со мной, что до закрытия сможет заставить их пропеть вместе с ним «It's a Heartache»[6] — отвратную, удивительно немодную шотландскую любовную песню, которую ни разу не извлекали из музыкального авто— мата. Идея была абсолютно дурацкой, и, разумеется, я принял пари. Спустя пару минут стою я в коридоре, под висящей на стене коллекцией наконечников индейских стрел, звоню по междугородке — и вдруг из бара раздаются немелодичное блеяние и рев толпы, сопровождаемые колыханием причесок «вшивый домик» и жидкими, не в такт, аплодисментами вялых байкерских рук. Не без восхищения я вручил Дегу его полтинник, пока какой-то страхолюдный байкер обнимался с ним («Люблю я этого чувака!»), а потом узрел, как Дег положил купюру в рот, немножко пожевал и проглотил.
— Ау, Энди. Человек — это то, что он ест.
* * *
Поначалу люди относятся к Дегу с подсознательной опаской — так жители равнин опасливо раздувают ноздри, впервые выйдя на берег и почуяв запах моря. «У него — брови», — говорит Клэр, описывая его по телефону какой-нибудь из своих многочисленных сестер.Раньше Дег работал в рекламе (более того, в сфере маркетинга) и приехал в Калифорнию из г. Торонто, страна Канада. Я там как-то побывал — и никак не мог отделаться от впечатления, что не город это, а трехмерная версия славного своей упорядоченностью справочника «Желтые страницы»[7], приправленного деревьями и расшитого прожилками холодной воды.
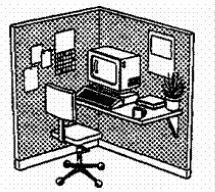
ЗАГОНЧИК ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА: маленький, тесный отсек офиса, образованный передвижными перегородками; место обитания младшего персонала. Название происходит от небольших загончиков, используемых в животноводстве для откорма предназначенного на убой молодняка.История о том, почему Дег переехал в Палм-Спрингс, занимает сейчас мои мысли. Поэтому я продолжу восстанавливать события, опираясь на рассказы самого Дега, собранные по крупицам за последний год, за долгие ночи совместной работы в баре. Начну с момента, когда, как Дег однажды рассказывал мне, он был на работе и мучился от «синдрома больных зданий».
— В то утро окна здания, где находился наш офис, не стали открывать. Я сидел в своем отсеке, любовно окрещенном «загончиком для откорма молодняка». Меня все больше донимала мигрень и тошнота от циркулировавших в воздухе офисных токсинов и вирусов — вентиляторы без конца гоняли их туда-сюда.
Разумеется, эти ядовитые ветры, сопровождаемые гудением машин по производству белого шума и свечением мониторов, сильнее всего бушевали вокруг меня. Я ничего толком не делал, а только пялился, как вкалывает мой изготовленный компанией Ай-би-эм клон, окруженный морем блокнотов и плакатами рок-групп, которые я сдирал с дощатых заборов стройплощадок. Была там еще маленькая коричневая фотография деревянного китобойного судна, раздавленного в антарктических льдах, которую я когда-то вырезал из старого «Нэшнл джиогрэфик». Это фото я вставил в крохотную позолоченную рамочку, купленную в Чайнатауне. Бывало, я подолгу не сводил с картинки глаз, безуспешно силясь вообразить холодное, одинокое отчаяние, которое, видимо, испытывают люди в безвыходном положении, — тогда собственная участь казалась мне не такой уж безрадостной.

Карен и Джеми, «девицы — компьютерицы», работавшие в соседних загончиках (мы называли наши отсеки то загончиками для откорма молодняка, то молодежным гетто), тоже чувствовали себя паршиво и тоже бездельничали. Насколько я помню, Карен была больше всех нас помешана на идее «больных зданий». У своей сестры, работавшей лаборанткой у рентгенолога в Монреале, она выпросила свинцовый фартук и надевала его, когда включала компьютер, — чтобы предохранить яичники. Она собиралась вскоре уволиться и податься во внештатные конторские служащие, которых нанимают на время через особые агентства: «Больше свободы — легче знакомиться с велокурьерами».
В общем, насколько мне помнится, я разрабатывал рекламную кампанию гамбургеров, главной задачей которой, по словам моего босса, озлобленного экс-хиппи Мартина, было «заставить этих монстров тащиться от гамбургеров так, чтоб блевали от восторга». И эту фразу произнес старик сорока лет от роду. Уже много месяцев я подозревал, что нечего мне тут работать, и вот предчувствия нахлынули на меня с новой силой. К счастью, судьбе было угодно, чтобы в то самое утро, откликнувшись на мой по— недельничный звонок (я поставил под сомнение полезность условий нашего труда для здоровья), пришел санитарный инспектор.

Сейчас Мартин, как и большинство озлобленных экс-хиппи, стал яппи, и я ума не приложу, как надо с такими людьми общаться. Прежде чем лезть в бутылку и орать, что яппи на свете не бывает, взглянем правде в глаза: они есть. Мудозвоны типа Мартина, которые оскаливаются, как вурдалаки, когда не могут получить в ресторане столик у окна, в секции для некурящих, с полотняными салфетками. Не понимающие шуток андроиды, в самом факте существования которых есть что-то пугающее и конфузное, — они вроде тех недокормленных чау-чау, щерящих крошечные клыки в ожидании, когда их пнут в морду носком сапога. Еще их можно сравнить с молоком, выплеснутым на фиолетовые раскаленные нити гриля: изощренное глумление над природой. Яппи никогда не рискуют — они все заранее просчитывают. У них нет ауры.
ВЫБРОС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КЕТЧУПА: явление, когда чувства и мнения, загнанные человеком вовнутрь, внезапно прорываются наружу, озадачивая и шокируя друзей и начальство, которые в большинстве своем искренне считали, что у тебя все хорошо.Вы бывали хоть раз на вечеринках яппи? Это все равно что находиться в пустой комнате: поглядывая на себя в зеркала, ходят полые люди-голограммы и украдкой пшикают в рот освежителем «Бинака» — на случай, если придется поцеловаться с таким же привидением. Глухо, как в танке.
ЛЫСОХВОСТИК: постаревший, «продавшийся» представитель поколения демографического взрыва, то есть «детей-цветов», тоскующий о «предпродажной», хипповской эпохе.
ЗАВИСТЬ К ЛЫСОХВОСТИКАМ: зависть к материальному богатству и устойчивому положению старших представителей «поколения демографического взрыва», которым повезло родиться в удачное время.
СЕПАРАТИЗМ ПОКОЛЕНИЙ: каждое стареющее поколение старательно убеждает себя в неполноценности следующего, идущего ему на смену ради того, чтобы удержать свою самооценку на высочайшем уровне: «Этот нынешний молодняк ничего не делает. Сплошная апатия. Вот мы выходили на улицу и протестовали. А они только ходят по магазинам и жалуются».
ТИРАНИЯ КОНСЕНСУСА: процесс, определяющий стиль отношений между сослуживцами в офисе.
— Эй, Мартин, — сказал я, войдя в его кабинет, самый что ни на есть джеймс-бондовский кабинет с видом на центр города; он сидел в пурпурном, компьютерного дизайна, свитере из Кореи, фактурном таком, материальном (Мартин обожал все материальное), — поставь себя на мое место. Неужели ты и вправду думаешь, что нам нравится работать на этой свалке токсичных отходов? — Безотчетный порыв под— хватил меня и понес. — И вдобавок слушать, как ты целыми днями болтаешь со своими приятелями-яппи о новейших операциях по отсасыванию жира, а сам раскручиваешь в нашем Ксанаду[8] искусственно подслащенное желе?
Сам того не желая, я зашел tres[9] далеко. Ну что ж, раз все равно увольняться, заодно можно и душу облегчить.
— Прошу прощения, — произнес Мартин; пылу в нем поубавилось.
— Или, коли на то пошло, ты действительно считаешь, что приятно слушать о твоем новеньком домишке за миллион долларов, когда нам едва хватает на дохлый сандвич в пластиковой коробке, — а ведь нам уже под тридцать? И позволь добавить, что дом ты выиграл в генетическую лотерею исключительно потому, что родился в исторически верный момент. Был бы ты сейчас моим ровесником, не протянул бы и десяти дней. Я же до конца своей жизни вынужден буду мириться с тем, что всякие дубоголовые, типа тебя, жируют, и смотреть, как вы вечно хватаете первыми лучший кусок пирога, а затем обносите колючей проволокой все оставшееся. Глаза б мои на тебя не глядели, Мартин.
К несчастью, зазвонил телефон, и я упустил возможность выслушать его — бьюсь об заклад — слабые возражения… Звонил кто-то вышестоящий — из тех, кому Мартин в данный период планомерно лизал задницу, а потому неотшивабельный. Я поплелся в служебный кафетерий. Там представитель фирмы по ремонту ксероксов выливал обжигающий кофе из пластикового стаканчика в кадку с фикусом, который и так еще толком не оправился после густых коктейлей и окурков с рождественской вечеринки. Снаружи лил дождь, по стеклам струилась вода, но внутри из-за непрерывной рециркуляции воздух был сух, как в Сахаре. Клерки честили общественный транспорт, рассказывали анекдоты про СПИД, перемывали косточки местным модникам, чихали, обсуждали гороскопы, строили планы на отпуск в таймшерах Санто-Доминго, а также поносили богатых и знаменитых. В этот момент я почувствовал себя циником — окружение этому соответствовало. Возле кофейного автомата рядом с мойкой я взял стаканчик, а Маргарет(моя коллега, работавшая в другом конце офиса), ожидая, пока заварится ее травяной чай, рассказала мне, что последовало за моей недавней вспышкой.
— Что ты наговорил Мартину, Дег? — спросила она. — Он у себя в кабинете рвет и мечет, обзывая тебя последними словами. Этот инспектор, он что, объявил наш офис Бхопалом[10]?
БРОСАЙ РАБОТУ
Я ушел от вопроса. Мне нравится Маргарет. Она не сдается. Она старше меня, хороша собой на эдакий лак-для-волос-накладные-плечи-два-развода манер. Настоящий бульдозер. Она напоминает тот тип комнаток, встречающихся только в центре Нью-Йорка или Чикаго, в супердорогих квартирах, — комнаток, выкрашенных (с целью скрыть их малые размеры) в яркие, кричащие тона, вроде изумрудного или цвета сырой говядины. Как-то раз, кстати, она определила мое время года: я — лето.
Но Маргарет остудила мой пыл. Отставив кружку, она сказала, что, прежде чем переходить в режим «Обеспокоенный Молодой Человек», я должен понять: все мы по утрам идем на работу только по одной причине — боимся того, что случится, если мы перестанем это делать.
Наша физиология не приспособлена для пустого времяпрепровождения. Нам-то кажется по-другому — но в реальности ни черта она для этого не приспособлена.
Потом она начала говорить в общем-то уже сама с собой. Я ее завел. Она заявила, что у большинства из нас за всю жизнь бывает всего два-три интересных момента, остальное — наполнитель, и чудо, если под конец жизни окажется, что из этих разрозненных моментов складывается история, которую хоть кто-то найдет занимательной.
Ну вот. Видите, какие нездоровые, саморазрушительные силы овладели мной в то утро, а тут еще Маргарет с энтузиазмом подливала масла в огонь. Словом, мы сидели и смотрели, как заваривается чай (не самое увлекательное занятие при любой погоде), и, чувствуя себя сообщниками, слушали дискуссию офисных пролетариев о том, делал ли себе недавно некий телеведущий косметическую операцию или это враки.
— Слушай, Маргарет, — сказал я. — Спорим, ты не сможешь назвать ни одного человека за всю историю человечества, на чьей славе никто бы не заработал денег.
Она не поняла, и я стал развивать мою идею. Я сказал ей, что в этом мире никто не становится — просто физически не может стать — известным без того, чтобы масса людей не нажила на этом кучу денег. Несколько опешив от моего цинизма, она приняла честный бой.
— Ты чересчур суров, Дег. А как же Авраам Линкольн?
— Не годится. Дело было исключительно в рабстве и в земле. Там крутилась бездна денег.
Тогда она говорит: «Леонардо да Винчи», а я отвечаю, что он был бизнесменом, вроде Шекспира или всех прочих корифеев, работал только на заказ, и, хуже того, его изобретениями пользовались военные.
— Знаешь, Дег, это самый дурацкий спор из всех, что мне приходилось вести, — вскипает она, не зная, что сказать. — Человек запросто может прославиться, никого этим не обогащая.
— Тогда назови хоть одного.
Я видел, что мысли Маргарет мечутся, она менялась в лице, сам же я налился само— довольством, отлично зная, что все остальные в кафетерии прислушиваются к нашему разговору. Я вновь был парнем в бейсбольной кепке, едущим в машине с откидным верхом, торчащим от собственных талантов и считающим, что за всеми человеческими устремлениями стоят корысть и низость. Вот каким я был.
— Ну хорошо, ты выиграл, — говорит она, уступая мне эту пиррову победу; я был уже на полпути к выходу со своим кофе (вновь Безупречный-Хоть-И-Нагловатый-Молодой-Человек), когда услышал из дальнего угла кафетерия голосок, произнесший: «Анна Франк».
— М-да.
— Анна Франк, — взревел я. — Да и там были деньги, ежу понятно…
Но, разумеется, там-то деньги были ни при чем. Я невольно ввязался в поединок на моральном фронте, который она искусно выиграла. Я почувствовал себя дураком и мерзавцем.
Сослуживцы, естественно, были на стороне Чарлин — поддерживать кретинов ник— то не любит. Они улыбались своими «ага-получил-по-заслугам» улыбками, в кафетерии воцарилась тишина; публика ждала, что я вырою себе могилу еще глубже. Чарлин вообще напустила на себя вид праведницы. Но я лишь молча стоял; им оставалось только наблюдать, как моя белая пушистая карма молниеносно превращается в черное чугунное пушечное ядро, стремительно опускающееся на дно холодного, глубокого швейцарского озера. Мне хотелось превратиться в растение — коматозное, не дышащее, не думающее существо. Но офисным растениям грозит, что придет мастер по ксероксам и польет их обжигающим кофе вместо воды, так ведь? Что мне оставалось делать? Я положил с при— бором на эту контору по выматыванию нервов. Пока не случилось чего-нибудь похуже, я вышел из кафетерия, вышел из здания на улицу — и с тех пор туда не возвращался. Я даже не потрудился забрать вещи из своего загончика.
Обращая взгляд в прошлое, я думаю, что, будь у моих бывших сослуживцев хоть капелька мудрости (что маловероятно), они заставили бы Чарлин навести порядок на моем столе. Мне просто нравится разглядывать мысленным взором, как она, удерживая свои— ми пухлыми пальчиками-сардельками мусорную корзину, просматривает кипы моих бумаг. Она наверняка наткнулась бы на фотографию в рамочке: китобойное судно, раздавленное и застрявшее — быть может, навеки — в стеклянных антарктических льдах. Я вижу, как в легком замешательстве она смотрит на фото, раздумывая, что же за человек я был, и, возможно, находит меня не столь уж несимпатичным.
Но ее неизбежно заинтересует, почему мне вздумалось вставить в рамку столь странную картинку; потом, воображаю я, она задастся вопросом, не имеет ли фото коммерческой ценности. Потом я вижу, как она благодарит свою счастливую звезду за то, что не способна на такие чудачества, и… выбрасывает мою картинку в мусор. Но в этот краткий миг ее замешательства, в этот краткий миг перед тем, как она решает выкинуть фото… мне кажется, я мог бы почти влюбиться в Чарлин.
Именно эта мысль о любви и поддерживала меня долгое время после того, как, уйдя с работы, я превратился в «подвального человека» и не работал больше в офисах.
БЕГСТВО ИЗ «БОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» :распространенное среди молодых служащих нежелание работать во вредных для здоровья офисных помещениях, подверженных «синдрому больных зданий».— Господи, Маргарет! Остается лишь удивляться, зачем мы вообще встаем по утрам. Серьезно: зачем работать? Чтобы накупать еще больше вещей? И это все? Взгляни на нас. Какой общий предрассудок бросает нас с одного места на другое? Разве мы — такие, как мы есть, — стоим наших приобретений: мороженого, кроссовок, костюмов там всяких итальянских из чистой шерсти? Я же вижу, как мы разбиваемся в лепешку, чтобы приобретать барахло, барахло и еще раз барахло, но не могу отделаться от чувства, что мы его… не заслуживаем, вот что…
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЛИНИЮ СТАРТА: переход на другую работу, приносящую меньший доход, но дающую возможность вновь оказаться в роли ученика.
Но Маргарет остудила мой пыл. Отставив кружку, она сказала, что, прежде чем переходить в режим «Обеспокоенный Молодой Человек», я должен понять: все мы по утрам идем на работу только по одной причине — боимся того, что случится, если мы перестанем это делать.
Наша физиология не приспособлена для пустого времяпрепровождения. Нам-то кажется по-другому — но в реальности ни черта она для этого не приспособлена.
Потом она начала говорить в общем-то уже сама с собой. Я ее завел. Она заявила, что у большинства из нас за всю жизнь бывает всего два-три интересных момента, остальное — наполнитель, и чудо, если под конец жизни окажется, что из этих разрозненных моментов складывается история, которую хоть кто-то найдет занимательной.
Ну вот. Видите, какие нездоровые, саморазрушительные силы овладели мной в то утро, а тут еще Маргарет с энтузиазмом подливала масла в огонь. Словом, мы сидели и смотрели, как заваривается чай (не самое увлекательное занятие при любой погоде), и, чувствуя себя сообщниками, слушали дискуссию офисных пролетариев о том, делал ли себе недавно некий телеведущий косметическую операцию или это враки.
— Слушай, Маргарет, — сказал я. — Спорим, ты не сможешь назвать ни одного человека за всю историю человечества, на чьей славе никто бы не заработал денег.
Она не поняла, и я стал развивать мою идею. Я сказал ей, что в этом мире никто не становится — просто физически не может стать — известным без того, чтобы масса людей не нажила на этом кучу денег. Несколько опешив от моего цинизма, она приняла честный бой.
— Ты чересчур суров, Дег. А как же Авраам Линкольн?
— Не годится. Дело было исключительно в рабстве и в земле. Там крутилась бездна денег.
Тогда она говорит: «Леонардо да Винчи», а я отвечаю, что он был бизнесменом, вроде Шекспира или всех прочих корифеев, работал только на заказ, и, хуже того, его изобретениями пользовались военные.
— Знаешь, Дег, это самый дурацкий спор из всех, что мне приходилось вести, — вскипает она, не зная, что сказать. — Человек запросто может прославиться, никого этим не обогащая.
— Тогда назови хоть одного.
Я видел, что мысли Маргарет мечутся, она менялась в лице, сам же я налился само— довольством, отлично зная, что все остальные в кафетерии прислушиваются к нашему разговору. Я вновь был парнем в бейсбольной кепке, едущим в машине с откидным верхом, торчащим от собственных талантов и считающим, что за всеми человеческими устремлениями стоят корысть и низость. Вот каким я был.
— Ну хорошо, ты выиграл, — говорит она, уступая мне эту пиррову победу; я был уже на полпути к выходу со своим кофе (вновь Безупречный-Хоть-И-Нагловатый-Молодой-Человек), когда услышал из дальнего угла кафетерия голосок, произнесший: «Анна Франк».
— М-да.
СИНДРОМ ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: неспособность работы дорасти до запросов работника.Я развернулся — и кого же увидел? Чарлин. Чарлин, достойную уважения за ее тихое неповиновение начальству, но невыносимо скучную и коротконогую. Она сидела возле гигантского блюдца, из которого всякий желающий мог черпать таблетки от головной боли. Чарлин, с ее обесцвеченным перманентом, вырезанными из журнала «В кругу семьи» рецептами, как экономить мясо, полуотвергнутая любовником. Когда на рождественском вечере при раздаче подарков вытягиваешь из шляпы бумажку с именем такого человека, у тебя непроизвольно вырывается: «Кто-кто?»
ТЕМНЫЙ ЛЕС ВЛАСТИ: потаенная иерархия служащих офиса. Для нее характерна крайняя расплывчатость, несводимость к четким схемам.
— Анна Франк, — взревел я. — Да и там были деньги, ежу понятно…
Но, разумеется, там-то деньги были ни при чем. Я невольно ввязался в поединок на моральном фронте, который она искусно выиграла. Я почувствовал себя дураком и мерзавцем.
Сослуживцы, естественно, были на стороне Чарлин — поддерживать кретинов ник— то не любит. Они улыбались своими «ага-получил-по-заслугам» улыбками, в кафетерии воцарилась тишина; публика ждала, что я вырою себе могилу еще глубже. Чарлин вообще напустила на себя вид праведницы. Но я лишь молча стоял; им оставалось только наблюдать, как моя белая пушистая карма молниеносно превращается в черное чугунное пушечное ядро, стремительно опускающееся на дно холодного, глубокого швейцарского озера. Мне хотелось превратиться в растение — коматозное, не дышащее, не думающее существо. Но офисным растениям грозит, что придет мастер по ксероксам и польет их обжигающим кофе вместо воды, так ведь? Что мне оставалось делать? Я положил с при— бором на эту контору по выматыванию нервов. Пока не случилось чего-нибудь похуже, я вышел из кафетерия, вышел из здания на улицу — и с тех пор туда не возвращался. Я даже не потрудился забрать вещи из своего загончика.
Обращая взгляд в прошлое, я думаю, что, будь у моих бывших сослуживцев хоть капелька мудрости (что маловероятно), они заставили бы Чарлин навести порядок на моем столе. Мне просто нравится разглядывать мысленным взором, как она, удерживая свои— ми пухлыми пальчиками-сардельками мусорную корзину, просматривает кипы моих бумаг. Она наверняка наткнулась бы на фотографию в рамочке: китобойное судно, раздавленное и застрявшее — быть может, навеки — в стеклянных антарктических льдах. Я вижу, как в легком замешательстве она смотрит на фото, раздумывая, что же за человек я был, и, возможно, находит меня не столь уж несимпатичным.
Но ее неизбежно заинтересует, почему мне вздумалось вставить в рамку столь странную картинку; потом, воображаю я, она задастся вопросом, не имеет ли фото коммерческой ценности. Потом я вижу, как она благодарит свою счастливую звезду за то, что не способна на такие чудачества, и… выбрасывает мою картинку в мусор. Но в этот краткий миг ее замешательства, в этот краткий миг перед тем, как она решает выкинуть фото… мне кажется, я мог бы почти влюбиться в Чарлин.
Именно эта мысль о любви и поддерживала меня долгое время после того, как, уйдя с работы, я превратился в «подвального человека» и не работал больше в офисах.
* * *
ПРЫЖОК ЗА БОРТ: пытаясь побороть свой страх перед будущим, человек с головой окунается в работу или образ жизни, далекий от всех его прежних устремлений: к примеру, начинает распространять таймшеры, увлекается аэробикой, вступает в республиканскую партию, делает карьеру в юриспруденции, уходит в секту или в макрабство…
