Страница:
— Человек влюбляется впервые только однажды, верно? — сказала Кэти.
— Ну, тебе-то по крайней мере повезло, — ответил я, — многие еще ждут своего шанса.
Кэти поболтала рукой в гладкой, как стекло, воде, по которой пробежала легкая рябь, бросила в нее пару камешков. Потом взяла мешочек, опустила под воду и прорезала в нем дырку своими острыми, покрытыми черным лаком ногтями.
— Пока-пока, рыбки, — сказала она, глядя, как те, томно поводя хвостами, ушли на глубину, — Дайте слово, что не расстанетесь. У вас только один шанс, другого не будет.

Донни был мелкий жулик, и жил он в конце коридора в крохотной комнатушке рядом с туалетом. Он был молод и приветлив и иногда приглашал меня пообедать, правда, обед обычно сводился к мороженому на палочке, покрытому голубой глазурью, плавленому сыру и пиву в его грязной каморке, краска на стенах которой облупилась, так что можно было видеть все предыдущие слои. Из бытовой техники в комнате был только телефон и автоответчик, чтобы записывать отклики на объявления, которые Донни давал в газету. Мне было страшно жаль его. И хоть сам я сидел на мели, время от времени я водил «то обедать в бистро.

Донни был готов делать что угодно и с кем угодно, правда, по большей части, как он сам говорил, людям не так-то много было и надо. Шестнадцатилетняя девчонка попросила его посидеть с ней голым в горячей ванне; какая-то деловая особа постарше, из яппи, заплатила ему двести пятьдесят долларов только за то, что он согласился посмотреть с ней вместе «Бэтмен возвращается». Донни говорил, что именно такие вещи заставляют его всерьез задумываться над человеческой природой, а вовсе не те клиенты, которые напяливают кожаные маски и норовят отбить тебе почки.
Каждый день с наступлением темноты, когда оконные стекла становились зеркальными, Донни выходил из ванной, встряхивая, как собака, своими короткими мокрыми черными волосами, спускался по скрипучей гостиничной лестнице и отправлялся на вечернее дело. Он говорил, что сам себя мыслит антрепренером; что уличные мальчишки прозвали его Путтано, или Потаскун; что все лучше, чем работа, которая была у него до этого, — водить автобус, курсировавший между аэропортом и одной из центральных гостиниц.
Как ни странно, у Донни был свой бухгалтер по имени Мейер, двухметроворостый обитатель первого этажа, питавший пагубное пристрастие к разного рода сборищам. Мейер уговаривал Донни подавать объявления типа: «Я расскажу вам свои сокровеннейшие фантазии… Пошлите почтовым переводом двадцать долларов на имя „крутой мужик", абонентский ящик…» Объявления помещались на тот случай, если налоговая инспекция решит прищучить Донни и ему придется отмывать свои деньги. Но куда там! Единственное, на что Донни мог бы, гипотетически, откладывать деньги, так это на осуществление своей мечты, о которой он упомянул один-единственный раз. Мечта состояла в том, чтобы «устроить большой солярий, где бы каждый лежак был подключен к компьютеру и чтобы маленькие девочки нажимали мне кнопки за три доллара двадцать пять центов в час».

Донни все время умудрялся где-нибудь напороться на нож. Кожа его напоминала старую кожаную кушетку в зале ожидания автовокзала, но его это нимало не беспокоило. Однажды вечером после танцулек в одном баре и уличной стычки между шайками Алексиса и Кристла Донни заявился домой украшенный каллиграфическими кровавыми надписями по всему животу. Я пробовал уговорить его пойти в больницу Св. Павла, где его могли бы зашить, но он отказался. Когда я спросил, не беспокоят ли его постоянные травмы, он тут же замкнулся и сдержанно ответил: «Это моя жизнь, мне и жить». Больше я к нему не приставал.
Собственно, Донни сам нарывался на поножовщину. Он утверждал, что удар ножом — вовсе не такое уж страшное дело, как может показаться, что, напротив, это довольно клево и что, когда это случается, «когда лезвие больно-больно входит в тебя, душа на секунду выпрыгивает из тела, как лосось из реки».
Однако хорошо помню, как он говорил мне, что ему поднадоело, что его то и дело пыряют. Он сказал, что великая цель, которую он ставит перед собой в конце пути, это получить пулю. Ему не терпелось узнать, что при этом чувствуешь. Чтобы облегчить задачу, он всегда ходил, как ходили в 1976-м, — грудь нараспашку.

Донни появился уже ближе к концу моего пребывания в этой гостинице, когда я раздумывал, скоро ли у меня кончатся силы, которые почти целиком уходили на то, чтобы совладать с одиночеством.
Мне кажется, человек тратит поразительное количество энергии, чтобы убедить себя в том, что Единственная Навеки не поджидает его за ближайшим углом. И я думаю, нам никогда не удается убедить себя в этом до конца. Я по себе знаю, как день ото дня все тяжелее выдерживать' позу эмоциональной самодостаточности, лежа на своей кровати или сидя за столом, наблюдая за чайками, которые выписывают замысловатые узоры в облаках над мостами, баюкая самое себя, дыша теплым, шоколадно-водочным перегаром на розу, которую нашел на углу улицы, стараясь заставить ее распуститься.
Время проходит; мы взрослеем, стареем. Прежде чем осознаешь это, глядишь, прошло уже слишком много времени и ты упустил случай позволить другому причинить тебе боль. Мне молодому это казалось счастьем; мне повзрослевшему это кажется тихой трагедией.

Случалось, Донни, Кэти и я, выбрав солнечный денек, просто слонялись по городу. Невинность этого занятия делала нашу жизнь чуть светлее. Мы покупали мороженое, Донни ходил на руках, а потом мы доводили до белого каления продавцов в секс-шопах, прося нам показать что покруче.
Как— то ранним вечером мы проходили мимо предсказателя -старого пьянчуги с седыми космами, который жалко сгорбился за карточным столиком, вцепившись в колоду карт таро, скорей всего подобранную на какой-нибудь помойке; рядом висел японский бумажный фонарик в виде сазана с горящей внутри свечой. Мы стали подначивать Донни узнать свою судьбу, но он заупрямился и наотрез отказался.
— Очень нужно, чтобы какой-то старый оборванец рассказывал мне про мое будущее. Живет небось в старом холодильнике под мостом Беррард. Сидит в своем холодильнике и цепляет малолетних теннисисток.
Настаивать мы не стали, а если предсказатель и слышал комментарии Донни, то виду не подал, и мы пошли дальше.
Всего несколько недель спустя я увидел, как Донни весело и охотно выслушивает все того же старика-предсказателя. Я подошел к нему:
— Привет, Старик! А я уж было решил, ты не хочешь знать свое будущее.
— Привет! — ответил Донни как ни в чем не бывало. — Видел вывеску? — И он указал на надпись, криво нацарапанную на куске картона рядом со свечой. Надпись гласила:
«ОБИЩАЮ НИ ГОВОРИТЬ ЧТО ВЫ УМРЕТЕ».
— Вот в чем вся штука, дружище. Вот что я все время хотел услышать. Продолжайте, мистер.

История эта не из долгих. В конце концов желание Донни исполнилось и его действительно застрелили — в самой что ни на есть дурацкой разборке из-за наркотиков на автостоянке в Китайском квартале, — две пули угодили в затылок и одна в спину. Мне пришлось опознавать тело, так как про его семью никто ничего не знал. Выходит, его лосось выскочил из реки на берег, а река так и течет себе дальше.
Вскоре я покинул гостиницу, а после этого очень скоро влюбился. Любовь была пугающим чувством и причиняла боль — не только пока длилась, но и потом, когда прошла. Но это уже другая история.
Я хотел бы влюбиться снова, надеюсь только, что это не будет случаться слишком часто. Не хотелось, чтобы это вошло в привычку — а то, чего доброго, потянет на что-нибудь еще похлеще — на что, я и сам не знаю.

Воскресный вечер, я сижу в гостиной, сгорбившись над кофейным столиком, голова в тумане, потому что я только что проснулся после глубокого-глубокого сна на кушетке, которую делил с коробками из-под пиццы и раздавленными пластмассовыми стаканчиками из-под вишневого йогурта. Передо мной — телевизор с выключенным звуком, по которому показывают какую-то викторину, лицо мое спрятано в ладонях, как будто я молюсь, но я не молюсь; я тру глаза, стараясь проснуться, волосы сметают со стола крошки, и я думаю про себя, что, несмотря на все случившееся в моей жизни, у меня никогда не проходило ощущение, что я нахожусь на пороге ;какого-то волшебного откровения, что если только я взгляну на мир пристальнее, то это волшебное откровение сразу придет ко мне, — если только удастся до конца проснуться, еще чуть-чуть и… впрочем, дайте-ка я сначала опишу, что случилось сегодня.

А сегодня начиналось так: проснулся я около полудня; выпил растворимого кофе; посмотрел ток-шоу, викторину, кусочек футбола, что-то религиозное, после чего выключил телевизор. Вяло побродил по дому, из одной притихшей комнаты в другую, покрутил колеса двух горных велосипедов, стоящих на распорках в коридоре, разобрал в гостиной груду дисков, склеившихся, залитых лимонадом. При этом мне казалось, что я действительно что-то делаю, но вообще-то это было не так.
Мои мозги перегрелись. Так много всего произошло в моей жизни за последнее время. После нескольких бесцельных часов я вынужден был признать, что больше ни минуты не могу выносить одиночество. И вот, смирив гордыню, я поехал к родителям, которые живут здесь же, на северном берегу, в гористой его части; вверх в гору, вверх — в лес, где стоит мой старый и, наверное, мой настоящий дом. Сегодня был первый день, когда стало окончательно ясно — лето кончилось. Холодный воздух искрился а гниющие кленовые листья испускали сильный запах словно снятые со сковородки блины.

Там, на горе, мама возилась на кухне, готовила бутерброды с мягким сыром, какие готовили в 1947-м, с перцем и без корочки, чтобы заморозить, а потом скормить партнерам по бриджу. Папа сидел за кухонным столом, читая «Ванкувер Сан». Конечно, они знали о недавних событиях и поэтому ходили вокруг меня только что не на цыпочках. От этого я почувствовал себя странно, будто меня рассматривают в микроскоп, пошел наверх, в гостевую комнату, и сел у окна, провожая взглядом крикливые клинья канадских гусей, летящих на юг, в сторону Соединенных Штатов, из северной части Британской Колумбии. Это было умиротворяющее зрелище — так много летящих птиц, так много тех, кто умеет летать.

Мама оставила телевизор включенным в спальне за стенкой. CNN сообщало, что Супермен обречен на этой неделе погибнуть в небе над Миннеаполисом, и это моментально вывело меня из себя. Я решил, что это наверняка совпадение, ведь всего месяц назад я был в Миннеаполисе по работе: новый город, весь из стекла, весь сияющий, как кристалл кварца посреди кукурузных полей Среднего Запада. Если верить телевизору, Супермену предстояло погибнуть в воздушной битве над городом — битве с какой-то чрезвычайно злой силой, и хотя я понимал, что это всего лишь дешевая рекламная уловка, чтобы продать побольше комиксов, — а я вот уже двадцать лет даже не читал комиксов о Супермене, — при мысли о предстоящем мне стало нехорошо.

Гуси пролетели, а я все сидел, глядя на голубой дымок, повисший над горными склонами, — на другом берегу реки Капилано жгли листья. Немного погодя я спустился вниз, и мы с папой посидели на кухне, возле раздвижной стеклянной двери, а потом покормили всякую живность на заднем дворе. У нас были зерно и кукуруза для летяг юнко и скворцов, жареные орехи для соек и черных и серых белок. Это было целое море жизни! И я был рад этому занятию, потому что есть что-то такое в животных, что помогает нам оторваться от самих себя, освободиться от времени, позволяет забыть о собственной жизни.
Папа положил початок на пень специально для соек, которые тут же затеяли вокруг него бесконечную перебранку. Еще мы бросали сойкам орехи, и я подметил, что когда бросаю одной птице сразу два ореха, то она сидит между ними, не в силах решить, какой аппетитнее, и жадность настолько парализует ее, что она не прикасается ни к одному. Мы бросали орехи и белкам тоже, а они такие дурехи, что даже когда я попадал им орехом по голове, они не могли его потом найти. Просто не представляю, как им удалось выжить за столько миллионов лет. Папа рассыпал по земле семечки для белки-летяги, которую прозвал Йо-йо и которая тоже живет на заднем дворе. Йо-йо спланировала вниз стремительно, как бильярдный шар.
Мама сказала, что люди интересуются птицами только постольку, поскольку те проявляют человеческие качества — жадность, глупость, сердитый нрав — и тем самым освобождают нас от печального груза нашей одинокой человечности. Она считает, что люди устали одни нести всю вину за пороки мира.
Я ответил маме, что у меня есть собственная теория насчет того, почему мы любим птиц: птицы — это чудо, потому что они доказывают нам, что существует более совершенный и простой способ бытия, которого мы можем попытаться достичь.
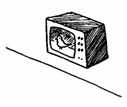
Но как бы там ни было, настроение у меня снова испортилось, и я почувствовал, что маме с папой не по себе, потому что они боятся, что я могу в любую минуту окончательно раскиснуть. Я заметил, как посветлели их лица, когда я смеялся над сойками, как будто я был болен и вдруг выздоровел; от этого на меня напало уныние, я почувствовал себя уродом, посмешищем и вернулся наверх, в комнату, где стоял телевизор, включил его и притаился. В голове вертелись мысли обо всех моих недавних неприятностях. А это, в'свою очередь, заставило меня вспомнить обо всем плохом, что я сделал людям в жизни, а плохого я сделал много. Мне стало стыдно; у меня было чувство, как будто все то хорошее, что я успел сделать, не имеет никакого смысла.
А по телевизору тоже показывали птиц! Такие славные, симпатичные создания, и я подумал — какие же мы счастливые, что у нас есть животные. Что за доброе дело сделали люди когда-то, чтобы заслужить от Бога такую милость?

Вот симпатичный серый длиннохвостый попугай, который научился распознавать человечьи вещи — предметы треугольной формы, ключи от Машины, синий цвет — и называть их словами. Этот длиннохвостый попугай столько трудился, чтобы запомнить эти вещи, и голос у него был похож на женский, далекий и деловитый, как у техасской телефонистки. Попугай заставил меня понять, как трудно научиться чему-либо в жизни, и даже тогда нет никакой гарантии, что твое умение тебе пригодится.

По другому каналу показывали зоопарк в Майами, штат Флорида, снесенный ураганом, уток и высоких изящных птиц, плававших среди развалин, вот только они не знали, что это развалины. Для них это был просто мир.
После этого в новостях повторили историю о гибели Супермена — только оказалось, что я перепутал город: предполагалось, что он погибнет над Метрополисом, а не Миннеаполисом. Но все равно это было грустно. Мне всегда нравилась мысль о Супермене, потому что мне всегда нравилась мысль о том, что в мире есть существо, которое не делает ничего плохого. И что в мире есть хоть один человек, способный летать.

Мне часто снятся сны, в которых я летаю, но совсем не так, как Супермен. Я просто вытягиваю руки вдоль тела и вроде как плыву. Стоит ли говорить, что это мой любимый сон.

А по телевизору уже показывали журавлей, исполнявших брачный танец: они были такие милые и грациозные, и я подумал: «Если бы только я мог стать журавлем и умел плавать и летать, как они, это было бы похоже на состояние постоянной влюбленности».

К тут мне стало так одиноко и так скверно от •сего дурного в моей жизни и вообще в мире, ч»о я сказал про себя: «Пожалуйста, Господи, преврати меня в птицу — это все, чего мне всегда по-настоящему хотелось, — белую грациозную птицу , не ведающую стыда, пороков и страха одиночества, и дай мне в спутники других белых птиц, с которыми я летал бы вместе, и еще дай мне небо, такое большое-пребольшое, чтобы я мог, если бы пожелал, никогда не опускаться на землю*.
Но вместо этого Господь дал мне эти слова, которые я здесь говорю.

А в виде заключения добавлю, что когда вечером я вернулся домой, то вошел в комнату и, стараясь ни на что не наступить, добрел до кушетки, свалился на нее и уснул, а потом мне приснился сон: мне снилось, что я снова в Миннеаполисе, снова рядом с кукурузными полями. Мне снилось, что я поднимаюсь в стеклянном лифте наверх, на самый верхний этаж одного из зеленых стеклянных небоскребов и, словно обезумев, мечусь по этому этажу из конца в конец, гляжу сквозь огромные стеклянные панели, пытаясь найти способ спасти Супермена.

Впервые я попал в ресторан «Макдональдс» дождливым субботним днем 6 ноября 1971 года. Отмечали десятый день рождения Брюса Лемке, а ресторан находился на углу Пембертон-авеню и Мэрин-драйв в Северном Ванкувере, Британская Колумбия. А назвать эту дату так точно я могу потому, что в тот же день и час на Амчитке, одном из Алеутских островов, было произведено ядерное испытание — боеголовка ракеты «Спарта» мощностью от четырех до пяти мегатонн была взорвана в полуторамильной вертикальной шахте, пробуренной на этом острове штата Аляска. Пресса подняла невероятный шум вокруг этого взрыва, так как он был приблизительно в четыре раза мощнее, чем все предшествовавшие подземные испытания.
Тогда все боялись, что взрыв может пробудить сейсмическую активность в районе Ванкувера и вызвать цепную реакцию, которая, в свою очередь, приведет в действие механизм чудовищных землетрясений. Торговый центр в Парк-Роял расколется напополам и заполыхает пожаром, кливлендская плотина в верховьях Капилано рухнет, затопив всех, кто случайно уцелеет при пожаре. Хлипкие консольные конструкции современных зданий с их «Кухнями завтрашнего дня» превратятся в груду мусора, который часов шесть спустя смоет поднявшееся цунами.

Помню, как я сидел на ярко-красном виниловом стуле, не в состоянии есть, то и дело глядя в окно в ожидании вспышки, в ожидании того, как машины начнут взлетать на воздух, как расплавится памятник Гамбургеру, как по плиточному полу побегут трещины и в них покажется лава.
Разумеется, ничего этого не случилось. Через полчаса мы уже ехали в фургоне миссис Лемке в киноцентр Парк-Рояла смотреть «Детей железной дороги». И все же в голове у меня установились мысленные связи — связи, которые трудно порвать даже сейчас, двадцать лет спустя: во-первых, что «Макдональдс» — это зло, а во-вторых, что техника — это не всегда показатель прогресса.

Второй эпизод, связанный с ядерным оружием, излюбленное семейное предание. Вечером 20 октября 1962 года моя мать пошла на танцы в офицерский клуб канадской военно-воздушной базы в Баден-Золингене, Западная Германия, месте, где я появился на свет. Мне 294 дня от роду. Отец мой по служебным делам находится в Швейцарии. В самый разгар танцев в зале появляется адъютант и начинает шептать что-то летчикам-истребителям. Через несколько минут летчиков как ветром сдувает с танцплощадки и переносит на взлетную полосу, где, забравшись в свои истребители и застегнув ремни, они заступают на круглосуточное дежурство, а сконфуженные дамы остаются в одиночестве в своих платьях от Диора в стиле «нью-лук». В растерянности они разбредаются обратно по своим квартирам для семейных — так называемым КС, — где расплачиваются с няньками и принимаются шарить по буфетам в поисках запасов сухого молока. Коротковолновые радиоприемники «Зенит» включены повсеместно и не выключаются трое суток подряд.
На следующий день закрылся военный магазин. Матери посменно присматривают за детьми, которые копаются в песочницах, и несут вахту у радиоприемников. Возможно, они даже спокойнее отнеслись к ситуации, чем жены гражданских мужей, окажись те на их месте. Офицерские жены уже пережили разные кризисы и тревоги, хотя такой серьезной еще не было. В 1962 году по всей Европе бушевали страхи. В стороне от автобана, меж тощих елок Шварцвальда, затаились тысячи закамуфлированных танков. Гул истребителей не смолкал над базой. Никогда железный занавес так не напоминал цистерну с бензином.
Кризис разрастается. Впервые женщин препроводили в «бункеры» — неиспользуемые хранилища для мебели с окнами на уровне первого этажа КС. Внутри — никакой мебели, еды, вообще ничего: нет пеленок, транквилизаторов, перевязочных материалов, даже чистой воды. Однако, как ни странно, в углу сложено шесть банок черной икры. В ответ на жалобы женщин начальство базы уведомляет их, что они, как небоеспособные единицы, никого не интересуют. «Вам следовало бы знать об этом, прежде чем отправляться вслед за своими мужьями за тридевять земель».
Женщины сидят в полутьме и под детский плач настраивают приемники. Женщины смотрят в небо, гадая, что их ждет. Наконец из «Зенита» доносятся успокоительные слова: «Судя по всему, советские корабли разворачиваются». Жизнь сдвигается с мертвой точки; как и время.
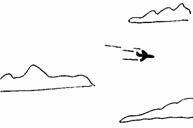
Разрозненные воспоминания: школа, выпускной класс — Западный Ванкувер, Британская Колумбия — склон горы, обращенный к городу Ванкуверу, урок физики, рев реактивного самолета в небе, невольно, украдкой поворачиваю голову, ожидая вспышки света, которая сокрушит город.

Мне восемь лет: сирены воют на углу Стивенс-драйв и Боннимьюир-драйв — учебная тревога гражданской обороны, — но все ведут себя так, будто ничего не слышат.

1970— е, фильмы-катастрофы: я впервые смотрю «Случай с „Посейдоном"» -первая картина, на которую я рискнул выбраться самостоятельно в один из центральных кинотеатров, «Орфей», чтобы увидеть, как мир переворачивается вверх тормашками. «Землетрясение», «Человек „Омега"», «Туманность Андромеды», «Увядшая листва», «Ад в поднебесье», «Молчаливый бег» — таких фильмов никто больше не ставит, потому что они слишком живо запечатлеваются у нас в памяти, и мы чувствуем себя последними обитателями миров, бесследно исчезнувших в пламени, разрушенных, обезлюдевших.

Лет десять назад в художественной школе я узнал, что лучше всего запомнить пейзаж можно так: на несколько секунд закрыть глаза, а затем моргнуть наоборот. То есть открыть глаза на один миг, чтобы картинка впечаталась в сетчатку. Этот способ лучше, чем долго всматриваться. Я упоминаю об этом потому, что здесь действует тот же самый принцип, что и когда мир озаряет вспышка ядерного взрыва.
Эта вспыхнувшая на миг картинка — повторяющийся мотив моих ежедневных мыслей и мира моих снов. В наиболее часто повторяющемся видении дело происходит в 70-е годы, я сижу на верхнем, двадцатом этаже бетонной многоэтажки в Западном Ванкувере, выходящей окнами на океан. Кто-то в комнате говорит: «Смотри-ка», — и я вижу, что солнце очень быстро увеличивается в размерах, как вдруг полыхнувшая оранжевым фольга резко раскрывшейся упаковки кукурузных хлопьев, как накаляющаяся спираль электрической плиты. И тут я просыпаюсь.

Еще одно повторяющееся видение: урок физкультуры на нашем школьном футбольном поле. Издали доносится рев, забытый мяч улетает в сторону, — вся команда подходит к проволочной изгороди и глядит сквозь нее на юг, далеко за горизонт, где в 110 милях от нас, как мы знаем, должен быть расположен Сиэтл. Вместо Сиэтла мы видим вздымающийся к небесам столб серой пыли и обломков, столб земли, с такой силой заброшенной в космос, что она уже никогда не опустится, — и земля становится небом.

Третье повторяющееся видение, очень простое: дом моих родителей, из выходящего на улицу окна гостиной, обрамленного ветвями и ягодами пироканта, я смотрю на растущий на лужайке перед домом клен; вспышка; я просыпаюсь.

Когда вы молоды, вы постоянно ожидаете конца света. Потом вы взрослеете, а мир, по-прежнему пыхтя, катится себе дальше, и вам приходится пересмотреть вашу позицию в отношении апокалипсиса, равно как и ваше отношение ко времени и смерти. Вы понимаете, что жизнь так или иначе будет продолжаться, с вами или без вас и мелькающих у вас в голове картинок. Поэтому вы переключаетесь на картинки.
— Ну, тебе-то по крайней мере повезло, — ответил я, — многие еще ждут своего шанса.
Кэти поболтала рукой в гладкой, как стекло, воде, по которой пробежала легкая рябь, бросила в нее пару камешков. Потом взяла мешочек, опустила под воду и прорезала в нем дырку своими острыми, покрытыми черным лаком ногтями.
— Пока-пока, рыбки, — сказала она, глядя, как те, томно поводя хвостами, ушли на глубину, — Дайте слово, что не расстанетесь. У вас только один шанс, другого не будет.
2. Донни

Донни был мелкий жулик, и жил он в конце коридора в крохотной комнатушке рядом с туалетом. Он был молод и приветлив и иногда приглашал меня пообедать, правда, обед обычно сводился к мороженому на палочке, покрытому голубой глазурью, плавленому сыру и пиву в его грязной каморке, краска на стенах которой облупилась, так что можно было видеть все предыдущие слои. Из бытовой техники в комнате был только телефон и автоответчик, чтобы записывать отклики на объявления, которые Донни давал в газету. Мне было страшно жаль его. И хоть сам я сидел на мели, время от времени я водил «то обедать в бистро.

Донни был готов делать что угодно и с кем угодно, правда, по большей части, как он сам говорил, людям не так-то много было и надо. Шестнадцатилетняя девчонка попросила его посидеть с ней голым в горячей ванне; какая-то деловая особа постарше, из яппи, заплатила ему двести пятьдесят долларов только за то, что он согласился посмотреть с ней вместе «Бэтмен возвращается». Донни говорил, что именно такие вещи заставляют его всерьез задумываться над человеческой природой, а вовсе не те клиенты, которые напяливают кожаные маски и норовят отбить тебе почки.
Каждый день с наступлением темноты, когда оконные стекла становились зеркальными, Донни выходил из ванной, встряхивая, как собака, своими короткими мокрыми черными волосами, спускался по скрипучей гостиничной лестнице и отправлялся на вечернее дело. Он говорил, что сам себя мыслит антрепренером; что уличные мальчишки прозвали его Путтано, или Потаскун; что все лучше, чем работа, которая была у него до этого, — водить автобус, курсировавший между аэропортом и одной из центральных гостиниц.
Как ни странно, у Донни был свой бухгалтер по имени Мейер, двухметроворостый обитатель первого этажа, питавший пагубное пристрастие к разного рода сборищам. Мейер уговаривал Донни подавать объявления типа: «Я расскажу вам свои сокровеннейшие фантазии… Пошлите почтовым переводом двадцать долларов на имя „крутой мужик", абонентский ящик…» Объявления помещались на тот случай, если налоговая инспекция решит прищучить Донни и ему придется отмывать свои деньги. Но куда там! Единственное, на что Донни мог бы, гипотетически, откладывать деньги, так это на осуществление своей мечты, о которой он упомянул один-единственный раз. Мечта состояла в том, чтобы «устроить большой солярий, где бы каждый лежак был подключен к компьютеру и чтобы маленькие девочки нажимали мне кнопки за три доллара двадцать пять центов в час».

Донни все время умудрялся где-нибудь напороться на нож. Кожа его напоминала старую кожаную кушетку в зале ожидания автовокзала, но его это нимало не беспокоило. Однажды вечером после танцулек в одном баре и уличной стычки между шайками Алексиса и Кристла Донни заявился домой украшенный каллиграфическими кровавыми надписями по всему животу. Я пробовал уговорить его пойти в больницу Св. Павла, где его могли бы зашить, но он отказался. Когда я спросил, не беспокоят ли его постоянные травмы, он тут же замкнулся и сдержанно ответил: «Это моя жизнь, мне и жить». Больше я к нему не приставал.
Собственно, Донни сам нарывался на поножовщину. Он утверждал, что удар ножом — вовсе не такое уж страшное дело, как может показаться, что, напротив, это довольно клево и что, когда это случается, «когда лезвие больно-больно входит в тебя, душа на секунду выпрыгивает из тела, как лосось из реки».
Однако хорошо помню, как он говорил мне, что ему поднадоело, что его то и дело пыряют. Он сказал, что великая цель, которую он ставит перед собой в конце пути, это получить пулю. Ему не терпелось узнать, что при этом чувствуешь. Чтобы облегчить задачу, он всегда ходил, как ходили в 1976-м, — грудь нараспашку.

Донни появился уже ближе к концу моего пребывания в этой гостинице, когда я раздумывал, скоро ли у меня кончатся силы, которые почти целиком уходили на то, чтобы совладать с одиночеством.
Мне кажется, человек тратит поразительное количество энергии, чтобы убедить себя в том, что Единственная Навеки не поджидает его за ближайшим углом. И я думаю, нам никогда не удается убедить себя в этом до конца. Я по себе знаю, как день ото дня все тяжелее выдерживать' позу эмоциональной самодостаточности, лежа на своей кровати или сидя за столом, наблюдая за чайками, которые выписывают замысловатые узоры в облаках над мостами, баюкая самое себя, дыша теплым, шоколадно-водочным перегаром на розу, которую нашел на углу улицы, стараясь заставить ее распуститься.
Время проходит; мы взрослеем, стареем. Прежде чем осознаешь это, глядишь, прошло уже слишком много времени и ты упустил случай позволить другому причинить тебе боль. Мне молодому это казалось счастьем; мне повзрослевшему это кажется тихой трагедией.

Случалось, Донни, Кэти и я, выбрав солнечный денек, просто слонялись по городу. Невинность этого занятия делала нашу жизнь чуть светлее. Мы покупали мороженое, Донни ходил на руках, а потом мы доводили до белого каления продавцов в секс-шопах, прося нам показать что покруче.
Как— то ранним вечером мы проходили мимо предсказателя -старого пьянчуги с седыми космами, который жалко сгорбился за карточным столиком, вцепившись в колоду карт таро, скорей всего подобранную на какой-нибудь помойке; рядом висел японский бумажный фонарик в виде сазана с горящей внутри свечой. Мы стали подначивать Донни узнать свою судьбу, но он заупрямился и наотрез отказался.
— Очень нужно, чтобы какой-то старый оборванец рассказывал мне про мое будущее. Живет небось в старом холодильнике под мостом Беррард. Сидит в своем холодильнике и цепляет малолетних теннисисток.
Настаивать мы не стали, а если предсказатель и слышал комментарии Донни, то виду не подал, и мы пошли дальше.
Всего несколько недель спустя я увидел, как Донни весело и охотно выслушивает все того же старика-предсказателя. Я подошел к нему:
— Привет, Старик! А я уж было решил, ты не хочешь знать свое будущее.
— Привет! — ответил Донни как ни в чем не бывало. — Видел вывеску? — И он указал на надпись, криво нацарапанную на куске картона рядом со свечой. Надпись гласила:
«ОБИЩАЮ НИ ГОВОРИТЬ ЧТО ВЫ УМРЕТЕ».
— Вот в чем вся штука, дружище. Вот что я все время хотел услышать. Продолжайте, мистер.

История эта не из долгих. В конце концов желание Донни исполнилось и его действительно застрелили — в самой что ни на есть дурацкой разборке из-за наркотиков на автостоянке в Китайском квартале, — две пули угодили в затылок и одна в спину. Мне пришлось опознавать тело, так как про его семью никто ничего не знал. Выходит, его лосось выскочил из реки на берег, а река так и течет себе дальше.
Вскоре я покинул гостиницу, а после этого очень скоро влюбился. Любовь была пугающим чувством и причиняла боль — не только пока длилась, но и потом, когда прошла. Но это уже другая история.
Я хотел бы влюбиться снова, надеюсь только, что это не будет случаться слишком часто. Не хотелось, чтобы это вошло в привычку — а то, чего доброго, потянет на что-нибудь еще похлеще — на что, я и сам не знаю.
Умеющие летать
Каждому, кому хоть раз
пришлось пережить
расставание

Воскресный вечер, я сижу в гостиной, сгорбившись над кофейным столиком, голова в тумане, потому что я только что проснулся после глубокого-глубокого сна на кушетке, которую делил с коробками из-под пиццы и раздавленными пластмассовыми стаканчиками из-под вишневого йогурта. Передо мной — телевизор с выключенным звуком, по которому показывают какую-то викторину, лицо мое спрятано в ладонях, как будто я молюсь, но я не молюсь; я тру глаза, стараясь проснуться, волосы сметают со стола крошки, и я думаю про себя, что, несмотря на все случившееся в моей жизни, у меня никогда не проходило ощущение, что я нахожусь на пороге ;какого-то волшебного откровения, что если только я взгляну на мир пристальнее, то это волшебное откровение сразу придет ко мне, — если только удастся до конца проснуться, еще чуть-чуть и… впрочем, дайте-ка я сначала опишу, что случилось сегодня.

А сегодня начиналось так: проснулся я около полудня; выпил растворимого кофе; посмотрел ток-шоу, викторину, кусочек футбола, что-то религиозное, после чего выключил телевизор. Вяло побродил по дому, из одной притихшей комнаты в другую, покрутил колеса двух горных велосипедов, стоящих на распорках в коридоре, разобрал в гостиной груду дисков, склеившихся, залитых лимонадом. При этом мне казалось, что я действительно что-то делаю, но вообще-то это было не так.
Мои мозги перегрелись. Так много всего произошло в моей жизни за последнее время. После нескольких бесцельных часов я вынужден был признать, что больше ни минуты не могу выносить одиночество. И вот, смирив гордыню, я поехал к родителям, которые живут здесь же, на северном берегу, в гористой его части; вверх в гору, вверх — в лес, где стоит мой старый и, наверное, мой настоящий дом. Сегодня был первый день, когда стало окончательно ясно — лето кончилось. Холодный воздух искрился а гниющие кленовые листья испускали сильный запах словно снятые со сковородки блины.

Там, на горе, мама возилась на кухне, готовила бутерброды с мягким сыром, какие готовили в 1947-м, с перцем и без корочки, чтобы заморозить, а потом скормить партнерам по бриджу. Папа сидел за кухонным столом, читая «Ванкувер Сан». Конечно, они знали о недавних событиях и поэтому ходили вокруг меня только что не на цыпочках. От этого я почувствовал себя странно, будто меня рассматривают в микроскоп, пошел наверх, в гостевую комнату, и сел у окна, провожая взглядом крикливые клинья канадских гусей, летящих на юг, в сторону Соединенных Штатов, из северной части Британской Колумбии. Это было умиротворяющее зрелище — так много летящих птиц, так много тех, кто умеет летать.

Мама оставила телевизор включенным в спальне за стенкой. CNN сообщало, что Супермен обречен на этой неделе погибнуть в небе над Миннеаполисом, и это моментально вывело меня из себя. Я решил, что это наверняка совпадение, ведь всего месяц назад я был в Миннеаполисе по работе: новый город, весь из стекла, весь сияющий, как кристалл кварца посреди кукурузных полей Среднего Запада. Если верить телевизору, Супермену предстояло погибнуть в воздушной битве над городом — битве с какой-то чрезвычайно злой силой, и хотя я понимал, что это всего лишь дешевая рекламная уловка, чтобы продать побольше комиксов, — а я вот уже двадцать лет даже не читал комиксов о Супермене, — при мысли о предстоящем мне стало нехорошо.

Гуси пролетели, а я все сидел, глядя на голубой дымок, повисший над горными склонами, — на другом берегу реки Капилано жгли листья. Немного погодя я спустился вниз, и мы с папой посидели на кухне, возле раздвижной стеклянной двери, а потом покормили всякую живность на заднем дворе. У нас были зерно и кукуруза для летяг юнко и скворцов, жареные орехи для соек и черных и серых белок. Это было целое море жизни! И я был рад этому занятию, потому что есть что-то такое в животных, что помогает нам оторваться от самих себя, освободиться от времени, позволяет забыть о собственной жизни.
Папа положил початок на пень специально для соек, которые тут же затеяли вокруг него бесконечную перебранку. Еще мы бросали сойкам орехи, и я подметил, что когда бросаю одной птице сразу два ореха, то она сидит между ними, не в силах решить, какой аппетитнее, и жадность настолько парализует ее, что она не прикасается ни к одному. Мы бросали орехи и белкам тоже, а они такие дурехи, что даже когда я попадал им орехом по голове, они не могли его потом найти. Просто не представляю, как им удалось выжить за столько миллионов лет. Папа рассыпал по земле семечки для белки-летяги, которую прозвал Йо-йо и которая тоже живет на заднем дворе. Йо-йо спланировала вниз стремительно, как бильярдный шар.
Мама сказала, что люди интересуются птицами только постольку, поскольку те проявляют человеческие качества — жадность, глупость, сердитый нрав — и тем самым освобождают нас от печального груза нашей одинокой человечности. Она считает, что люди устали одни нести всю вину за пороки мира.
Я ответил маме, что у меня есть собственная теория насчет того, почему мы любим птиц: птицы — это чудо, потому что они доказывают нам, что существует более совершенный и простой способ бытия, которого мы можем попытаться достичь.
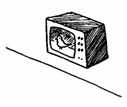
Но как бы там ни было, настроение у меня снова испортилось, и я почувствовал, что маме с папой не по себе, потому что они боятся, что я могу в любую минуту окончательно раскиснуть. Я заметил, как посветлели их лица, когда я смеялся над сойками, как будто я был болен и вдруг выздоровел; от этого на меня напало уныние, я почувствовал себя уродом, посмешищем и вернулся наверх, в комнату, где стоял телевизор, включил его и притаился. В голове вертелись мысли обо всех моих недавних неприятностях. А это, в'свою очередь, заставило меня вспомнить обо всем плохом, что я сделал людям в жизни, а плохого я сделал много. Мне стало стыдно; у меня было чувство, как будто все то хорошее, что я успел сделать, не имеет никакого смысла.
А по телевизору тоже показывали птиц! Такие славные, симпатичные создания, и я подумал — какие же мы счастливые, что у нас есть животные. Что за доброе дело сделали люди когда-то, чтобы заслужить от Бога такую милость?

Вот симпатичный серый длиннохвостый попугай, который научился распознавать человечьи вещи — предметы треугольной формы, ключи от Машины, синий цвет — и называть их словами. Этот длиннохвостый попугай столько трудился, чтобы запомнить эти вещи, и голос у него был похож на женский, далекий и деловитый, как у техасской телефонистки. Попугай заставил меня понять, как трудно научиться чему-либо в жизни, и даже тогда нет никакой гарантии, что твое умение тебе пригодится.

По другому каналу показывали зоопарк в Майами, штат Флорида, снесенный ураганом, уток и высоких изящных птиц, плававших среди развалин, вот только они не знали, что это развалины. Для них это был просто мир.
После этого в новостях повторили историю о гибели Супермена — только оказалось, что я перепутал город: предполагалось, что он погибнет над Метрополисом, а не Миннеаполисом. Но все равно это было грустно. Мне всегда нравилась мысль о Супермене, потому что мне всегда нравилась мысль о том, что в мире есть существо, которое не делает ничего плохого. И что в мире есть хоть один человек, способный летать.

Мне часто снятся сны, в которых я летаю, но совсем не так, как Супермен. Я просто вытягиваю руки вдоль тела и вроде как плыву. Стоит ли говорить, что это мой любимый сон.

А по телевизору уже показывали журавлей, исполнявших брачный танец: они были такие милые и грациозные, и я подумал: «Если бы только я мог стать журавлем и умел плавать и летать, как они, это было бы похоже на состояние постоянной влюбленности».

К тут мне стало так одиноко и так скверно от •сего дурного в моей жизни и вообще в мире, ч»о я сказал про себя: «Пожалуйста, Господи, преврати меня в птицу — это все, чего мне всегда по-настоящему хотелось, — белую грациозную птицу , не ведающую стыда, пороков и страха одиночества, и дай мне в спутники других белых птиц, с которыми я летал бы вместе, и еще дай мне небо, такое большое-пребольшое, чтобы я мог, если бы пожелал, никогда не опускаться на землю*.
Но вместо этого Господь дал мне эти слова, которые я здесь говорю.

А в виде заключения добавлю, что когда вечером я вернулся домой, то вошел в комнату и, стараясь ни на что не наступить, добрел до кушетки, свалился на нее и уснул, а потом мне приснился сон: мне снилось, что я снова в Миннеаполисе, снова рядом с кукурузными полями. Мне снилось, что я поднимаюсь в стеклянном лифте наверх, на самый верхний этаж одного из зеленых стеклянных небоскребов и, словно обезумев, мечусь по этому этажу из конца в конец, гляжу сквозь огромные стеклянные панели, пытаясь найти способ спасти Супермена.
Нe тo солнце
1 Думая о солнце

Впервые я попал в ресторан «Макдональдс» дождливым субботним днем 6 ноября 1971 года. Отмечали десятый день рождения Брюса Лемке, а ресторан находился на углу Пембертон-авеню и Мэрин-драйв в Северном Ванкувере, Британская Колумбия. А назвать эту дату так точно я могу потому, что в тот же день и час на Амчитке, одном из Алеутских островов, было произведено ядерное испытание — боеголовка ракеты «Спарта» мощностью от четырех до пяти мегатонн была взорвана в полуторамильной вертикальной шахте, пробуренной на этом острове штата Аляска. Пресса подняла невероятный шум вокруг этого взрыва, так как он был приблизительно в четыре раза мощнее, чем все предшествовавшие подземные испытания.
Тогда все боялись, что взрыв может пробудить сейсмическую активность в районе Ванкувера и вызвать цепную реакцию, которая, в свою очередь, приведет в действие механизм чудовищных землетрясений. Торговый центр в Парк-Роял расколется напополам и заполыхает пожаром, кливлендская плотина в верховьях Капилано рухнет, затопив всех, кто случайно уцелеет при пожаре. Хлипкие консольные конструкции современных зданий с их «Кухнями завтрашнего дня» превратятся в груду мусора, который часов шесть спустя смоет поднявшееся цунами.

Помню, как я сидел на ярко-красном виниловом стуле, не в состоянии есть, то и дело глядя в окно в ожидании вспышки, в ожидании того, как машины начнут взлетать на воздух, как расплавится памятник Гамбургеру, как по плиточному полу побегут трещины и в них покажется лава.
Разумеется, ничего этого не случилось. Через полчаса мы уже ехали в фургоне миссис Лемке в киноцентр Парк-Рояла смотреть «Детей железной дороги». И все же в голове у меня установились мысленные связи — связи, которые трудно порвать даже сейчас, двадцать лет спустя: во-первых, что «Макдональдс» — это зло, а во-вторых, что техника — это не всегда показатель прогресса.

Второй эпизод, связанный с ядерным оружием, излюбленное семейное предание. Вечером 20 октября 1962 года моя мать пошла на танцы в офицерский клуб канадской военно-воздушной базы в Баден-Золингене, Западная Германия, месте, где я появился на свет. Мне 294 дня от роду. Отец мой по служебным делам находится в Швейцарии. В самый разгар танцев в зале появляется адъютант и начинает шептать что-то летчикам-истребителям. Через несколько минут летчиков как ветром сдувает с танцплощадки и переносит на взлетную полосу, где, забравшись в свои истребители и застегнув ремни, они заступают на круглосуточное дежурство, а сконфуженные дамы остаются в одиночестве в своих платьях от Диора в стиле «нью-лук». В растерянности они разбредаются обратно по своим квартирам для семейных — так называемым КС, — где расплачиваются с няньками и принимаются шарить по буфетам в поисках запасов сухого молока. Коротковолновые радиоприемники «Зенит» включены повсеместно и не выключаются трое суток подряд.
На следующий день закрылся военный магазин. Матери посменно присматривают за детьми, которые копаются в песочницах, и несут вахту у радиоприемников. Возможно, они даже спокойнее отнеслись к ситуации, чем жены гражданских мужей, окажись те на их месте. Офицерские жены уже пережили разные кризисы и тревоги, хотя такой серьезной еще не было. В 1962 году по всей Европе бушевали страхи. В стороне от автобана, меж тощих елок Шварцвальда, затаились тысячи закамуфлированных танков. Гул истребителей не смолкал над базой. Никогда железный занавес так не напоминал цистерну с бензином.
Кризис разрастается. Впервые женщин препроводили в «бункеры» — неиспользуемые хранилища для мебели с окнами на уровне первого этажа КС. Внутри — никакой мебели, еды, вообще ничего: нет пеленок, транквилизаторов, перевязочных материалов, даже чистой воды. Однако, как ни странно, в углу сложено шесть банок черной икры. В ответ на жалобы женщин начальство базы уведомляет их, что они, как небоеспособные единицы, никого не интересуют. «Вам следовало бы знать об этом, прежде чем отправляться вслед за своими мужьями за тридевять земель».
Женщины сидят в полутьме и под детский плач настраивают приемники. Женщины смотрят в небо, гадая, что их ждет. Наконец из «Зенита» доносятся успокоительные слова: «Судя по всему, советские корабли разворачиваются». Жизнь сдвигается с мертвой точки; как и время.
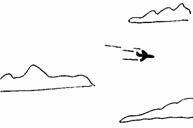
Разрозненные воспоминания: школа, выпускной класс — Западный Ванкувер, Британская Колумбия — склон горы, обращенный к городу Ванкуверу, урок физики, рев реактивного самолета в небе, невольно, украдкой поворачиваю голову, ожидая вспышки света, которая сокрушит город.

Мне восемь лет: сирены воют на углу Стивенс-драйв и Боннимьюир-драйв — учебная тревога гражданской обороны, — но все ведут себя так, будто ничего не слышат.

1970— е, фильмы-катастрофы: я впервые смотрю «Случай с „Посейдоном"» -первая картина, на которую я рискнул выбраться самостоятельно в один из центральных кинотеатров, «Орфей», чтобы увидеть, как мир переворачивается вверх тормашками. «Землетрясение», «Человек „Омега"», «Туманность Андромеды», «Увядшая листва», «Ад в поднебесье», «Молчаливый бег» — таких фильмов никто больше не ставит, потому что они слишком живо запечатлеваются у нас в памяти, и мы чувствуем себя последними обитателями миров, бесследно исчезнувших в пламени, разрушенных, обезлюдевших.

Лет десять назад в художественной школе я узнал, что лучше всего запомнить пейзаж можно так: на несколько секунд закрыть глаза, а затем моргнуть наоборот. То есть открыть глаза на один миг, чтобы картинка впечаталась в сетчатку. Этот способ лучше, чем долго всматриваться. Я упоминаю об этом потому, что здесь действует тот же самый принцип, что и когда мир озаряет вспышка ядерного взрыва.
Эта вспыхнувшая на миг картинка — повторяющийся мотив моих ежедневных мыслей и мира моих снов. В наиболее часто повторяющемся видении дело происходит в 70-е годы, я сижу на верхнем, двадцатом этаже бетонной многоэтажки в Западном Ванкувере, выходящей окнами на океан. Кто-то в комнате говорит: «Смотри-ка», — и я вижу, что солнце очень быстро увеличивается в размерах, как вдруг полыхнувшая оранжевым фольга резко раскрывшейся упаковки кукурузных хлопьев, как накаляющаяся спираль электрической плиты. И тут я просыпаюсь.

Еще одно повторяющееся видение: урок физкультуры на нашем школьном футбольном поле. Издали доносится рев, забытый мяч улетает в сторону, — вся команда подходит к проволочной изгороди и глядит сквозь нее на юг, далеко за горизонт, где в 110 милях от нас, как мы знаем, должен быть расположен Сиэтл. Вместо Сиэтла мы видим вздымающийся к небесам столб серой пыли и обломков, столб земли, с такой силой заброшенной в космос, что она уже никогда не опустится, — и земля становится небом.

Третье повторяющееся видение, очень простое: дом моих родителей, из выходящего на улицу окна гостиной, обрамленного ветвями и ягодами пироканта, я смотрю на растущий на лужайке перед домом клен; вспышка; я просыпаюсь.

Когда вы молоды, вы постоянно ожидаете конца света. Потом вы взрослеете, а мир, по-прежнему пыхтя, катится себе дальше, и вам приходится пересмотреть вашу позицию в отношении апокалипсиса, равно как и ваше отношение ко времени и смерти. Вы понимаете, что жизнь так или иначе будет продолжаться, с вами или без вас и мелькающих у вас в голове картинок. Поэтому вы переключаетесь на картинки.
