Страница:
Думаю, Лори нравилась мысль о полном преображении, которое претерпела Патти Херст, став на какое-то время Таней и ограбив несколько банков. Полагаю, Лори чувствовала необратимые перемены, происходившие в ней самой, и решила, что история Патти отвечает этим внутренним переменам. Их биографии тоже были в чем-то схожи. Семьи у нас были большие, а родной городок Патти Херст во многом напоминал наш — целиком погруженный в мечты о единении с природой и техногенной элегантности, о гипсовых арках и рододендронах, о домах будущего с плексигласовыми крышами, оборудованными электрическими мангалами с системой вентиляции, и о благонамеренных проектах социального благоустройства.

Оставив позади Уистлер, я продолжал ехать под дождем, размышляя над тем — по мере приближения предстоящей встречи, — что именно я собираюсь сказать или сделать, если действительно обнаружу свою сестру. За прошедшие годы во сне и наяву я прокрутил про себя столько возможных вариантов разговора, что в действительности разговор мог либо вовсе не сложиться, либо оказаться очередным сном. Обе перспективы выглядели равно непривлекательно.
Что она сделает? Улыбнется? Встретит меня с каменным лицом? Огрызнется? Уйдет? Дотронемся ли мы друг до дружки? Годы напролет я снова и снова прокручивал сценарии встречи, и вот теперь, когда появилась такая возможность, я никак не мог сообразить, что мне говорить, что делать.

Патти Херст была не единственной навязчивой идеей Лори. Следом за ней шла одежда, становившаяся все более и более причудливой после окончания школы, — это был магазин дешевого платья, но только очень дешевого: разномастные наслоения потертых уродливых одеяний — броские, безнадежно безобразные цветастые рубашки с короткими рукавами — навыпуск поверх армейских брюк цвета хаки — нечто безумное, этакая дешевая краля. И родители терпели все это, наряды Лори с каждым разом становились все более вызывающими, сама она — все более грязной и неухоженной, ее поведение — все более невменяемым, когда она в очередной раз возвращалась домой после неудачного романа, скандала с соседкой по комнате, таскавшей ее вещи, или еще почему. Однако они мирились со всем.
В жизни родителей не было ничего такого, что могло бы подготовить их к выходкам Лори. Они не укладывались ни в какие рамки, поэтому их предпочитали не замечать и не упоминать о них. Даже когда Лори замахивалась на родителей, воровала у них деньги, разбила их «олдсмобиль»,даже когда возле дома появлялась конная полиция, ведя Пори, всю в слезах. Ничто из этого обсуждению не подлежало.
Я выставляю Лори в ужасном свете. А сам, наверное, кажусь этаким пай-мальчиком — но дело не в этом. Суть в том, что она была намного старше меня и поэтому всегда как бы окружена ореолом недосягаемости. Эти несколько лет разницы делали ее непознаваемой.

И вот почему Лори особенно отдалилась от меня: однажды мы смотрели по телевизору какую-то передачу про экстрасенсов. Лори было, наверное, лет двадцать, и она казалась прежней Лори. Если ей удавалось вести себя прилично хотя бы полчаса, то все мы, вся семья, готовы были поверить, что прежняя Лори вернулась и что все снова будет замечательно. Наивняк да и только.
Так или иначе Лори повернулась ко мне и сказала: «Луи, попробуй стать экстрасенсом. Угадай, о чем я сейчас думаю». Я посмотрел на нее и не успел даже глазом моргнуть — ответ моментально мелькнул у меня в голове — это был Питер Яяй, парень, который всегда замыкал список абонентов в телефонной книге Ванкувера. «О Питере Яяйе», — сказал я.
Лори взбеленилась. «Как ты узнал? — завопила она. — Как ты узнал? Говори!» Но я-то, конечно, как мог знать, откуда я узнал — это было в чистом виде совпадение, повторить я бы не смог. Но не важно. Все равно после этого Лори неизменно обращалась ко мне с непроницаемым лицом, мы никогда больше не говорили по душам, и она даже перестала называть меня Луи. Признаться, тогда это не очень-то меня расстроило, потому что, честно говоря, нам всем к тому времени изрядно поднадоели причуды Лори, а я был в выпускном классе и не возражал, чтобы и мне уделяли хоть малую толику внимания.
В последующие годы Лори начала систематически придираться ко всем членам семьи и к своим друзьям, отыскивая малейшие следы пренебрежения, реального или воображаемого, потом раздувала это пренебрежение до немыслимых размеров и навсегда порывала с человеком. В скором времени она обрубила все связи между собой и окружающими, последней оказалась наша мать.
А потом она попросту… исчезла, растворилась. И никто не знал, где ее искать. В Сиэтле? В Финиксе? В Торонто? Никаких прощальных сцен. Ничего определенного. Просто растворилась в воздухе пять лет назад. Папа нанял частных детективов, но им мало что удалось сыскать — самый свежий след был трехмесячной давности где-то в штате Вашингтон, — но мы по крайней мере знали, что Лори жива. С этого времени она стала чем-то вроде семейного призрака, о котором никогда не упоминали, словно взяли и вычеркнули, как будто она никогда и не существовала. Нет, конечно, ее присутствие ощущается — на семейных обедах, свадьбах и так далее. Но особенно рождественским утром, когда ее тень витает по двору под окнами, насмешливая, неуловимая, — над лужайкой и между деревьями в лесу вспыхивают огоньки, слышится почти неслышный шелест, которые и есть Лори, — мы все знаем это, хотя и не осмеливаемся об этом упоминать.

Я остановился перед продуктовым магазином в Нестере, в нескольких милях от Уистлер-Виллидж, и очень быстро получил ответ на свой вопрос. Даже снаружи я смог разглядеть за витриной женщину, похожую на Лори, которая складывала жестяные банки покупателю в пакет.
Я тупо сидел, не в состоянии пошевелиться, глядя на силуэт Лори, размытый дождем снаружи и запотевшими изнутри стеклами.
Рядом с машиной я заметил телефонную будку. Я решил, что подойду поближе и загляну сквозь витрину. Если это Лори, я позвоню Бренту или другой своей сестре, Уэнди, и мы решим, что делать дальше. С дрожащими руками, прерывисто дыша, я выбрался из машины, не замечая дождя, подошел к витрине и внимательно посмотрел на женщину за прилавком. Но это была не Лори. Очень похожа, но не она. Долго еще простоял я, глядя на эту женщину, оказавшуюся не моей сестрой, а потом вернулся в машину.

Я наскоро перекусил в дорогом французском ресторане, который был открыт в центре курорта. Выпил немного вина, а когда вышел, дождь уже переходил в снег; выехав из Уистлера, я по петляющей дороге покатил обратно в город. Обогреватель в машине сломался, и возвращение получилось жалким — медлительным, промозглым и тоскливым. Я действительно ждал, что найду Лори, и теперь, когда этого не случилось, ощущение… неразрешенности ситуации было безмерным.

Я призадумался. И вот о чем: я думал о том, что всякий день каждый из нас переживает несколько кратких мгновений, которые отзываются в нас чуть сильнее, чем другие, — это может быть слово, застрявшее в памяти, или какое-то незначительное переживание, которое, пусть ненадолго, заставляет нас выглянуть из своей скорлупы, — допустим, когда мы едем в гостиничном лифте с невестой в подвенечном наряде, или когда незнакомый человек дает нам кусок хлеба, чтобы мы покормили плавающих в лагуне диких уток, или когда какой-нибудь малыш заводит с нами разговор в «Молочном Королевстве», или когда происходит случай вроде того, с машинами, похожими на сахарные драже, на бензозаправке в Хаски.
И если бы мы собрали эти краткие мгновения в записную книжку и взглянули на них через несколько месяцев, то увидели бы, что в нашей коллекции намечаются некие закономерности — раздаются какие-то голоса, которые стараются зазвучать нашей речью. Мы поняли бы, что живем совершенно другой жизнью, о которой даже не подозревали. И возможно, эта другая жизнь более важна, чем та, что мы считали реальной, — дурацкий будничный мир, меблированный, душный и пахнущий железом. Так что, может быть, именно из этих кратких безмолвных мгновений и состоит подлинная цепочка событий — история нашей жизни.
Я отвлекаюсь. Я — человек; я — в ловушке у времени. Я просто не могу поверить, что история Лори обрывается — что она никогда не закончится — что я никогда не узнаю ее конца и что то последнее краткое мгновение, которое связывает все воедино, никогда не наступит. Я думаю о ней так часто — думаю, счастлива ли она или страдает. Я гадаю, какого у нее сейчас цвета волосы, — о чем она разговаривает с друзьями, которыми обзавелась заново, — влюблялась ли она за это время, и даже о том, что она ест на завтрак. Обо всем.
Мне хочется сказать ей, что она добрая. Хочется сказать, что она хорошая. Сказать, что Бог тоже добрый и что нас окружает красота — и что мир познаваем. Мне хочется, чтобы она пришла навестить меня.

Возле Сквомиш по-прежнему горел огонь и шел дождь — дождь, который никогда не прекратится, огонь, который никогда не погаснет. Такой жаркий огонь, что забываешь о дожде. Я думал о первопроходцах, которые явились сюда задолго до меня, открыли этот мир, который и по сей день сохраняет свою новизну, — как они прокладывали железные дороги по дну девственных каньонов; перекидывали мосты через реки, текущие из неведомых истоков; противостояли лесным пожарам, неподвижно лежа в болотах и дыша дымным воздухом через полые тростинки.
Я дошел под дождем по дороге до закрытой заправочной станции и позвонил домой из автомата. Мне удалось застать Брента. Я рассказал ему о своих неудачных поисках Лори. Наверное, голос мой звучал измученным, упавшим и грустным.
Брент ответил, что тоже постоянно думает о Лори. «Знаешь, — сказал он, — мне часто снится, что мы друзья, как раньше. Может быть, это все, что нам дано. Я научился обходиться этим».
Я согласился и про себя подумал, каким удивительным убежищем могут служить сны.
Брент сказал: «Вот ведь — человек все время пытается разобраться в своих снах. И мне пришло в голову: почему бы не попробовать что-нибудь другое? Почему бы не толковать свою повседневную жизнь так, словно она — это сон, а не наоборот? Скажи себе: „Вон самолет летит — что это значит?" Скажи себе: „В последнее время так дождливо — что это значит?" Скажи себе: „Сегодня я решил, что нашел Лори, но оказалось, что это не она, — что это значит?" Мне кажется, так легче жить. Нет, правда».

Я вернулся к огню, но подошел слишком близко, в волосы мне залетела искра, подожгла прядь, и запахло паленым. Этот запах напомнил мне о временах, когда Лори нарочно подожгла себе брови одноразовой зажигалкой, сидя за обеденным столом, незадолго до своего исчезновения.
Чего только нет в памяти: помню, как я смотрел один старый фильм, в котором во время войны над городом распылили усыпляющий газ. Когда люди проснулись, война уже кончилась. Иногда мне кажется, что стоит проснуться, и Лори окажется рядом, такая же, как всегда, и ничего из того, что случилось, не случится.
Порой, как я уже говорил, мне тоже снятся сны, в которых Лори в точности такая же, как прежде, мы по-дружески болтаем, и она меня смешит. Я знаю, что это всего лишь сон о дружбе, а не настоящая дружба, — но все равно люблю эти сны.
Два дня назад мне приснился пес Уолтер, он бродил по моему дому, стуча когтями, в поисках поживы, язык благодушно высовывался из пасти, а славная черная морда умильно светилась. А вчера мне приснилось, что я чуть не погиб, — я плыл сквозь лесные чащи водораздела за домом, в котором вырос, между высокими, как небо, деревьями, мимо буйной растительности, соображая, удастся ли мне выжить, если я остался совсем один в лесу и вынужден буду питаться только лесной пищей. А под конец я словно всплыл в мир лужаек и домов — своего дома.

Иногда я думаю — а что, если Лори умерла. Мне кажется, что смерть — это не просто когда человек умирает. Мне кажется, смерть — это потеря, которую уже никогда не воротишь, слова, которые уже никогда не возьмешь назад, урон, который уже никогда не поправишь. Это отрицание всякой надежды на любовь в будущем. Может быть, Лори и умерла, но не для меня. Я просто не верю в это.
Я начал эту историю, рассказывая о последовательности жизненных событий, и полагаю, что лучше всего будет ее закончить тоже рассказом о последовательности. На ум мне приходят три эпизода из жизни Лори, вот я и расскажу о них здесь. А поскольку эпизоды эти относятся к прошлому, а не к будущему, — что ж, это не значит, что история не может заканчиваться ими.

Первый случай такой: одно из моих первых воспоминаний относится к тому, как мы с Лори наткнулись на старушку, заблудившуюся на углу Кенвуд-роуд и Саусборо-драйв. Она все твердила, что только что была у своего врача и забыла у него в кабинете сумку с продуктами. Мы растерялись, потому что знали, что кроме жилых домов и пустырей вокруг на много миль ничего нет.
Мы отвели старушку к себе домой, и мама сразу поняла, что у нее старческое слабоумие, и позвонила куда следует. Лори сидела со старушкой на заднем дворе и держала ее за руку, пока не приехала «скорая».

Второй случай такой: однажды Лори ужасно понравилась история о принцессе, которая жила в замке. И вот она все время зазывала Брента, Уэнди и меня — разыгрывать эту историю в лесу за домом. Дело происходило следующим образом: жившая в башне замка принцесса влюбилась в странствующего принца из дальних стран. Ее отец, король, страшно разгневался. Он сговорился с ведьмой, которая приготовила для него напиток забвения. Король поднялся в башню к дочери и заставил ее выпить колдовской напиток. Он велел стражникам держать дочь за руки, пока сам силой вливал ей в рот злое зелье. Как только принцесса проглотила напиток, стражники отпустили ее. Но едва они отступили от нее, принцесса бросилась к окну, выпрыгнула из него и разбилась насмерть, прежде чем напиток успел овладеть ее душой, прежде чем забыть свою любовь.

Последний случай был такой: когда мы подросли — Брент, Лори и я, — мы завели у себя канадских гусей. Лори таскала яйца из гнезд по берегам прудов на поле для гольфа; в обклеенной фольгой коробке из-под виски «Джонни Уокер» мы устроили инкубатор, подогреваемый сорокаваттной лампочкой, и дважды в день переворачивали яйца, пока птенцы не проклевывались — событие, сопровождавшееся чудным писком, который звучал еще несколько упоительных месяцев, пока не перерастал в клики взрослых гусей.
Гуси — замечательные домашние питомцы — любопытные, ласковые, преданные и ужасно сообразительные. И такие потешные в придачу. Они сидели рядом с нами на лужайке, пощипывая траву, пока мы Читали дешевые книжки в мягких обложках и поглаживали нежный серый пух у них на грудках. Очень часто они вытягивали свои все более длинные шеи, чтобы ущипнуть нас за уши и издать неокрепший подростковый крик в ненасытной жажде внимания.
Это были наши летние друзья: они ковыляли за нами во время наших прогулок по окрестностям, дудели наподобие автомобильных рожков, шипели на кошек и шустро сбегались к нам со всех сторон, стоило нам остановиться хоть на минутку. В непогожие дни они сидели в доме, как на насесте, на стуле перед пианино, а потом стремглав бросались обратно во двор и к пруду, оставляя за собой след травянистого помета. Столько труда, но и столько удовольствия!
Как бы там ни было, про канадских гусей можно с полным правом утверждать одно: они помнят вас ровно год и один день. Иначе говоря, каким бы космополитичным ни было их воспитание, все гуси неизбежно возвращаются в природу и забывают о семье, в которой они выросли; это печальная правда, которая окрашивает ваши отношения с ними. Но, как я уже сказал, они действительно помнят вас год и один день — на один день в году они возвращаются домой, только однажды.
Обычно это случается очень рано, на заре, когда вы еще глубоко спите. Вас будит знакомый звук — гусиный клич, — и вот вы всей семьей, все с заспанными глазами, бросаетесь во двор. Вы оглядываете пруд и лужайку и нигде не находите ни единого следа ваших старых друзей. Тогда вы смотрите вверх, на крышу — на самый ее конек. Там устроились ваши старые друзья, стоя на самой верхотуре, пухлые, как индейки, которых подают к столу в День Благодарения, счастливые, они трубят в трубы, извлекая их радостные звуки из глубины своих сердец, — давая вам знать, всего один раз, пока вы снизу машете им, что их любовь к вам сильнее тех сил мироздания, которые разделяют вас, которые стирают лучшее, что в вас есть, — память о былом.
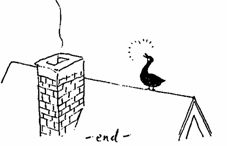

Как все дети из пригородов, мы купались по вечерам в плавательных бассейнах, вода в которых была теплой, как кровь; в бассейнах такого же цвета, как Земля, если глядеть на нее из Космоса. Мы купались нагишом — сорвиголова Стейси с длинными соломенными волосами, точь-в-точь Барби из Малибу; молчаливый силач Марк; Кристи, вся в веснушках, рыжая и строчившая шутками как из пулемета; Джули — глас разума со «среднестатистическими пропорциями»; медово-бронзовый лодырь Дана, у которого все тело было сплошь покрыто загаром и водились подозрительно большие деньги, и, наконец, Тодд, скромник, всегда раздевавшийся последним, но даже и тогда стаскивавший плавки под водой. Мы плавали вот так, нагишом, — воображая себя эмбрионами, зародышами, и молчание наше нарушало только глухое урчанье водяного фильтра. В головах не было никаких мыслей, мы плавали в теплых водах с закрытыми глазами, и различие между нашими телами и нашими умами окончательно стиралось — промытое хлоркой и высвеченное беспримесно синим светом прожекторов, установленных под трамплинами. Иногда мы брались за руки, образуя круг, как астронавты в открытом космосе; иногда, разобщенные в своем эмбриональном оцепенении, мы сталкивались друг с другом в глубоком конце бассейна, как близнецы, не знающие даже, с кем им приходится делить утробу.
Потом мы насухо вытирались и ехали в машинах по дорогам, как резьба покрывавшим горы, на которых мы жили, — сквозь перелески, мимо участков, от бассейна к бассейну, от дома к дому, вверх по Сипресс-Боул, вниз к «Парк-Роял» и через мост Лайонс-Гейт, — причем само по себе бесконечное движение заменяло любую другую, более протяженную форму мысли. Мы включали радио, эфир был переполнен песнями о любви и рок-музыкой; мы верили рок-музыке, но, думается мне, не верили песням о любви — что тогда, что сейчас. Мы обитали в раю, поэтому любая дискуссия на трансцендентальные темы становилась бессмысленной. Политика, как нам казалось, существовала где-то в отелевизионенном зарайске; смерть была чем-то вроде переработки вторсырья.
Жизнь была чарующей, но только без политики и религии. Это была жизнь детей потомков первопроходцев — жизнь после Бога — жизнь, в которой спасение можно было обрести и на Земле, находящейся на краю небес. Наверное, это лучшее, на что мы может надеяться, — мирная жизнь, стирающая границы между реальной жизнью и жизнью сна, — и все же, говоря это, я не перестаю сомневаться.
Думаю, что в какой-то момент все же наступила расплата. Думаю, ценой, которую мы заплатили за нашу золотую жизнь, стала неспособность окончательно поверить в любовь; вместо этого мы приобрели иронию, от которой увядало все, чего бы мы ни коснулись. И мне кажется, что ирония и есть та цена, которую мы заплатили за потерю Бога.
Но тут я вспоминаю о том, что мы все же живые существа и у нас бывают — должны быть — религиозные порывы, но только в какие же расселины и щели утекают эти порывы в мире без религии? Я думаю об этом каждый день. Иногда я думаю, что это — единственное, о чем мне вообще следует думать.

От прошлого июля историю с плавательными бассейнами отделяют полтора десятка лет. Именно в июле мой доктор прописал мне маленькие желтые таблетки. Сейчас на дворе январь.
Я переживал один из самых тяжелых периодов в своей жизни — по большей части это выражалось в депрессии и тревоге — не то чтобы мне просто «было грустно». Это было нечто большее. Никакая милая чепуха, вроде дружеских объятий или связки серебристых воздушных шаров, не могла излечить от приступов, снедавших меня на протяжении нескольких предыдущих лет. Маленькие треугольные пилюли доктора Уоткина цвета детского куриного пюре существенно притупили мои ощущения — а мне только того и было надо.
Доктор Уоткин заверил меня, что эти таблетки чрезвычайно распространены и что большинству людей рано или поздно приходится к ним прибегать, — и я должен признать, что они сделали мой характер менее колючим. К тому же я стал намного более «симпатичным» человеком (многие из моих друзей и домочадцев не преминули отметить это). В виде дополнительного преимущества я стал работать более эффективно, словом, превратился в более производительного члена общества. Полагаю, это было нечто вроде пластической операции на мозге.

Что ж, о таблетках можно говорить долго. Но, может быть, вам тоже случалось принимать таблетки, и, может быть, когда вы делали это, то в самой глубине души не знали, зачем делаете это, просто вы были довольны, что таблетки существуют и что их можно принимать. Нечто подобное произошло и со мной.
Я рассказываю вам все это, сидя на земле в лесной чаще острова Ванкувер, в моей старой бойскаутской палатке, не использовавшейся многие десятки лет. От ее клеенчатого пола слегка воняет холодильником, забитым просроченным йогуртом; руки мои прижимают к груди последнюю пачку сигарет; я сижу в пиджаке, галстуке и, чтобы согреться, кутаюсь в старое серое армейское одеяло. Я стараюсь, чтобы сигареты не отсырели, потому что дождь то и дело заливает внутрь. Спускается ночь.
И как вы, возможно, догадались, одновременно происходят и другие вещи, о которых я здесь не говорю, потому что никак не могу собраться с духом. Пожалуйста, потерпите немного, не отвлекайтесь, — и я постараюсь рассказать вам еще.

Пожалуй, я расскажу вам о том, как странствовали по жизни с тех пор мои приятели-эмбрионы — какими странными путями шла их жизнь. И хотя мы разошлись по тысяче разных тропинок, чтобы достичь своего, наши жизни, как ни странно, закончились в одном и том же несуществующем месте.
Ну, во— первых, о Марке -силаче Марке, человеке, который, стоило ему захотеть, мог стереть вас в порошок, — два года назад ему поставили диагноз ВИЧ. Чувствует он себя пока вполне прилично — по-прежнему работает брокером в центре города, — но по очевидным причинам больше думает о Последних Вещах, чем большинство людей. Дождливыми вечерами мы устраиваем ретро-коктейли («Формула Один», «Сингапурский Слинг») в баре отеля «Сильвия», окна которого выходят на Английскую бухту.
Он рассматривает свою ситуацию своеобразно. «Если серьезно вдуматься, старик, — говорит он, — наши тела и сами не знают, где они начинаются и где заканчиваются. Иммунная система не столько поддерживает твое здоровье, сколько очерчивает границы твоего тела. Теперь сквозь меня словно просверлили дырку, и мое тело запуталось, оно не знает, где я начинаюсь и где заканчиваюсь, и то, что снаружи, свободно просачивается внутрь. Представь себе швейцарский сыр: если дырки в нем станут слишком большими, то он перестанет быть швейцарским сыром — он попросту станет… ничем. Похоже, со мной происходит то же самое. Я становлюсь ничем. И да, это страшно».
Наши разговоры никогда не получаются легкими, но по мере того, как я — мы — становимся старше и старее, мы все понимаем, что наши разговоры неизбежны. Мы горим желанием поделиться с другими своими чувствами. После определенного возраста искренность перестает отдавать порнографией. Как будто прохладца, которой была отмечена наша юность, это нечто вроде ретровируса, который в конечном счете опустошает тебя. Делает дырчатым.

В другой вечер, за другими коктейлями, но все в том же баре «Сильвия», Стейси, ныне разведенная, тренер по аэробике и ассистентка адвоката, говорит мне:
— Нас научили верить, что наш мир лишен волшебства только потому, что он наш. Почему нам внушили, что волшебство — это нечто, что происходит не с нами, а где-то и с кем-то за тридевять земель? Почему они не могли просто сказать: «Ребята, все хорошо таким, какое оно есть. Так что впитывайте его каждой клеткой, пока можете».
На этом она допивает вторую порцию клюквенного мартини («Крантини»). Стейси спилась. И еще взгляд у нее тяжелый, как у людей, которые балуются кокаином. Это печалит меня, потому что она по-прежнему красавица и я люблю ее больше, чем большинство прочих людей в моей жизни. Но я знаю, что единственный путь, на котором она может прикоснуться к волшебству, лежит через бутылку.

Оставив позади Уистлер, я продолжал ехать под дождем, размышляя над тем — по мере приближения предстоящей встречи, — что именно я собираюсь сказать или сделать, если действительно обнаружу свою сестру. За прошедшие годы во сне и наяву я прокрутил про себя столько возможных вариантов разговора, что в действительности разговор мог либо вовсе не сложиться, либо оказаться очередным сном. Обе перспективы выглядели равно непривлекательно.
Что она сделает? Улыбнется? Встретит меня с каменным лицом? Огрызнется? Уйдет? Дотронемся ли мы друг до дружки? Годы напролет я снова и снова прокручивал сценарии встречи, и вот теперь, когда появилась такая возможность, я никак не мог сообразить, что мне говорить, что делать.

Патти Херст была не единственной навязчивой идеей Лори. Следом за ней шла одежда, становившаяся все более и более причудливой после окончания школы, — это был магазин дешевого платья, но только очень дешевого: разномастные наслоения потертых уродливых одеяний — броские, безнадежно безобразные цветастые рубашки с короткими рукавами — навыпуск поверх армейских брюк цвета хаки — нечто безумное, этакая дешевая краля. И родители терпели все это, наряды Лори с каждым разом становились все более вызывающими, сама она — все более грязной и неухоженной, ее поведение — все более невменяемым, когда она в очередной раз возвращалась домой после неудачного романа, скандала с соседкой по комнате, таскавшей ее вещи, или еще почему. Однако они мирились со всем.
В жизни родителей не было ничего такого, что могло бы подготовить их к выходкам Лори. Они не укладывались ни в какие рамки, поэтому их предпочитали не замечать и не упоминать о них. Даже когда Лори замахивалась на родителей, воровала у них деньги, разбила их «олдсмобиль»,даже когда возле дома появлялась конная полиция, ведя Пори, всю в слезах. Ничто из этого обсуждению не подлежало.
Я выставляю Лори в ужасном свете. А сам, наверное, кажусь этаким пай-мальчиком — но дело не в этом. Суть в том, что она была намного старше меня и поэтому всегда как бы окружена ореолом недосягаемости. Эти несколько лет разницы делали ее непознаваемой.

И вот почему Лори особенно отдалилась от меня: однажды мы смотрели по телевизору какую-то передачу про экстрасенсов. Лори было, наверное, лет двадцать, и она казалась прежней Лори. Если ей удавалось вести себя прилично хотя бы полчаса, то все мы, вся семья, готовы были поверить, что прежняя Лори вернулась и что все снова будет замечательно. Наивняк да и только.
Так или иначе Лори повернулась ко мне и сказала: «Луи, попробуй стать экстрасенсом. Угадай, о чем я сейчас думаю». Я посмотрел на нее и не успел даже глазом моргнуть — ответ моментально мелькнул у меня в голове — это был Питер Яяй, парень, который всегда замыкал список абонентов в телефонной книге Ванкувера. «О Питере Яяйе», — сказал я.
Лори взбеленилась. «Как ты узнал? — завопила она. — Как ты узнал? Говори!» Но я-то, конечно, как мог знать, откуда я узнал — это было в чистом виде совпадение, повторить я бы не смог. Но не важно. Все равно после этого Лори неизменно обращалась ко мне с непроницаемым лицом, мы никогда больше не говорили по душам, и она даже перестала называть меня Луи. Признаться, тогда это не очень-то меня расстроило, потому что, честно говоря, нам всем к тому времени изрядно поднадоели причуды Лори, а я был в выпускном классе и не возражал, чтобы и мне уделяли хоть малую толику внимания.
В последующие годы Лори начала систематически придираться ко всем членам семьи и к своим друзьям, отыскивая малейшие следы пренебрежения, реального или воображаемого, потом раздувала это пренебрежение до немыслимых размеров и навсегда порывала с человеком. В скором времени она обрубила все связи между собой и окружающими, последней оказалась наша мать.
А потом она попросту… исчезла, растворилась. И никто не знал, где ее искать. В Сиэтле? В Финиксе? В Торонто? Никаких прощальных сцен. Ничего определенного. Просто растворилась в воздухе пять лет назад. Папа нанял частных детективов, но им мало что удалось сыскать — самый свежий след был трехмесячной давности где-то в штате Вашингтон, — но мы по крайней мере знали, что Лори жива. С этого времени она стала чем-то вроде семейного призрака, о котором никогда не упоминали, словно взяли и вычеркнули, как будто она никогда и не существовала. Нет, конечно, ее присутствие ощущается — на семейных обедах, свадьбах и так далее. Но особенно рождественским утром, когда ее тень витает по двору под окнами, насмешливая, неуловимая, — над лужайкой и между деревьями в лесу вспыхивают огоньки, слышится почти неслышный шелест, которые и есть Лори, — мы все знаем это, хотя и не осмеливаемся об этом упоминать.

Я остановился перед продуктовым магазином в Нестере, в нескольких милях от Уистлер-Виллидж, и очень быстро получил ответ на свой вопрос. Даже снаружи я смог разглядеть за витриной женщину, похожую на Лори, которая складывала жестяные банки покупателю в пакет.
Я тупо сидел, не в состоянии пошевелиться, глядя на силуэт Лори, размытый дождем снаружи и запотевшими изнутри стеклами.
Рядом с машиной я заметил телефонную будку. Я решил, что подойду поближе и загляну сквозь витрину. Если это Лори, я позвоню Бренту или другой своей сестре, Уэнди, и мы решим, что делать дальше. С дрожащими руками, прерывисто дыша, я выбрался из машины, не замечая дождя, подошел к витрине и внимательно посмотрел на женщину за прилавком. Но это была не Лори. Очень похожа, но не она. Долго еще простоял я, глядя на эту женщину, оказавшуюся не моей сестрой, а потом вернулся в машину.

Я наскоро перекусил в дорогом французском ресторане, который был открыт в центре курорта. Выпил немного вина, а когда вышел, дождь уже переходил в снег; выехав из Уистлера, я по петляющей дороге покатил обратно в город. Обогреватель в машине сломался, и возвращение получилось жалким — медлительным, промозглым и тоскливым. Я действительно ждал, что найду Лори, и теперь, когда этого не случилось, ощущение… неразрешенности ситуации было безмерным.

Я призадумался. И вот о чем: я думал о том, что всякий день каждый из нас переживает несколько кратких мгновений, которые отзываются в нас чуть сильнее, чем другие, — это может быть слово, застрявшее в памяти, или какое-то незначительное переживание, которое, пусть ненадолго, заставляет нас выглянуть из своей скорлупы, — допустим, когда мы едем в гостиничном лифте с невестой в подвенечном наряде, или когда незнакомый человек дает нам кусок хлеба, чтобы мы покормили плавающих в лагуне диких уток, или когда какой-нибудь малыш заводит с нами разговор в «Молочном Королевстве», или когда происходит случай вроде того, с машинами, похожими на сахарные драже, на бензозаправке в Хаски.
И если бы мы собрали эти краткие мгновения в записную книжку и взглянули на них через несколько месяцев, то увидели бы, что в нашей коллекции намечаются некие закономерности — раздаются какие-то голоса, которые стараются зазвучать нашей речью. Мы поняли бы, что живем совершенно другой жизнью, о которой даже не подозревали. И возможно, эта другая жизнь более важна, чем та, что мы считали реальной, — дурацкий будничный мир, меблированный, душный и пахнущий железом. Так что, может быть, именно из этих кратких безмолвных мгновений и состоит подлинная цепочка событий — история нашей жизни.
Я отвлекаюсь. Я — человек; я — в ловушке у времени. Я просто не могу поверить, что история Лори обрывается — что она никогда не закончится — что я никогда не узнаю ее конца и что то последнее краткое мгновение, которое связывает все воедино, никогда не наступит. Я думаю о ней так часто — думаю, счастлива ли она или страдает. Я гадаю, какого у нее сейчас цвета волосы, — о чем она разговаривает с друзьями, которыми обзавелась заново, — влюблялась ли она за это время, и даже о том, что она ест на завтрак. Обо всем.
Мне хочется сказать ей, что она добрая. Хочется сказать, что она хорошая. Сказать, что Бог тоже добрый и что нас окружает красота — и что мир познаваем. Мне хочется, чтобы она пришла навестить меня.

Возле Сквомиш по-прежнему горел огонь и шел дождь — дождь, который никогда не прекратится, огонь, который никогда не погаснет. Такой жаркий огонь, что забываешь о дожде. Я думал о первопроходцах, которые явились сюда задолго до меня, открыли этот мир, который и по сей день сохраняет свою новизну, — как они прокладывали железные дороги по дну девственных каньонов; перекидывали мосты через реки, текущие из неведомых истоков; противостояли лесным пожарам, неподвижно лежа в болотах и дыша дымным воздухом через полые тростинки.
Я дошел под дождем по дороге до закрытой заправочной станции и позвонил домой из автомата. Мне удалось застать Брента. Я рассказал ему о своих неудачных поисках Лори. Наверное, голос мой звучал измученным, упавшим и грустным.
Брент ответил, что тоже постоянно думает о Лори. «Знаешь, — сказал он, — мне часто снится, что мы друзья, как раньше. Может быть, это все, что нам дано. Я научился обходиться этим».
Я согласился и про себя подумал, каким удивительным убежищем могут служить сны.
Брент сказал: «Вот ведь — человек все время пытается разобраться в своих снах. И мне пришло в голову: почему бы не попробовать что-нибудь другое? Почему бы не толковать свою повседневную жизнь так, словно она — это сон, а не наоборот? Скажи себе: „Вон самолет летит — что это значит?" Скажи себе: „В последнее время так дождливо — что это значит?" Скажи себе: „Сегодня я решил, что нашел Лори, но оказалось, что это не она, — что это значит?" Мне кажется, так легче жить. Нет, правда».

Я вернулся к огню, но подошел слишком близко, в волосы мне залетела искра, подожгла прядь, и запахло паленым. Этот запах напомнил мне о временах, когда Лори нарочно подожгла себе брови одноразовой зажигалкой, сидя за обеденным столом, незадолго до своего исчезновения.
Чего только нет в памяти: помню, как я смотрел один старый фильм, в котором во время войны над городом распылили усыпляющий газ. Когда люди проснулись, война уже кончилась. Иногда мне кажется, что стоит проснуться, и Лори окажется рядом, такая же, как всегда, и ничего из того, что случилось, не случится.
Порой, как я уже говорил, мне тоже снятся сны, в которых Лори в точности такая же, как прежде, мы по-дружески болтаем, и она меня смешит. Я знаю, что это всего лишь сон о дружбе, а не настоящая дружба, — но все равно люблю эти сны.
Два дня назад мне приснился пес Уолтер, он бродил по моему дому, стуча когтями, в поисках поживы, язык благодушно высовывался из пасти, а славная черная морда умильно светилась. А вчера мне приснилось, что я чуть не погиб, — я плыл сквозь лесные чащи водораздела за домом, в котором вырос, между высокими, как небо, деревьями, мимо буйной растительности, соображая, удастся ли мне выжить, если я остался совсем один в лесу и вынужден буду питаться только лесной пищей. А под конец я словно всплыл в мир лужаек и домов — своего дома.

Иногда я думаю — а что, если Лори умерла. Мне кажется, что смерть — это не просто когда человек умирает. Мне кажется, смерть — это потеря, которую уже никогда не воротишь, слова, которые уже никогда не возьмешь назад, урон, который уже никогда не поправишь. Это отрицание всякой надежды на любовь в будущем. Может быть, Лори и умерла, но не для меня. Я просто не верю в это.
Я начал эту историю, рассказывая о последовательности жизненных событий, и полагаю, что лучше всего будет ее закончить тоже рассказом о последовательности. На ум мне приходят три эпизода из жизни Лори, вот я и расскажу о них здесь. А поскольку эпизоды эти относятся к прошлому, а не к будущему, — что ж, это не значит, что история не может заканчиваться ими.

Первый случай такой: одно из моих первых воспоминаний относится к тому, как мы с Лори наткнулись на старушку, заблудившуюся на углу Кенвуд-роуд и Саусборо-драйв. Она все твердила, что только что была у своего врача и забыла у него в кабинете сумку с продуктами. Мы растерялись, потому что знали, что кроме жилых домов и пустырей вокруг на много миль ничего нет.
Мы отвели старушку к себе домой, и мама сразу поняла, что у нее старческое слабоумие, и позвонила куда следует. Лори сидела со старушкой на заднем дворе и держала ее за руку, пока не приехала «скорая».

Второй случай такой: однажды Лори ужасно понравилась история о принцессе, которая жила в замке. И вот она все время зазывала Брента, Уэнди и меня — разыгрывать эту историю в лесу за домом. Дело происходило следующим образом: жившая в башне замка принцесса влюбилась в странствующего принца из дальних стран. Ее отец, король, страшно разгневался. Он сговорился с ведьмой, которая приготовила для него напиток забвения. Король поднялся в башню к дочери и заставил ее выпить колдовской напиток. Он велел стражникам держать дочь за руки, пока сам силой вливал ей в рот злое зелье. Как только принцесса проглотила напиток, стражники отпустили ее. Но едва они отступили от нее, принцесса бросилась к окну, выпрыгнула из него и разбилась насмерть, прежде чем напиток успел овладеть ее душой, прежде чем забыть свою любовь.

Последний случай был такой: когда мы подросли — Брент, Лори и я, — мы завели у себя канадских гусей. Лори таскала яйца из гнезд по берегам прудов на поле для гольфа; в обклеенной фольгой коробке из-под виски «Джонни Уокер» мы устроили инкубатор, подогреваемый сорокаваттной лампочкой, и дважды в день переворачивали яйца, пока птенцы не проклевывались — событие, сопровождавшееся чудным писком, который звучал еще несколько упоительных месяцев, пока не перерастал в клики взрослых гусей.
Гуси — замечательные домашние питомцы — любопытные, ласковые, преданные и ужасно сообразительные. И такие потешные в придачу. Они сидели рядом с нами на лужайке, пощипывая траву, пока мы Читали дешевые книжки в мягких обложках и поглаживали нежный серый пух у них на грудках. Очень часто они вытягивали свои все более длинные шеи, чтобы ущипнуть нас за уши и издать неокрепший подростковый крик в ненасытной жажде внимания.
Это были наши летние друзья: они ковыляли за нами во время наших прогулок по окрестностям, дудели наподобие автомобильных рожков, шипели на кошек и шустро сбегались к нам со всех сторон, стоило нам остановиться хоть на минутку. В непогожие дни они сидели в доме, как на насесте, на стуле перед пианино, а потом стремглав бросались обратно во двор и к пруду, оставляя за собой след травянистого помета. Столько труда, но и столько удовольствия!
Как бы там ни было, про канадских гусей можно с полным правом утверждать одно: они помнят вас ровно год и один день. Иначе говоря, каким бы космополитичным ни было их воспитание, все гуси неизбежно возвращаются в природу и забывают о семье, в которой они выросли; это печальная правда, которая окрашивает ваши отношения с ними. Но, как я уже сказал, они действительно помнят вас год и один день — на один день в году они возвращаются домой, только однажды.
Обычно это случается очень рано, на заре, когда вы еще глубоко спите. Вас будит знакомый звук — гусиный клич, — и вот вы всей семьей, все с заспанными глазами, бросаетесь во двор. Вы оглядываете пруд и лужайку и нигде не находите ни единого следа ваших старых друзей. Тогда вы смотрите вверх, на крышу — на самый ее конек. Там устроились ваши старые друзья, стоя на самой верхотуре, пухлые, как индейки, которых подают к столу в День Благодарения, счастливые, они трубят в трубы, извлекая их радостные звуки из глубины своих сердец, — давая вам знать, всего один раз, пока вы снизу машете им, что их любовь к вам сильнее тех сил мироздания, которые разделяют вас, которые стирают лучшее, что в вас есть, — память о былом.
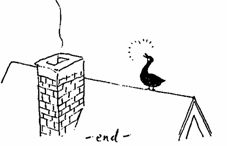
Тысяча лет (Жизнь после Бога)

Как все дети из пригородов, мы купались по вечерам в плавательных бассейнах, вода в которых была теплой, как кровь; в бассейнах такого же цвета, как Земля, если глядеть на нее из Космоса. Мы купались нагишом — сорвиголова Стейси с длинными соломенными волосами, точь-в-точь Барби из Малибу; молчаливый силач Марк; Кристи, вся в веснушках, рыжая и строчившая шутками как из пулемета; Джули — глас разума со «среднестатистическими пропорциями»; медово-бронзовый лодырь Дана, у которого все тело было сплошь покрыто загаром и водились подозрительно большие деньги, и, наконец, Тодд, скромник, всегда раздевавшийся последним, но даже и тогда стаскивавший плавки под водой. Мы плавали вот так, нагишом, — воображая себя эмбрионами, зародышами, и молчание наше нарушало только глухое урчанье водяного фильтра. В головах не было никаких мыслей, мы плавали в теплых водах с закрытыми глазами, и различие между нашими телами и нашими умами окончательно стиралось — промытое хлоркой и высвеченное беспримесно синим светом прожекторов, установленных под трамплинами. Иногда мы брались за руки, образуя круг, как астронавты в открытом космосе; иногда, разобщенные в своем эмбриональном оцепенении, мы сталкивались друг с другом в глубоком конце бассейна, как близнецы, не знающие даже, с кем им приходится делить утробу.
Потом мы насухо вытирались и ехали в машинах по дорогам, как резьба покрывавшим горы, на которых мы жили, — сквозь перелески, мимо участков, от бассейна к бассейну, от дома к дому, вверх по Сипресс-Боул, вниз к «Парк-Роял» и через мост Лайонс-Гейт, — причем само по себе бесконечное движение заменяло любую другую, более протяженную форму мысли. Мы включали радио, эфир был переполнен песнями о любви и рок-музыкой; мы верили рок-музыке, но, думается мне, не верили песням о любви — что тогда, что сейчас. Мы обитали в раю, поэтому любая дискуссия на трансцендентальные темы становилась бессмысленной. Политика, как нам казалось, существовала где-то в отелевизионенном зарайске; смерть была чем-то вроде переработки вторсырья.
Жизнь была чарующей, но только без политики и религии. Это была жизнь детей потомков первопроходцев — жизнь после Бога — жизнь, в которой спасение можно было обрести и на Земле, находящейся на краю небес. Наверное, это лучшее, на что мы может надеяться, — мирная жизнь, стирающая границы между реальной жизнью и жизнью сна, — и все же, говоря это, я не перестаю сомневаться.
Думаю, что в какой-то момент все же наступила расплата. Думаю, ценой, которую мы заплатили за нашу золотую жизнь, стала неспособность окончательно поверить в любовь; вместо этого мы приобрели иронию, от которой увядало все, чего бы мы ни коснулись. И мне кажется, что ирония и есть та цена, которую мы заплатили за потерю Бога.
Но тут я вспоминаю о том, что мы все же живые существа и у нас бывают — должны быть — религиозные порывы, но только в какие же расселины и щели утекают эти порывы в мире без религии? Я думаю об этом каждый день. Иногда я думаю, что это — единственное, о чем мне вообще следует думать.

От прошлого июля историю с плавательными бассейнами отделяют полтора десятка лет. Именно в июле мой доктор прописал мне маленькие желтые таблетки. Сейчас на дворе январь.
Я переживал один из самых тяжелых периодов в своей жизни — по большей части это выражалось в депрессии и тревоге — не то чтобы мне просто «было грустно». Это было нечто большее. Никакая милая чепуха, вроде дружеских объятий или связки серебристых воздушных шаров, не могла излечить от приступов, снедавших меня на протяжении нескольких предыдущих лет. Маленькие треугольные пилюли доктора Уоткина цвета детского куриного пюре существенно притупили мои ощущения — а мне только того и было надо.
Доктор Уоткин заверил меня, что эти таблетки чрезвычайно распространены и что большинству людей рано или поздно приходится к ним прибегать, — и я должен признать, что они сделали мой характер менее колючим. К тому же я стал намного более «симпатичным» человеком (многие из моих друзей и домочадцев не преминули отметить это). В виде дополнительного преимущества я стал работать более эффективно, словом, превратился в более производительного члена общества. Полагаю, это было нечто вроде пластической операции на мозге.

Что ж, о таблетках можно говорить долго. Но, может быть, вам тоже случалось принимать таблетки, и, может быть, когда вы делали это, то в самой глубине души не знали, зачем делаете это, просто вы были довольны, что таблетки существуют и что их можно принимать. Нечто подобное произошло и со мной.
Я рассказываю вам все это, сидя на земле в лесной чаще острова Ванкувер, в моей старой бойскаутской палатке, не использовавшейся многие десятки лет. От ее клеенчатого пола слегка воняет холодильником, забитым просроченным йогуртом; руки мои прижимают к груди последнюю пачку сигарет; я сижу в пиджаке, галстуке и, чтобы согреться, кутаюсь в старое серое армейское одеяло. Я стараюсь, чтобы сигареты не отсырели, потому что дождь то и дело заливает внутрь. Спускается ночь.
И как вы, возможно, догадались, одновременно происходят и другие вещи, о которых я здесь не говорю, потому что никак не могу собраться с духом. Пожалуйста, потерпите немного, не отвлекайтесь, — и я постараюсь рассказать вам еще.

Пожалуй, я расскажу вам о том, как странствовали по жизни с тех пор мои приятели-эмбрионы — какими странными путями шла их жизнь. И хотя мы разошлись по тысяче разных тропинок, чтобы достичь своего, наши жизни, как ни странно, закончились в одном и том же несуществующем месте.
Ну, во— первых, о Марке -силаче Марке, человеке, который, стоило ему захотеть, мог стереть вас в порошок, — два года назад ему поставили диагноз ВИЧ. Чувствует он себя пока вполне прилично — по-прежнему работает брокером в центре города, — но по очевидным причинам больше думает о Последних Вещах, чем большинство людей. Дождливыми вечерами мы устраиваем ретро-коктейли («Формула Один», «Сингапурский Слинг») в баре отеля «Сильвия», окна которого выходят на Английскую бухту.
Он рассматривает свою ситуацию своеобразно. «Если серьезно вдуматься, старик, — говорит он, — наши тела и сами не знают, где они начинаются и где заканчиваются. Иммунная система не столько поддерживает твое здоровье, сколько очерчивает границы твоего тела. Теперь сквозь меня словно просверлили дырку, и мое тело запуталось, оно не знает, где я начинаюсь и где заканчиваюсь, и то, что снаружи, свободно просачивается внутрь. Представь себе швейцарский сыр: если дырки в нем станут слишком большими, то он перестанет быть швейцарским сыром — он попросту станет… ничем. Похоже, со мной происходит то же самое. Я становлюсь ничем. И да, это страшно».
Наши разговоры никогда не получаются легкими, но по мере того, как я — мы — становимся старше и старее, мы все понимаем, что наши разговоры неизбежны. Мы горим желанием поделиться с другими своими чувствами. После определенного возраста искренность перестает отдавать порнографией. Как будто прохладца, которой была отмечена наша юность, это нечто вроде ретровируса, который в конечном счете опустошает тебя. Делает дырчатым.

В другой вечер, за другими коктейлями, но все в том же баре «Сильвия», Стейси, ныне разведенная, тренер по аэробике и ассистентка адвоката, говорит мне:
— Нас научили верить, что наш мир лишен волшебства только потому, что он наш. Почему нам внушили, что волшебство — это нечто, что происходит не с нами, а где-то и с кем-то за тридевять земель? Почему они не могли просто сказать: «Ребята, все хорошо таким, какое оно есть. Так что впитывайте его каждой клеткой, пока можете».
На этом она допивает вторую порцию клюквенного мартини («Крантини»). Стейси спилась. И еще взгляд у нее тяжелый, как у людей, которые балуются кокаином. Это печалит меня, потому что она по-прежнему красавица и я люблю ее больше, чем большинство прочих людей в моей жизни. Но я знаю, что единственный путь, на котором она может прикоснуться к волшебству, лежит через бутылку.
