Страница:
Ягич рассмеялась весело, звонко — так она еще не смеялась здесь, в палате.
— Альберт, но вы зря негодуете: у вас в физике все проще, а в медицине чересчур много неясного, и спасение человека еще достаточно часто представляется настоящим чудом.
— Да, это так, — задумчиво произнес Альберт, — иногда мне даже кажется, что состязание физики с биологией и медициной Зенон предвосхитил в апории «Ахиллес и черепаха». Поразительно, но до сих пор не решена проблема биологической совместимости. Человек, мозг вселенной, довольствуется полимерными эрзацами, потому что бессилен воспроизвести даже элементарный акт регенерации конечности, который ежедневно на его глазах проделывают миллионы ящериц. Но о чем это я, если он не умеет пересадить даже готовую, данную ему самой природой, человеческую руку или человеческую ногу! Нет, ведь это чудовищно: как щедра природа и как беспомощен человек!
Распалясь, Альберт внезапно сделал попытку приподняться, и, не будь рядом доктора, это вряд ли кончилось бы добром. Ягич, однако, успела прижать его к койке, и все обошлось лишь тремя сломанными электродами. Но горячность, с которой Альберт обрушился на медицину и медиков, оставила у нее тягостную и ноющую, как давняя рана, тревогу. И дело было вовсе не в уязвленной профессиональной гордости: медики лучше других знали истинную цену всемогуществу медицины, хотя и уподоблялись зачастую матери, которая считает себя вправе говорить какую угодно правду о своем чаде, но за другими признает это право скрепя сердце.
Нет, профессиональная гордость, честь мундира были здесь ни при ием: почти с прежней силой на Ягич хлынули сомнения, и весь день она провела в томительном ожидании разговора с Валком. И то, что прежде ей казалось совершенно безупречным, — консультации с шефом в заранее установленные часы, — теперь почему-то вызывало раздражение и представлялось неуместным педантизмом. В конце концов, убеждала она себя, необычные ситуации самой своей сутью исключают предварительное распределение времени.
В семнадцать пятнадцать профессор Ввлк принял своего ординатора. Ягич не скрывала дурного настроения, но Валк был невозмутим. И эта невозмутимость его подстегнула недовольство Ягич. Но, самое удивительное, как ни горячилась она, профессор только кивал утвердительно головой и время от времени похлопывал стол ладонью. А затем, когда она кончила свое темпераментное донесение — это он, шеф, назвал так ее информацию, — ей было предложено сделать небольшой экскурс в историю медицины. Экскурс оказался самым элементарным, и мораль из него — откровенно азбучной: врач — не пациент, терпение для врача — не добродетель, а долг.
— А проще говоря, — подвел итоги Валк, — научитесь ждать и не убаюкивайте себя собственным благородством: когда ВАМ не терпится — это ВАМ не терпится, и забота о пациенте здесь — банальный камуфляж.
— Но, профессор, — чуть не взмолилась Ягич, — вы бы видели своего сына, когда он негодовал на медиков и медицину!
— У него есть право на это, — с неожиданной сухостью, как о постороннем, произнес Валк. — Его мать умерла, и единственное, что могла сделать медицина, — объяснить и засвидетельствовать факт ее смерти. Кстати, я рассказывал вам однажды об этом, заботясь не только о вашем потревоженном любопытстве. Я надеялся, что многое в поведении Альберта прояснится для вас.
— Значит, вы исключаете догадку Альберта об истинном положении?
— Да, исключаю. И давайте с дами договоримся раз и навсегда: мой сын принимает правду в ее натуральных красках и требует того же от других.
Вся следующая неделя сполна подтвердила правоту Валка; Альберт ни о чем не догадывался и точно так, как с неделю назад он расправился с медициной, теперь он разделывал физику и физиков, которые через сто лет после смерти Эйнштейна едва-едва набрели на общую теорию поля. Притом разделывал тем яростнее, чем лучше себя чувствовал и чем упорнее думал о застое в собственных исследованиях.
О странных музыкальных своих наваждениях он рассказывал теперь менее охотно и реже, чем прежде, хотя интенсивность их не только не уменьшилась, но, напротив, даже усилилась. Однако, объясняя все расстроенной иннервацией, он полагал, что всякие иные наваждения были бы в данном случае столь же уместны, и потому не видел нужды искать другие, более конкретные и специальные объяснения. Врачи же полностью исключали всякую предумышленную концентрацию внимания пациента на необычных его ощущениях.
Наступило затишье. Такие временные затишья случаются в тяжелых и даже самых тяжелых болезнях, когда сама обреченность становится вроде бы условной категорией, реальный смысл которой целиком зависит от воли человека.
Валк называл это состояние «очаровательной передышкой между тысячной и тысяча первой ночью Шахерезады». И в заключение обязательно пояснял, что это единственный случай, когда он верит не только в коварство, но и в злонамеренность бога. Вопреки Эйнштейну.
Ягич неожиданно замкнулась — видимо, для того, чтобы не поддаться очарованию мнимого благополучия. Отлично, твердил про себя Ввлк, отлично, в моем ординаторе проклевывается медик. Но самое нелепое, в дни великого затишья он больше всего думал не о сыне своем, Альберте, не об ординаторе Ягич, а о профессоре Дале.
Два месяца Даль не напоминал о себе. Два месяца он пропадал на юге, в Сухумском виварии, в компании шимпанзе, которые должны выли убедить человечество, что между собственной рукой и заимствованной никакой разницы нет. Со дня на день в лаборатории Валка ожидали реферативный вестник Сухумского центра трансплантации. В этом вестнике Даль намеревался произнести свое последнее слово, и это слово должно было стать приговором Валку.
Для Валка последнее слово Даля было из разряда великих секретов полишинеля, и все-таки ему не терпелось увидеть это слово овеществленным на меловой бумаге в типографии. «Черт возьми, — укорял он себя, — во мне просыпается жажда аутодафе: я вижу чад и пламя, пожирающие вестник Даля».
Однако двадцать пятого августа, в четыре часа пополудни, когда руки Альберта, освобожденные от фиксаторов, впервые приподнялись над койкой, Валк начисто позабыл и Даля, и вестнич его, и чадное пламя, пожирающее этот вестник.
— Смелее, Альберт, смелее, — приказывал он сыну, когда тот внезапно останавливался, как изнуренный альпинист перед следующим шагом.
И Альберт поднимал руки все выше — пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать градусов, и казалось, одно небольшое еще усилие, и рубеж — сорок пять градусов — будет взят, но вдруг эти руки утратили жесткость усилия и шмякнулись, как подстреленные, на койку.
Ягич импульсивно подалась вперед, торопясь на помощь, а Валк, придержав ее протянутой рукой, спокойно, будто речь шла о спортивной дистанции, объявил:
— Отлично, сын! Превосходно!
Альберт был бледен. Даже глаза его, обычно синие густой синевой сумеречного моря, поблекли.
— Отец, — сказал Альберт, — эти руки никогда уже не будут моими.
— Они твои, — улыбнулся Валк, — они уже твои, Альберт.
— Нет, — покачал головой Альберт, — они не слушаются меня. Ты не представляешь себе, чего стоил этот подъем. Я с трудом заставил их сделать то, что хочу я. У меня было ощущение, что у них своя воля, свои желания…
Не дослушав Альберта, Валк стремительно поднялся, сделал несколько шагов к двери, а затем, круто повернувшись, уже спокойно, как накануне, присел у койки.
— В психологии и физиологии диссоциация такой же элементарный акт, как у вас в механике, Альберт. Но в механике нет эмоций и морали. Неодушевленные предметы не чувствуют себя ни сильными, ни слабыми.
— Нет, — повторил Альберт, — я не о том, отец. Мне надо подумать. Это уже много дней, но я не придавал этому значения; я тоже отделывался параллелями с элементарной диссоциацией.
— Но, Альберт, — голос Валка был ровен, как голос диктора, извещавшего об отправке очередного самолета, — это действительно диссоциация. Кстати, еще в прошлом веке писатель-аэронавт Сент-Экзюпери рассказывал в «Ночном полете» об этом феномене отчуждения рук. Добавлю: совершенно здоровых рук.
— Да, — кивнул Альберт, — я помню это место; чужие руки лежат на штурвале, и нет уверенности, что они поступят так, как им велят. Я подумаю, отец.
В ближайшие три дня Альберт не вспоминал о своих руках. Накануне Валк предупредил его, что никакой физиотерапии пока не будет, что до конца недели Альберт сам волен распоряжаться своими руками. И в присутствии профессора и Ягич Альберт оставался неподвижным, хотя был уверен, что все упражнения, которые он проделывает, оставаясь наедине с самим собою, наверняка записываются и просматриваются в лаборатории Валка. Впрочем, сколько он ни осматривал палату, никаких признаков фотоглаза обнаружить не удалось, но уверенность его от этого нисколько не меркла. Напротив, что-то неуловимое — то ли чрезмерная беззаботность, то ли мгновенная непроизвольная задумчивость Ягич — убеждало его всякий раз, что упражнения эти не остаются секретом для врачей. И когда, третьего еще дня, она перед уходом демонстративно надела ка объектив телекамеры колпак, ему отчаянно захотелось напомнить ей, что, черт возьми, он как-никак физик, а не кулинар какой-нибудь. Но спустя два дня, утром, он поймал себя на мысли о приборах слежения — мысли, которой у него еще за секунду до этого не было. И тогда он понял, что психологический расчет отца точен, ибо человек неизбежно забывает о незримом, которое к тому же не представляет никакой угрозы.
Руки Альберта вели себя крайне странно. Впрочем, самым странным было, видимо, все-таки то, что сам Альберт представлял себе теперь их не иначе, как некое «я», противопоставленное его истинному «я», то есть тому единственному «я», в котором материализовалась его воля.
Уже к исходу первого дня Альберту удалось поднять руки на заветные сорок пять градусов, которые еще каких-нибудь четыре-пять часов назад были совершенно недоступны ему. Но едва намечалась усталость, они, эти руки, начинали совершать беспорядочные движения, лишенные ритма и смысла. Все это нисколько не удивило бы Альберта, если бы не одно совершенно определенное ощущение — в своих беспорядочных движениях руки пробиваются к какому-то известному им рисунку. Каков был этот рисунок, когда и в каких обстоятельствах он был освоен — ничего этого Альберт не представлял себе. У него мелькнула мысль об изолированном акте сомнамбулизма — руки вспоминают движения тысячевековой давности, точно так, как бывает это у всех сомнамбул. Но тут же он возразил себе, что сомнамбулизм и бодрствующее сознание несовместимы, а предположить самостоятельное, погруженное в транс сознание у твоих собственных рук — нет, это чересчур нелепо.
Вконец утомленный, Альберт выпрямил руки до отказа — чудовищно длинные, тяжелые, они лежали на койке рядом с ним. Вибрация в теле, вызванная непомерным физическим напряжением, уже почти угасла, когда Альберт вдруг услышал поразительно гулкое арпеджио рояля. И одновременно с этим арпеджио пальцы его забились в мелкой судорожной дрожи, и, хотя они были совершенно чужды возникшему в нем зрительному образу скользящих по клавишам пальцев, он с отчаянной ясностью улавливал в их дрожи тот же рисунок, но многократно, как в перевернутый бинокль, уменьшенный.
Все это само по себе было крайне неприятно. Но много хуже было то, что отчетливое ощущение раздвоенности, которое нарастало с секунды на секунду, сопровождалось изнуряющим страхом, тем более изнуряющим, что никаких разумных оснований для него не было. Чтобы погасить тягостные видения, Альберт понуждал себя думать о лаборатории лазеров, но спустя минуту-другую он бежал оттуда в экспериментальный цех квантовых генераторов, чтобы еще через минуту умчаться на лазерный полигон в Тянь-Шане. Но и там, на семикилометровой вершине, где надо было надеть кислородную маску, чтобы не задохнуться, нелепые арпеджио грохотали, как горные обвалы.
И тогда осталось одно: ждать, терпеливо ждать, противопоставив нелепому изнуряющему страху простейшую мысль — нет ничего страшнее небытия. Но разве так уж страшно это — небытие?
Раза три-четыре после этого страх еще набегал волнами, но волны эти, которые с берега казались огромными, по мере приближения сникали и под конец почти вовсе исчезали, не то уходя на дно, не то растворяясь в огромной весе прибрежной воды, млеющей после бури на солнце.
Потом пришла тишина. Она была удивительна, эта тишина, она была конкретна и неуловима, как солнечный луч, который нельзя зажать в кулаке; она оборачивалась звоном в ушах, тупыми ударами сердца, переливчатыми, как звон далекого ручья в горах, едва человек прислушивался к ней.
А потом, после этой тишины, буря уже не возвращалась. После этой тишины были только этюды Шопена, двадцать четыре. Они чередовались, как в концерте, с теми минимальными паузами, которые необходимы залу.
Никогда прежде Альберт не слышал их в таком безупречном исполнении. И никогда прежде он не знал этого изумительного ощущения идеальной реализации ожидаемого. Ощущение удовлетворенности было так полно, что только позднее, когда опять вернулась тишина, он заметил, что удовлетворенность эта идет — он сказал про себя: иррадиирует — от рук. Причем она поразительно напоминала другую, из детства, которая бывала у него, когда мать опускала озябшие его руки в теплую воду.
Но, кроме удовлетворенности, была еще усталость. И хотя больше всего устали руки, потому что пальцы проделали все двадцать четыре этюда, скованность была во всем теле. Скованность от чрезмерного мышечного напряжения.
Ни отец, ни Ягич в течение целой недели не задавали ему тривиальнейшего, освященного веками вопроса лечащего врача-как чувствует себя больной? Строго говоря, это было естественным следствием предоставленного ему права свободной ориентации. Но необычность такого режима требовала объяснения, и вечером в пятницу он поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет Ягич. Однако когда она отворила дверь со своим привычным «добрый вечер, Альберт», он почему-то решил отложить разговор до следующего ее визита. Между тем отвратительное ощущение недоговоренности и умолчания росло, настойчиво требуя исхода. Но, несмотря на ясность этого ощущения, сначала никак не удавалось четко сформулировать мысль. И тогда ему представилось безликое НЕЧТО, и он решил, что надо прямо так и сказать: милый доктор, НЕЧТО томит меня, не поможете ли вы мне понять, что оно такое, это НЕЧТО?
Пожалуйста, улыбнется Ягич и пояснит; «Все дело в свободе, которую мы предоставили своему пациенту». Ага, значит, не безликое НЕЧТО, а именно эта свобода вызывает у него тягостную озабоченность. И стало быть, нет нужды обращаться к НЕЧТО, лишенному образа, а надо откровенно, без обиняков, справиться, чем он обязан этому восхитительному режиму полной свободы. Ведь врач на то и врач, чтобы опекать больного, а если больной не чувствует этой опеки, у него появляются всякие мысли. Но каждому известно, что всякие мысли как раз и не нужны больному.
— Доктор, — сказал Альберт, когда Ягич поправляла у него теменные электроды, — меня занимает один пустяковый вопрос. Вы слушаете?
— Да-а, — протянула Ягич, улыбаясь, — я слушаю ваш пустяковый вопрос, Альберт.
— Нужна ли больному избыточная свобода? Точнее, имеет ли он на нее право? Разве сам статус больного не есть статус ограничений?
— Да, — ответила Ягич, протирая его темя эфиром, — статус есть статус. Но бывают исключительные случаи…
Он почувствовал, как внезапно оцепенели ее пальцы, как вся она на мгновение замерла и как почти одновременно с этим ее пронизал импульс, вернувший ей прежнюю интонацию и легкость движений.
— …в этих исключительных случаях мы несколько изменяем режим больного.
— Для чего?
— Чтобы нe стеснять естественных реакций.
— А если у этого больного как раз неестественные реакции?
Закрепив последний электрод, она присела на койку у ног Альберта.
— Я говорю о реакциях, естественных для больного. О спонтанных реакциях, не подправленных сознанием ни пациента, ни его врачей.
— Вы следите за мной все эти семь дней, с первого их часа?
— Да, Альберт, всю неделю, с первого ее часа, наблюдаем и записываем.
— Почему мой случай исключительный?
— Травма была серьезная.
— Кора, — это он впервые назвал ее по имени, Корой, и, наверное, поэтому она вдруг заметила свое дыхание, тяжелое, замедленное, не дающее удовлетворения, — эти руки — мои?
— Это ваши руки, Альберт.
— Нет, — тихо сказал Альберт, — это не мои руки. У них своя воля, свои ритмы. Однажды меня укачало. В Магеллановом проливе. Потом мы вышли в океан. Океан был тих, как заболоченное озеро. Но едва я закрывал глаза, волны подхватывали меня, и все начиналось сызнова. Так продолжалось двое суток. А однажды мы с отцом собирали цветы. В степи. Ночью я не мог заснуть — перед глазами у меня мелькали цветы и я сам, беспрестанно наклоняющийся. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от этих видений. Но они были мои, и я знал, что они мои. А эти руки, которые разыгрывают виртуозно двадцать четыре этюда кряду, они не мои. У меня всегда были посредственные успехи в музыке, и маме очень огорчалась.
— Дайте свою руку, Альберт. Вот так. Сожмите мою. Крепче, еще крепче. Разве она не слушается вас? Осторожно, Альберт, вы раздробите мне кисть. А теперь сомневайтесь в свое удовольствие сколько вам угодно.
Надо уйти, надо уйти немедленно, твердила себе Ягич. Надо бежать, а не то всему конец. Я не могу, профессор, вы слышите, профессор, я не могу смотреть ему в глаза!
— Откуда же эта информация, доктор? Разве мои руки могут помнить то, чему никогда не учились? Я слушал эти этюды только в концерте, да и то запомнил лишь, что их было двадцать четыре, а теперь они сидят у меня вот здесь, — Альберт потряс руками, — вот здесь, доктор. Вы бросаете вызов рассудку, вы хотите, чтобы я уверовал в информацию извне, которая предшествует опыту и познанию.
— Альберт, но разве мы все знаем об источниках информации? Ученые прошлого века рассказывают об одном шотландце, который вдруг заговорил по-арабски, хотя достоверно было известно, что никогда до этого он не слышал арабской речи.
— Достоверно ли — вот вопрос, — задумчиво произнес Альберт.
— И я спрашиваю: а у вас все достоверно?
Альберт молчал. Повернувшись на правый бок, он смотрел на Ягич в упор, и глава его цвета сумеречного моря темнели быстро, как июльское море к ночи.
— Кора, вы можете сесть поближе? Нет, еще ближе. Да, так. А теперь наклонитесь. Еще чуть-чуть.
Он взял ее лицо в руки, его пальцы скользили, как пальцы слепого, вылепливающие лицо женщины, которая еще мгновение назад существовала только в звуках своего голоса. Они дрожали, они отчаянно дрожали, его пальцы, и он не мог унять их дрожи.
— Кора, — сказал он, — это не мои пальцы. Они хотят другого, они дрожат потому, что я не разрешаю им другого. Эта дрожь их — бунт против меня. Они бешеные псы, перегрызающие цепь.
— Но цепь перегрызть нельзя, Альберт.
— Нельзя, — повторил он шепотом. — Наверное, нельзя.
Внезапно руки его перестали дрожать. Она заметила это сразу, еще до того, как пальцы его сплелись у нее на затылке и губы, сухие, шершавые, горячие, заскользили у правого виска, к глазу.
— Это я, Кора, — сказал он, — теперь, доктор мой, я, — успел он сказать еще, и руки его, судорожно сжавшись у нее на затылке, стремительно, как два жестких стержня с одинаковыми зарядами, разлетелись в стороны.
Движения их были беспорядочны и бессмысленны, но самым тягостным была их жесткость, точно живое человеческое тело нанизали на стальной прут.
— Успокойтесь, Альберт, — приговаривала Ягич, — сейчас все пройдет. Сейчас, одна минута — я включу стабилизатор, и все пройдет.
Стабилизатор был уже готов, когда за ее спиной неожиданно заговорил видеотелефон:
— Альберт, расслабиться! Не надо стабилизатора. Расслабляйся, еще расслабляйся, еще.
На экране чернели мучительно тяжелые глаза Валка. Глаза эти давили огромной тяжестью валунов, непонятно почему задержавшихся в небе, непонятно почему не падающих на землю. Но руки Альберта понемногу успокаивались, и, по мере того как движения их становились упорядоченнее и эластичнее, тяжесть истекала из глаз Валка, растворяясь гдето за экраном быстро и бесшумно, как водород из продырявленного зонда.
Через час, когда солнца уже не было, когда посинели гусмной синевой только что еще заревые облака, Альберт уснул. Она сидела рядом. Она смотрела на желтое лицо человека, изнуренного мучительной борьбой, на шершавые, сухие и горячие его губы, на истончившийся нос, но все это было лишь фоном для того главного, что пронизывало, пропитывало ее всю, что было сейчас ее единственным и истинным «я»: вот лежит первый человек с чужими руками, первый, которому чужие руки стали своими.

Утром, за час до назначенного Альберту пробуждения, она сняла чехлы у него с рук. Валк готов был удалить их еще вчера, когда догадка Альберта стала уже, в сущности, уверенностью, и не только бессмысленно, но и вредно было хранить в тайне то, что перестало быть тайной. Ягич, однако, решительно воспротивилась этому, и Валк согласился в конце концов, что утро более подходящее время. Он даже вспомнил, что утро вечера мудренее, и подивился исключительной физиологической точности этой пословицы.
Едва проснувшись, Альберт увидел руки, которые лежали поверх белой простыни. В первое мгновение в глазах его не было ничего, кроме заурядного равнодушия — равнодушия к чужому предмету, случайно попавшемуся на глаза. Но тут же с непостижимой быстротой в них индуцировалась чудовищная энергия внезапно озаренного сознания: эти руки — его руки.
Сухие, с далеко выдвинутой а локте костью и длинными, тонкими, как деревянные бруски из детского «Конструктора», пальцами, они были чужды мускулистому, с четким, упругим рисунком телу Альберта: это были руки Дон-Кихота, прилепленные к торсу Геракла. Но еще фантастичнее был их цвет — подсиненных свинцовых белил, сплошь зарешеченных тончайшими черными волосами. Даже теперь, при свете утреннего солнца, они были из мира полярных снегов и Голубого полярного месяца.
Сначала Альберт молча перевел взгляд на свою грудь, загорелую, с золотистыми курчавыми волосами, под которыми ближе к краям глянцевито краснели три рубца, потом на руки, потом опять на грудь и закрыл глаза. Ягич наблюдала за ним безотрывно, нисколько не скрывая этого, но спокойно, с той профессиональной уверенностью, которая даже необычным ситуациям придает оттенок заурядной будничности.
— Чьи это руки? — прошептал Альберт, и, так как ему показалось, что она не услышала его шепота, он повторил громко, как на допросе: — Чьи это руки?
— Ваши, Альберт. А раньше — Сергея Чудновского.
— Пианиста?
— Да, пианиста.
— Ему было семьдесят два?
— Да, Альберт, семьдесят два.
— Доктор, сколько же мне? — Он ждал, но она не отвечала, и тогда он заговорил снова: — Допустим, доктор, вы выходите за меня замуж: кто будет обнимать вас, Альберт Валк, физик, двадцати девяти лет, или Сергей Чудновский, пианист, семидесяти двух пет? Хотя нет, давайте проще — сколько лет человеку, руки которого на три года старше его отца?
— Не надо, Альберт, — она взяла его руки, положила кисть на кисть и сжала крепко, как озябшие руки ребенка, — это твои руки, понимаешь, твои.
Глаза Альберта были по-прежнему закрыты. У правого, на полпути к виску, застряла слеза. Ягич высвободила руку, чтобы отереть ее, но Альберт стремительно повернул голову и прошелся щекой по подушке.
Она засмеялась:
— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
— Ему? — Валк стоял в дверях, чересчур большой и чересчур бодрый. — Это вы у меня, доктор, спросите, сколько ему лет.
Усевшись на койку, Валк взял руки Альберта и, приказав сопротивляться, согнул их в локте и запястье. Затем, перебирая пальцы, снова приказал сопротивляться — сильнее, сильнее, еще сильнее! — и, наконец, хлопнув его по плечу, сказал громко и весело, как детский доктор мальчику, тяжело переболевшему:
— Все в порядке, сын. Можешь играть руками в футбол. Через неделю — вон из моей клиники.
— Отец…
— Я слушаю.
— Почему именно эти руки? Разве…
— Да, Альберт, были и другие. Но нужны были эти, именно эти — руки с огромной памятью. Гениальные руки.
МОЙ СТАРШИЙ БРАТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
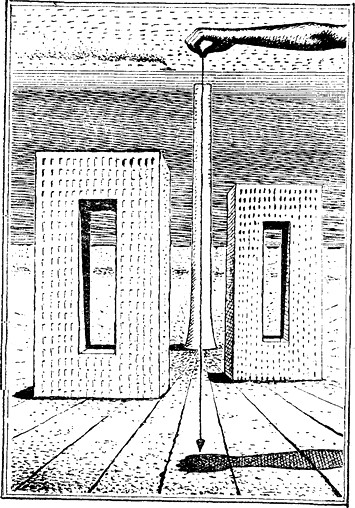
Мне было тогда двенадцать лет. Двенадцать с половиной. Грязный мартовский лед, не лед даже, а просто слежавшийся, утоптанный снег только что сошел, и плиты черного вулканического туфа под моими ногами были чисты, как черные камни, обкатанные морем. Я не знал, как называются черные камни, обкатанные морем, но плиты под моими ногами были вулканической породы — это я знал точно. Это в Одессе все знают точно.
Оранжевое солнце, больше гигантского купола Успенского собора, смотрело мне прямо в глаза, и, когда я закрывал утомленные глаза, передо мною играли лиловые, пламенные и зеленые кольца. Кольца наплывали друг на друга, но раньше или позже все они растворялись, уходя в черноту справа от меня. Я не могу объяснить, почему они ухо. дили именно вправо, а не влево или вниз. Наверное, есть у них какой-то свой закон.
— Альберт, но вы зря негодуете: у вас в физике все проще, а в медицине чересчур много неясного, и спасение человека еще достаточно часто представляется настоящим чудом.
— Да, это так, — задумчиво произнес Альберт, — иногда мне даже кажется, что состязание физики с биологией и медициной Зенон предвосхитил в апории «Ахиллес и черепаха». Поразительно, но до сих пор не решена проблема биологической совместимости. Человек, мозг вселенной, довольствуется полимерными эрзацами, потому что бессилен воспроизвести даже элементарный акт регенерации конечности, который ежедневно на его глазах проделывают миллионы ящериц. Но о чем это я, если он не умеет пересадить даже готовую, данную ему самой природой, человеческую руку или человеческую ногу! Нет, ведь это чудовищно: как щедра природа и как беспомощен человек!
Распалясь, Альберт внезапно сделал попытку приподняться, и, не будь рядом доктора, это вряд ли кончилось бы добром. Ягич, однако, успела прижать его к койке, и все обошлось лишь тремя сломанными электродами. Но горячность, с которой Альберт обрушился на медицину и медиков, оставила у нее тягостную и ноющую, как давняя рана, тревогу. И дело было вовсе не в уязвленной профессиональной гордости: медики лучше других знали истинную цену всемогуществу медицины, хотя и уподоблялись зачастую матери, которая считает себя вправе говорить какую угодно правду о своем чаде, но за другими признает это право скрепя сердце.
Нет, профессиональная гордость, честь мундира были здесь ни при ием: почти с прежней силой на Ягич хлынули сомнения, и весь день она провела в томительном ожидании разговора с Валком. И то, что прежде ей казалось совершенно безупречным, — консультации с шефом в заранее установленные часы, — теперь почему-то вызывало раздражение и представлялось неуместным педантизмом. В конце концов, убеждала она себя, необычные ситуации самой своей сутью исключают предварительное распределение времени.
В семнадцать пятнадцать профессор Ввлк принял своего ординатора. Ягич не скрывала дурного настроения, но Валк был невозмутим. И эта невозмутимость его подстегнула недовольство Ягич. Но, самое удивительное, как ни горячилась она, профессор только кивал утвердительно головой и время от времени похлопывал стол ладонью. А затем, когда она кончила свое темпераментное донесение — это он, шеф, назвал так ее информацию, — ей было предложено сделать небольшой экскурс в историю медицины. Экскурс оказался самым элементарным, и мораль из него — откровенно азбучной: врач — не пациент, терпение для врача — не добродетель, а долг.
— А проще говоря, — подвел итоги Валк, — научитесь ждать и не убаюкивайте себя собственным благородством: когда ВАМ не терпится — это ВАМ не терпится, и забота о пациенте здесь — банальный камуфляж.
— Но, профессор, — чуть не взмолилась Ягич, — вы бы видели своего сына, когда он негодовал на медиков и медицину!
— У него есть право на это, — с неожиданной сухостью, как о постороннем, произнес Валк. — Его мать умерла, и единственное, что могла сделать медицина, — объяснить и засвидетельствовать факт ее смерти. Кстати, я рассказывал вам однажды об этом, заботясь не только о вашем потревоженном любопытстве. Я надеялся, что многое в поведении Альберта прояснится для вас.
— Значит, вы исключаете догадку Альберта об истинном положении?
— Да, исключаю. И давайте с дами договоримся раз и навсегда: мой сын принимает правду в ее натуральных красках и требует того же от других.
Вся следующая неделя сполна подтвердила правоту Валка; Альберт ни о чем не догадывался и точно так, как с неделю назад он расправился с медициной, теперь он разделывал физику и физиков, которые через сто лет после смерти Эйнштейна едва-едва набрели на общую теорию поля. Притом разделывал тем яростнее, чем лучше себя чувствовал и чем упорнее думал о застое в собственных исследованиях.
О странных музыкальных своих наваждениях он рассказывал теперь менее охотно и реже, чем прежде, хотя интенсивность их не только не уменьшилась, но, напротив, даже усилилась. Однако, объясняя все расстроенной иннервацией, он полагал, что всякие иные наваждения были бы в данном случае столь же уместны, и потому не видел нужды искать другие, более конкретные и специальные объяснения. Врачи же полностью исключали всякую предумышленную концентрацию внимания пациента на необычных его ощущениях.
Наступило затишье. Такие временные затишья случаются в тяжелых и даже самых тяжелых болезнях, когда сама обреченность становится вроде бы условной категорией, реальный смысл которой целиком зависит от воли человека.
Валк называл это состояние «очаровательной передышкой между тысячной и тысяча первой ночью Шахерезады». И в заключение обязательно пояснял, что это единственный случай, когда он верит не только в коварство, но и в злонамеренность бога. Вопреки Эйнштейну.
Ягич неожиданно замкнулась — видимо, для того, чтобы не поддаться очарованию мнимого благополучия. Отлично, твердил про себя Ввлк, отлично, в моем ординаторе проклевывается медик. Но самое нелепое, в дни великого затишья он больше всего думал не о сыне своем, Альберте, не об ординаторе Ягич, а о профессоре Дале.
Два месяца Даль не напоминал о себе. Два месяца он пропадал на юге, в Сухумском виварии, в компании шимпанзе, которые должны выли убедить человечество, что между собственной рукой и заимствованной никакой разницы нет. Со дня на день в лаборатории Валка ожидали реферативный вестник Сухумского центра трансплантации. В этом вестнике Даль намеревался произнести свое последнее слово, и это слово должно было стать приговором Валку.
Для Валка последнее слово Даля было из разряда великих секретов полишинеля, и все-таки ему не терпелось увидеть это слово овеществленным на меловой бумаге в типографии. «Черт возьми, — укорял он себя, — во мне просыпается жажда аутодафе: я вижу чад и пламя, пожирающие вестник Даля».
Однако двадцать пятого августа, в четыре часа пополудни, когда руки Альберта, освобожденные от фиксаторов, впервые приподнялись над койкой, Валк начисто позабыл и Даля, и вестнич его, и чадное пламя, пожирающее этот вестник.
— Смелее, Альберт, смелее, — приказывал он сыну, когда тот внезапно останавливался, как изнуренный альпинист перед следующим шагом.
И Альберт поднимал руки все выше — пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать градусов, и казалось, одно небольшое еще усилие, и рубеж — сорок пять градусов — будет взят, но вдруг эти руки утратили жесткость усилия и шмякнулись, как подстреленные, на койку.
Ягич импульсивно подалась вперед, торопясь на помощь, а Валк, придержав ее протянутой рукой, спокойно, будто речь шла о спортивной дистанции, объявил:
— Отлично, сын! Превосходно!
Альберт был бледен. Даже глаза его, обычно синие густой синевой сумеречного моря, поблекли.
— Отец, — сказал Альберт, — эти руки никогда уже не будут моими.
— Они твои, — улыбнулся Валк, — они уже твои, Альберт.
— Нет, — покачал головой Альберт, — они не слушаются меня. Ты не представляешь себе, чего стоил этот подъем. Я с трудом заставил их сделать то, что хочу я. У меня было ощущение, что у них своя воля, свои желания…
Не дослушав Альберта, Валк стремительно поднялся, сделал несколько шагов к двери, а затем, круто повернувшись, уже спокойно, как накануне, присел у койки.
— В психологии и физиологии диссоциация такой же элементарный акт, как у вас в механике, Альберт. Но в механике нет эмоций и морали. Неодушевленные предметы не чувствуют себя ни сильными, ни слабыми.
— Нет, — повторил Альберт, — я не о том, отец. Мне надо подумать. Это уже много дней, но я не придавал этому значения; я тоже отделывался параллелями с элементарной диссоциацией.
— Но, Альберт, — голос Валка был ровен, как голос диктора, извещавшего об отправке очередного самолета, — это действительно диссоциация. Кстати, еще в прошлом веке писатель-аэронавт Сент-Экзюпери рассказывал в «Ночном полете» об этом феномене отчуждения рук. Добавлю: совершенно здоровых рук.
— Да, — кивнул Альберт, — я помню это место; чужие руки лежат на штурвале, и нет уверенности, что они поступят так, как им велят. Я подумаю, отец.
В ближайшие три дня Альберт не вспоминал о своих руках. Накануне Валк предупредил его, что никакой физиотерапии пока не будет, что до конца недели Альберт сам волен распоряжаться своими руками. И в присутствии профессора и Ягич Альберт оставался неподвижным, хотя был уверен, что все упражнения, которые он проделывает, оставаясь наедине с самим собою, наверняка записываются и просматриваются в лаборатории Валка. Впрочем, сколько он ни осматривал палату, никаких признаков фотоглаза обнаружить не удалось, но уверенность его от этого нисколько не меркла. Напротив, что-то неуловимое — то ли чрезмерная беззаботность, то ли мгновенная непроизвольная задумчивость Ягич — убеждало его всякий раз, что упражнения эти не остаются секретом для врачей. И когда, третьего еще дня, она перед уходом демонстративно надела ка объектив телекамеры колпак, ему отчаянно захотелось напомнить ей, что, черт возьми, он как-никак физик, а не кулинар какой-нибудь. Но спустя два дня, утром, он поймал себя на мысли о приборах слежения — мысли, которой у него еще за секунду до этого не было. И тогда он понял, что психологический расчет отца точен, ибо человек неизбежно забывает о незримом, которое к тому же не представляет никакой угрозы.
Руки Альберта вели себя крайне странно. Впрочем, самым странным было, видимо, все-таки то, что сам Альберт представлял себе теперь их не иначе, как некое «я», противопоставленное его истинному «я», то есть тому единственному «я», в котором материализовалась его воля.
Уже к исходу первого дня Альберту удалось поднять руки на заветные сорок пять градусов, которые еще каких-нибудь четыре-пять часов назад были совершенно недоступны ему. Но едва намечалась усталость, они, эти руки, начинали совершать беспорядочные движения, лишенные ритма и смысла. Все это нисколько не удивило бы Альберта, если бы не одно совершенно определенное ощущение — в своих беспорядочных движениях руки пробиваются к какому-то известному им рисунку. Каков был этот рисунок, когда и в каких обстоятельствах он был освоен — ничего этого Альберт не представлял себе. У него мелькнула мысль об изолированном акте сомнамбулизма — руки вспоминают движения тысячевековой давности, точно так, как бывает это у всех сомнамбул. Но тут же он возразил себе, что сомнамбулизм и бодрствующее сознание несовместимы, а предположить самостоятельное, погруженное в транс сознание у твоих собственных рук — нет, это чересчур нелепо.
Вконец утомленный, Альберт выпрямил руки до отказа — чудовищно длинные, тяжелые, они лежали на койке рядом с ним. Вибрация в теле, вызванная непомерным физическим напряжением, уже почти угасла, когда Альберт вдруг услышал поразительно гулкое арпеджио рояля. И одновременно с этим арпеджио пальцы его забились в мелкой судорожной дрожи, и, хотя они были совершенно чужды возникшему в нем зрительному образу скользящих по клавишам пальцев, он с отчаянной ясностью улавливал в их дрожи тот же рисунок, но многократно, как в перевернутый бинокль, уменьшенный.
Все это само по себе было крайне неприятно. Но много хуже было то, что отчетливое ощущение раздвоенности, которое нарастало с секунды на секунду, сопровождалось изнуряющим страхом, тем более изнуряющим, что никаких разумных оснований для него не было. Чтобы погасить тягостные видения, Альберт понуждал себя думать о лаборатории лазеров, но спустя минуту-другую он бежал оттуда в экспериментальный цех квантовых генераторов, чтобы еще через минуту умчаться на лазерный полигон в Тянь-Шане. Но и там, на семикилометровой вершине, где надо было надеть кислородную маску, чтобы не задохнуться, нелепые арпеджио грохотали, как горные обвалы.
И тогда осталось одно: ждать, терпеливо ждать, противопоставив нелепому изнуряющему страху простейшую мысль — нет ничего страшнее небытия. Но разве так уж страшно это — небытие?
Раза три-четыре после этого страх еще набегал волнами, но волны эти, которые с берега казались огромными, по мере приближения сникали и под конец почти вовсе исчезали, не то уходя на дно, не то растворяясь в огромной весе прибрежной воды, млеющей после бури на солнце.
Потом пришла тишина. Она была удивительна, эта тишина, она была конкретна и неуловима, как солнечный луч, который нельзя зажать в кулаке; она оборачивалась звоном в ушах, тупыми ударами сердца, переливчатыми, как звон далекого ручья в горах, едва человек прислушивался к ней.
А потом, после этой тишины, буря уже не возвращалась. После этой тишины были только этюды Шопена, двадцать четыре. Они чередовались, как в концерте, с теми минимальными паузами, которые необходимы залу.
Никогда прежде Альберт не слышал их в таком безупречном исполнении. И никогда прежде он не знал этого изумительного ощущения идеальной реализации ожидаемого. Ощущение удовлетворенности было так полно, что только позднее, когда опять вернулась тишина, он заметил, что удовлетворенность эта идет — он сказал про себя: иррадиирует — от рук. Причем она поразительно напоминала другую, из детства, которая бывала у него, когда мать опускала озябшие его руки в теплую воду.
Но, кроме удовлетворенности, была еще усталость. И хотя больше всего устали руки, потому что пальцы проделали все двадцать четыре этюда, скованность была во всем теле. Скованность от чрезмерного мышечного напряжения.
Ни отец, ни Ягич в течение целой недели не задавали ему тривиальнейшего, освященного веками вопроса лечащего врача-как чувствует себя больной? Строго говоря, это было естественным следствием предоставленного ему права свободной ориентации. Но необычность такого режима требовала объяснения, и вечером в пятницу он поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет Ягич. Однако когда она отворила дверь со своим привычным «добрый вечер, Альберт», он почему-то решил отложить разговор до следующего ее визита. Между тем отвратительное ощущение недоговоренности и умолчания росло, настойчиво требуя исхода. Но, несмотря на ясность этого ощущения, сначала никак не удавалось четко сформулировать мысль. И тогда ему представилось безликое НЕЧТО, и он решил, что надо прямо так и сказать: милый доктор, НЕЧТО томит меня, не поможете ли вы мне понять, что оно такое, это НЕЧТО?
Пожалуйста, улыбнется Ягич и пояснит; «Все дело в свободе, которую мы предоставили своему пациенту». Ага, значит, не безликое НЕЧТО, а именно эта свобода вызывает у него тягостную озабоченность. И стало быть, нет нужды обращаться к НЕЧТО, лишенному образа, а надо откровенно, без обиняков, справиться, чем он обязан этому восхитительному режиму полной свободы. Ведь врач на то и врач, чтобы опекать больного, а если больной не чувствует этой опеки, у него появляются всякие мысли. Но каждому известно, что всякие мысли как раз и не нужны больному.
— Доктор, — сказал Альберт, когда Ягич поправляла у него теменные электроды, — меня занимает один пустяковый вопрос. Вы слушаете?
— Да-а, — протянула Ягич, улыбаясь, — я слушаю ваш пустяковый вопрос, Альберт.
— Нужна ли больному избыточная свобода? Точнее, имеет ли он на нее право? Разве сам статус больного не есть статус ограничений?
— Да, — ответила Ягич, протирая его темя эфиром, — статус есть статус. Но бывают исключительные случаи…
Он почувствовал, как внезапно оцепенели ее пальцы, как вся она на мгновение замерла и как почти одновременно с этим ее пронизал импульс, вернувший ей прежнюю интонацию и легкость движений.
— …в этих исключительных случаях мы несколько изменяем режим больного.
— Для чего?
— Чтобы нe стеснять естественных реакций.
— А если у этого больного как раз неестественные реакции?
Закрепив последний электрод, она присела на койку у ног Альберта.
— Я говорю о реакциях, естественных для больного. О спонтанных реакциях, не подправленных сознанием ни пациента, ни его врачей.
— Вы следите за мной все эти семь дней, с первого их часа?
— Да, Альберт, всю неделю, с первого ее часа, наблюдаем и записываем.
— Почему мой случай исключительный?
— Травма была серьезная.
— Кора, — это он впервые назвал ее по имени, Корой, и, наверное, поэтому она вдруг заметила свое дыхание, тяжелое, замедленное, не дающее удовлетворения, — эти руки — мои?
— Это ваши руки, Альберт.
— Нет, — тихо сказал Альберт, — это не мои руки. У них своя воля, свои ритмы. Однажды меня укачало. В Магеллановом проливе. Потом мы вышли в океан. Океан был тих, как заболоченное озеро. Но едва я закрывал глаза, волны подхватывали меня, и все начиналось сызнова. Так продолжалось двое суток. А однажды мы с отцом собирали цветы. В степи. Ночью я не мог заснуть — перед глазами у меня мелькали цветы и я сам, беспрестанно наклоняющийся. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от этих видений. Но они были мои, и я знал, что они мои. А эти руки, которые разыгрывают виртуозно двадцать четыре этюда кряду, они не мои. У меня всегда были посредственные успехи в музыке, и маме очень огорчалась.
— Дайте свою руку, Альберт. Вот так. Сожмите мою. Крепче, еще крепче. Разве она не слушается вас? Осторожно, Альберт, вы раздробите мне кисть. А теперь сомневайтесь в свое удовольствие сколько вам угодно.
Надо уйти, надо уйти немедленно, твердила себе Ягич. Надо бежать, а не то всему конец. Я не могу, профессор, вы слышите, профессор, я не могу смотреть ему в глаза!
— Откуда же эта информация, доктор? Разве мои руки могут помнить то, чему никогда не учились? Я слушал эти этюды только в концерте, да и то запомнил лишь, что их было двадцать четыре, а теперь они сидят у меня вот здесь, — Альберт потряс руками, — вот здесь, доктор. Вы бросаете вызов рассудку, вы хотите, чтобы я уверовал в информацию извне, которая предшествует опыту и познанию.
— Альберт, но разве мы все знаем об источниках информации? Ученые прошлого века рассказывают об одном шотландце, который вдруг заговорил по-арабски, хотя достоверно было известно, что никогда до этого он не слышал арабской речи.
— Достоверно ли — вот вопрос, — задумчиво произнес Альберт.
— И я спрашиваю: а у вас все достоверно?
Альберт молчал. Повернувшись на правый бок, он смотрел на Ягич в упор, и глава его цвета сумеречного моря темнели быстро, как июльское море к ночи.
— Кора, вы можете сесть поближе? Нет, еще ближе. Да, так. А теперь наклонитесь. Еще чуть-чуть.
Он взял ее лицо в руки, его пальцы скользили, как пальцы слепого, вылепливающие лицо женщины, которая еще мгновение назад существовала только в звуках своего голоса. Они дрожали, они отчаянно дрожали, его пальцы, и он не мог унять их дрожи.
— Кора, — сказал он, — это не мои пальцы. Они хотят другого, они дрожат потому, что я не разрешаю им другого. Эта дрожь их — бунт против меня. Они бешеные псы, перегрызающие цепь.
— Но цепь перегрызть нельзя, Альберт.
— Нельзя, — повторил он шепотом. — Наверное, нельзя.
Внезапно руки его перестали дрожать. Она заметила это сразу, еще до того, как пальцы его сплелись у нее на затылке и губы, сухие, шершавые, горячие, заскользили у правого виска, к глазу.
— Это я, Кора, — сказал он, — теперь, доктор мой, я, — успел он сказать еще, и руки его, судорожно сжавшись у нее на затылке, стремительно, как два жестких стержня с одинаковыми зарядами, разлетелись в стороны.
Движения их были беспорядочны и бессмысленны, но самым тягостным была их жесткость, точно живое человеческое тело нанизали на стальной прут.
— Успокойтесь, Альберт, — приговаривала Ягич, — сейчас все пройдет. Сейчас, одна минута — я включу стабилизатор, и все пройдет.
Стабилизатор был уже готов, когда за ее спиной неожиданно заговорил видеотелефон:
— Альберт, расслабиться! Не надо стабилизатора. Расслабляйся, еще расслабляйся, еще.
На экране чернели мучительно тяжелые глаза Валка. Глаза эти давили огромной тяжестью валунов, непонятно почему задержавшихся в небе, непонятно почему не падающих на землю. Но руки Альберта понемногу успокаивались, и, по мере того как движения их становились упорядоченнее и эластичнее, тяжесть истекала из глаз Валка, растворяясь гдето за экраном быстро и бесшумно, как водород из продырявленного зонда.
Через час, когда солнца уже не было, когда посинели гусмной синевой только что еще заревые облака, Альберт уснул. Она сидела рядом. Она смотрела на желтое лицо человека, изнуренного мучительной борьбой, на шершавые, сухие и горячие его губы, на истончившийся нос, но все это было лишь фоном для того главного, что пронизывало, пропитывало ее всю, что было сейчас ее единственным и истинным «я»: вот лежит первый человек с чужими руками, первый, которому чужие руки стали своими.

Утром, за час до назначенного Альберту пробуждения, она сняла чехлы у него с рук. Валк готов был удалить их еще вчера, когда догадка Альберта стала уже, в сущности, уверенностью, и не только бессмысленно, но и вредно было хранить в тайне то, что перестало быть тайной. Ягич, однако, решительно воспротивилась этому, и Валк согласился в конце концов, что утро более подходящее время. Он даже вспомнил, что утро вечера мудренее, и подивился исключительной физиологической точности этой пословицы.
Едва проснувшись, Альберт увидел руки, которые лежали поверх белой простыни. В первое мгновение в глазах его не было ничего, кроме заурядного равнодушия — равнодушия к чужому предмету, случайно попавшемуся на глаза. Но тут же с непостижимой быстротой в них индуцировалась чудовищная энергия внезапно озаренного сознания: эти руки — его руки.
Сухие, с далеко выдвинутой а локте костью и длинными, тонкими, как деревянные бруски из детского «Конструктора», пальцами, они были чужды мускулистому, с четким, упругим рисунком телу Альберта: это были руки Дон-Кихота, прилепленные к торсу Геракла. Но еще фантастичнее был их цвет — подсиненных свинцовых белил, сплошь зарешеченных тончайшими черными волосами. Даже теперь, при свете утреннего солнца, они были из мира полярных снегов и Голубого полярного месяца.
Сначала Альберт молча перевел взгляд на свою грудь, загорелую, с золотистыми курчавыми волосами, под которыми ближе к краям глянцевито краснели три рубца, потом на руки, потом опять на грудь и закрыл глаза. Ягич наблюдала за ним безотрывно, нисколько не скрывая этого, но спокойно, с той профессиональной уверенностью, которая даже необычным ситуациям придает оттенок заурядной будничности.
— Чьи это руки? — прошептал Альберт, и, так как ему показалось, что она не услышала его шепота, он повторил громко, как на допросе: — Чьи это руки?
— Ваши, Альберт. А раньше — Сергея Чудновского.
— Пианиста?
— Да, пианиста.
— Ему было семьдесят два?
— Да, Альберт, семьдесят два.
— Доктор, сколько же мне? — Он ждал, но она не отвечала, и тогда он заговорил снова: — Допустим, доктор, вы выходите за меня замуж: кто будет обнимать вас, Альберт Валк, физик, двадцати девяти лет, или Сергей Чудновский, пианист, семидесяти двух пет? Хотя нет, давайте проще — сколько лет человеку, руки которого на три года старше его отца?
— Не надо, Альберт, — она взяла его руки, положила кисть на кисть и сжала крепко, как озябшие руки ребенка, — это твои руки, понимаешь, твои.
Глаза Альберта были по-прежнему закрыты. У правого, на полпути к виску, застряла слеза. Ягич высвободила руку, чтобы отереть ее, но Альберт стремительно повернул голову и прошелся щекой по подушке.
Она засмеялась:
— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
— Ему? — Валк стоял в дверях, чересчур большой и чересчур бодрый. — Это вы у меня, доктор, спросите, сколько ему лет.
Усевшись на койку, Валк взял руки Альберта и, приказав сопротивляться, согнул их в локте и запястье. Затем, перебирая пальцы, снова приказал сопротивляться — сильнее, сильнее, еще сильнее! — и, наконец, хлопнув его по плечу, сказал громко и весело, как детский доктор мальчику, тяжело переболевшему:
— Все в порядке, сын. Можешь играть руками в футбол. Через неделю — вон из моей клиники.
— Отец…
— Я слушаю.
— Почему именно эти руки? Разве…
— Да, Альберт, были и другие. Но нужны были эти, именно эти — руки с огромной памятью. Гениальные руки.
МОЙ СТАРШИЙ БРАТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
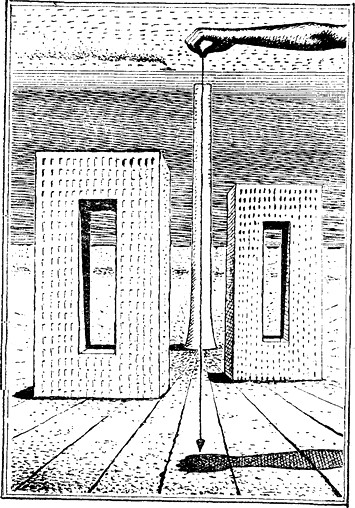
Мне было тогда двенадцать лет. Двенадцать с половиной. Грязный мартовский лед, не лед даже, а просто слежавшийся, утоптанный снег только что сошел, и плиты черного вулканического туфа под моими ногами были чисты, как черные камни, обкатанные морем. Я не знал, как называются черные камни, обкатанные морем, но плиты под моими ногами были вулканической породы — это я знал точно. Это в Одессе все знают точно.
Оранжевое солнце, больше гигантского купола Успенского собора, смотрело мне прямо в глаза, и, когда я закрывал утомленные глаза, передо мною играли лиловые, пламенные и зеленые кольца. Кольца наплывали друг на друга, но раньше или позже все они растворялись, уходя в черноту справа от меня. Я не могу объяснить, почему они ухо. дили именно вправо, а не влево или вниз. Наверное, есть у них какой-то свой закон.
