Страница:
Общественной значимости после смерти ее создателя музыка Баха-отца не обрела, но все же стала предметом изучения некоторых музыкальных исследователей послебаховского времени.
Судя по всему, некоторые более глубокие исследователи, знакомясь с музыкой И. С. Баха, испытали потрясение, но оставили его при себе Не желали быть белыми воронами среди общепринятого тогда цвета нормальных черных птиц.
И, конечно же, возникает вопрос (думаю, вопрос этот уже висит на кончике языка у читателя):
ДА КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
Они что, эти сыновья Баха, с ума сошли, что ли?
А может быть, они просто негодяи?
А быть может или даже скорее всего, бездари, так и не понявшие, кем был их отец?
А может, завистники, как Сальери?
Нет, не завистники и не бездари. Не сошли с ума. Они поняли что-то очень важное в этой жизни. То, что понял пушкинский Сальери.
Именно его мысль, мысль, высказанная Сальери в «маленькой трагедии», может объяснить нам поведение сыновей Себастьяна Баха после смерти отца.
Помните? Главной причиной в необходимости уничтожить Моцарта Сальери называет невозможность продолжить его традицию, ибо для этого нужно, чтобы родился еще один Моцарт.
«Наследника нам не оставит он».
Дети И. С. Баха были талантливы. Очень талантливы. (Да просто достаточно послушать их выдающуюся музыку.)
Они были настолько талантливы и так глубоко понимали музыку отца,
что осознали одну вещь, поняли именно то, чего так опасался А. Сальери в отношении Моцарта.
И. С. Бах не оставил наследника.
Ни один из его выдающихся сыновей не является в этом смысле наследником, ибо не в состоянии продолжать традиции отца.
И не только сыновья.
Никто не может, и никогда не сможет.
Уже через много лет после Баха другой, пожалуй, единственный в истории музыки гений, который приближается к нему по грандиозности (а пожалуй, даже и равный ему),
Людвиг ван Бетховен, познакомившись (только для себя) и осознав ба-ховскую музыку, произнесет самое глубокое из всего, что сказано о Бахе: «Не ручьем, а океаном должен он зваться!»
(игра слов: «Бах» по-немецки – «ручей»).
Из океана ничего не вытекает, в него все впадает, океан – могучая законченная структура.
Именно это поняли и сыновья Баха.
Они осознали, что в эту сторону продолжения и пути нет.
И я прекрасно понимаю, что у Бетховена не было возможности познакомиться со всей музыкой Баха (вся музыка не найдена и сейчас).
Иначе Бетховен мог бы сказать, что Бах и Ручей, и Океан.
Знакомство с музыкой Баха вырвало целый год из жизни Моцарта.
Он, Моцарт, написал за этот год немало бездарной (!!!) музыки, пытаясь подражать великому Себастьяну. (Здесь я испугался слова «бездарный», оно с трудом воспринимается рядом с абсолютным символом гениальности – именем Моцарта. Скажем лучше: неинтересной музыки.)
Ибо Моцарт, с его невиданной гениальностью, должен был испытать потрясение, когда играл для себя баховскую музыку.
Тогда-то ему и показалось, что он может продолжать сочинять как баховский наследник.
Но увы!!!
Роберт Шуман, познакомившись с музыкой Баха, сказал: «Все мы – пигмеи перед ним».
И, как это сейчас странно ни прозвучит, выходит,
дети И. С. Баха были реально озабочены той же проблемой, которую высказал пушкинский Сальери.
Получается, что и это высказывание Сальери – не просто злоба завистника, а интереснейшая и серьезная проблема.
Вот сыновья Баха и сделали свое благое дело для человечества.
Чтобы начать новую волну музыкального развития, необходимо было сделать вид, что папы как бы не существовало.
Только в этом случае и появилась возможность пойти по другой дорожке, исследовать иные возможные музыкальные пути.
И только через несколько поколений,
пройдя по прекрасным дорогам венских классиков,
познав сказочные сады романтиков,
мир узнал о Бахе, музыка которого обрушилась на человечество во всем своем величии.
Но она уже не смогла ничему и никому помешать.
И вот результат:
через много лет после смерти И. С. Баха на концерте, в котором звучала музыка любимого сына Баха Иоганна Христиана, в числе прочих слушателей сидел крохотный мальчишка.
Потрясенный музыкой до глубины души, он звонким голосом закричал: «Вот именно так надо писать музыку!»
Этим восторженным малышом был Вольфганг Амадеус Моцарт.
Глава 8 Патриотическая
Глава 9 О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)
Судя по всему, некоторые более глубокие исследователи, знакомясь с музыкой И. С. Баха, испытали потрясение, но оставили его при себе Не желали быть белыми воронами среди общепринятого тогда цвета нормальных черных птиц.
И, конечно же, возникает вопрос (думаю, вопрос этот уже висит на кончике языка у читателя):
ДА КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
Они что, эти сыновья Баха, с ума сошли, что ли?
А может быть, они просто негодяи?
А быть может или даже скорее всего, бездари, так и не понявшие, кем был их отец?
А может, завистники, как Сальери?
Нет, не завистники и не бездари. Не сошли с ума. Они поняли что-то очень важное в этой жизни. То, что понял пушкинский Сальери.
Именно его мысль, мысль, высказанная Сальери в «маленькой трагедии», может объяснить нам поведение сыновей Себастьяна Баха после смерти отца.
Помните? Главной причиной в необходимости уничтожить Моцарта Сальери называет невозможность продолжить его традицию, ибо для этого нужно, чтобы родился еще один Моцарт.
«Наследника нам не оставит он».
Дети И. С. Баха были талантливы. Очень талантливы. (Да просто достаточно послушать их выдающуюся музыку.)
Они были настолько талантливы и так глубоко понимали музыку отца,
что осознали одну вещь, поняли именно то, чего так опасался А. Сальери в отношении Моцарта.
И. С. Бах не оставил наследника.
Ни один из его выдающихся сыновей не является в этом смысле наследником, ибо не в состоянии продолжать традиции отца.
И не только сыновья.
Никто не может, и никогда не сможет.
Уже через много лет после Баха другой, пожалуй, единственный в истории музыки гений, который приближается к нему по грандиозности (а пожалуй, даже и равный ему),
Людвиг ван Бетховен, познакомившись (только для себя) и осознав ба-ховскую музыку, произнесет самое глубокое из всего, что сказано о Бахе: «Не ручьем, а океаном должен он зваться!»
(игра слов: «Бах» по-немецки – «ручей»).
Из океана ничего не вытекает, в него все впадает, океан – могучая законченная структура.
Именно это поняли и сыновья Баха.
Они осознали, что в эту сторону продолжения и пути нет.
И я прекрасно понимаю, что у Бетховена не было возможности познакомиться со всей музыкой Баха (вся музыка не найдена и сейчас).
Иначе Бетховен мог бы сказать, что Бах и Ручей, и Океан.
Знакомство с музыкой Баха вырвало целый год из жизни Моцарта.
Он, Моцарт, написал за этот год немало бездарной (!!!) музыки, пытаясь подражать великому Себастьяну. (Здесь я испугался слова «бездарный», оно с трудом воспринимается рядом с абсолютным символом гениальности – именем Моцарта. Скажем лучше: неинтересной музыки.)
Ибо Моцарт, с его невиданной гениальностью, должен был испытать потрясение, когда играл для себя баховскую музыку.
Тогда-то ему и показалось, что он может продолжать сочинять как баховский наследник.
Но увы!!!
Роберт Шуман, познакомившись с музыкой Баха, сказал: «Все мы – пигмеи перед ним».
И, как это сейчас странно ни прозвучит, выходит,
дети И. С. Баха были реально озабочены той же проблемой, которую высказал пушкинский Сальери.
Получается, что и это высказывание Сальери – не просто злоба завистника, а интереснейшая и серьезная проблема.
Вот сыновья Баха и сделали свое благое дело для человечества.
Чтобы начать новую волну музыкального развития, необходимо было сделать вид, что папы как бы не существовало.
Только в этом случае и появилась возможность пойти по другой дорожке, исследовать иные возможные музыкальные пути.
И только через несколько поколений,
пройдя по прекрасным дорогам венских классиков,
познав сказочные сады романтиков,
мир узнал о Бахе, музыка которого обрушилась на человечество во всем своем величии.
Но она уже не смогла ничему и никому помешать.
И вот результат:
через много лет после смерти И. С. Баха на концерте, в котором звучала музыка любимого сына Баха Иоганна Христиана, в числе прочих слушателей сидел крохотный мальчишка.
Потрясенный музыкой до глубины души, он звонким голосом закричал: «Вот именно так надо писать музыку!»
Этим восторженным малышом был Вольфганг Амадеус Моцарт.
Глава 8 Патриотическая
Живя на Западе и читая много западных книг о музыке, киплю благородным возмущением от вопиющей несправедливости.
Композиторов Могучей кучки, словно сговорившись, называют русскими националистами. Борюсь, как могу, но… один в поле не воин.
Все силы русского музыкознания должны восстать против подобного определения. (Меняю стиль от возмущения.)
Ибо определение сие ими, коварными западниками, дано не из музыки композиторов-кучкистов исходя, а сугубо из их, наших музыкальных гениев, порой слишком запальчивых высказываний.
Отрицали, видите ли, западное музыкальное образование в виде консерваторий, обзывали Рубинштейна то Тупинштейном, то Дубинштейном, а то и Нудинштейном.
Было, не спорим.
Мусоргский Чайковского даже «попкой» и «квашней» обзывал.
Иногда помягче: «сахарином» или «патокой». И все за музыку его прозападную.
Да чего там говорить: Мусоргский с Балакиревым порой такое в переписке загибали, что и не все сегодняшние красно-коричневые осмелились бы.
И немцы у них плохие, и французы (особливо ихний Дебюсси), да и братьям-славянам досталось (Сметана, скажем, по-ихнему толкованию, «испростоквашил» музыку).
А уж об евреях-то и говорить нечего – русскому человеку от евреев прямые убытки.
Вот так почитаешь все это, да и впрямь поверишь, что порченые они, композиторы, матерые. Дескать, национализмом дюже загноились. Только ведь умные люди говорят, что артиста сугубо на сцене смотреть надо, по сцене и судить.
А что артист этот делает опосля того, как
100 раз Гамлетом на сцене умер,
100 раз мир с головы на ноги переворачивал, да не перевернул;
какой он, родименький, дома или там в гостинице,
какой самогон хлещет,
или кого в постель тащит,
то вроде не дурного и не постороннего ума дело судить.
Надоело ему, актеру, 100 раз в год над Офелией плакать, вот и хочется ему в жизни и подругу повеселей, и друзей поприличней, чем Розенкранц с Гильденстерном.
Чтоб не на смерть его в аглицкие земли возили, а на похмелку в соседний магазин.
Сие в психологии называется компенсацией.
Компенсация нужна актеру нашему, Гамлету разнесчастному.
Вот так и композиторов-кучкистов-то русских определять надобно – не по тому, что они, сердешные, в письмах друг другу изливали (а не читай чужих писем, Запад, сами же рассуждаете о тайне переписки!), а по тому, что они в музыке насочиняли.
А в музыке своей они даже на понюшку табаку не националисты.
Как называется лучшее произведение «националиста» Балакирева?
Да «Исламей».
Тьфу ты! И название какое-то нерусское, а музыка – даже страшно подумать – фантазия на восточные темы. Вот те и националист!!!
А националист Кюи, так тот вообще понаписал столько всего, а ничегошеньки в веках не осталось.
Нет, вру, осталось – скрипачи очень любят играть его (чур, антисемиты, в обморок не падать!!!) «Еврейскую мелодию».
Вот, значит, и еще одного националиста нашли.
А уж музыкантам, да и простым музыкальным любителям Запада, про Римского-Корсакова как русского националиста и вообще стыдно заикаться,
ибо грешок у них, западных, есть —
больно они его «Шахерезаду» любят.
Как увидят в афишах стокгольмских или амстердамских про сказки арабско-корсаковские, так и кресла уютные у телевизоров голливудских своих бросают.
Уж больно мелодии там, в этой коварной «Шахерезаде», красивые, да и гармонии не хуже – слушать любота!
И вообще, ежели подумать, то получается: и наши композиторы, да и вроде как не наши вовсе.
Какие-то и впрямь исламские или иудейские (прости, Господи!) музыкальные сочинители.
Хотя так тоже говорить грешно – у Римского-то-Корсакова «Испанское каприччио» ну здорово звучит – самое что ни на есть испанское.
А в его опере «Садко»
(только не ругайтесь: за правду-то грех ругать!)
самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера: Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя да Веденецкого (так на Руси называли когда-то итальянский город Венецию).
И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно – можно им диверсию приписать: выбирают, мол, специально.
Так ведь на самой Руси-матушке любимые.
Да и слава Богу, на дворе – не 37-й год: за космополитизм не расстреляют и на Соловки не сошлют.
А когда народ просвещенный «Князя Игоря» Бородина слушает, то не только арией русского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается.
И отдельно в концертах играют как великую симфоническую музыку.
А слушает народ-то как! – любо-дорого посмотреть!
А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются – кто «восточнее» поставит!
А костюмы-то какие шьют, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната!
Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется.
Ему бы по отцу зваться (прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить), а не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении.
Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому – незаконный сын.
Теперь можно!
Давайте и назовем:
Александр Лукич Гедиани – сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани.
А глаза-то какие миндалевидные у сына! И смотреть долго не надо – прям грузинская царская кровь!
Так чего же тогда, спрашивается, русские-то музыки сочинители-националисты так испаниями да италиями с индиями увлекались? А ежели оперы писали, то из давних времен. Или вообще сказки.
Да потому, что не националисты они русские, а русские же романтики.
А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков – беги от действительности, как Лист бежал, как Берлиоз, как Шуман, куда угодно беги: в прошлое, в сказку, в далекие экзотические страны.
Лишь бы не в гоголевско-салтыковско-щедринско-достоевской России оставаться.
И бежали, да еще как.
Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему гению нашему сердешному компании подходящей и на Руси нет.
Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а всемирный Борец со Злом.
Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а вне всяких стилей.
Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев.
(Но это – цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.)
Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он.
Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по «кучке» хоть талант «Мусорянина» и признавали, но чаще идиотом звали.
И то: всю почти музыку будущего предвосхитил,
ни Шостакович без него,
ни Равель,
ни Прокофьев,
ни, опять же, Шнитке,
ни «шестерка» французская. У них, у французов этих из XX века, он, Мусорянин наш, главным образцом был.
А как не сказать о Равеле французском!
Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил – для оркестра все «Картинки» его переложил.
А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал так: «мели Емеля – твоя неделя», – его дело.
Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного.
И давайте, господа, не будем влезать в частную, можно сказать, переписку.
Потому как грех это великий.
Композиторов Могучей кучки, словно сговорившись, называют русскими националистами. Борюсь, как могу, но… один в поле не воин.
Все силы русского музыкознания должны восстать против подобного определения. (Меняю стиль от возмущения.)
Ибо определение сие ими, коварными западниками, дано не из музыки композиторов-кучкистов исходя, а сугубо из их, наших музыкальных гениев, порой слишком запальчивых высказываний.
Отрицали, видите ли, западное музыкальное образование в виде консерваторий, обзывали Рубинштейна то Тупинштейном, то Дубинштейном, а то и Нудинштейном.
Было, не спорим.
Мусоргский Чайковского даже «попкой» и «квашней» обзывал.
Иногда помягче: «сахарином» или «патокой». И все за музыку его прозападную.
Да чего там говорить: Мусоргский с Балакиревым порой такое в переписке загибали, что и не все сегодняшние красно-коричневые осмелились бы.
И немцы у них плохие, и французы (особливо ихний Дебюсси), да и братьям-славянам досталось (Сметана, скажем, по-ихнему толкованию, «испростоквашил» музыку).
А уж об евреях-то и говорить нечего – русскому человеку от евреев прямые убытки.
Вот так почитаешь все это, да и впрямь поверишь, что порченые они, композиторы, матерые. Дескать, национализмом дюже загноились. Только ведь умные люди говорят, что артиста сугубо на сцене смотреть надо, по сцене и судить.
А что артист этот делает опосля того, как
100 раз Гамлетом на сцене умер,
100 раз мир с головы на ноги переворачивал, да не перевернул;
какой он, родименький, дома или там в гостинице,
какой самогон хлещет,
или кого в постель тащит,
то вроде не дурного и не постороннего ума дело судить.
Надоело ему, актеру, 100 раз в год над Офелией плакать, вот и хочется ему в жизни и подругу повеселей, и друзей поприличней, чем Розенкранц с Гильденстерном.
Чтоб не на смерть его в аглицкие земли возили, а на похмелку в соседний магазин.
Сие в психологии называется компенсацией.
Компенсация нужна актеру нашему, Гамлету разнесчастному.
Вот так и композиторов-кучкистов-то русских определять надобно – не по тому, что они, сердешные, в письмах друг другу изливали (а не читай чужих писем, Запад, сами же рассуждаете о тайне переписки!), а по тому, что они в музыке насочиняли.
А в музыке своей они даже на понюшку табаку не националисты.
Как называется лучшее произведение «националиста» Балакирева?
Да «Исламей».
Тьфу ты! И название какое-то нерусское, а музыка – даже страшно подумать – фантазия на восточные темы. Вот те и националист!!!
А националист Кюи, так тот вообще понаписал столько всего, а ничегошеньки в веках не осталось.
Нет, вру, осталось – скрипачи очень любят играть его (чур, антисемиты, в обморок не падать!!!) «Еврейскую мелодию».
Вот, значит, и еще одного националиста нашли.
А уж музыкантам, да и простым музыкальным любителям Запада, про Римского-Корсакова как русского националиста и вообще стыдно заикаться,
ибо грешок у них, западных, есть —
больно они его «Шахерезаду» любят.
Как увидят в афишах стокгольмских или амстердамских про сказки арабско-корсаковские, так и кресла уютные у телевизоров голливудских своих бросают.
Уж больно мелодии там, в этой коварной «Шахерезаде», красивые, да и гармонии не хуже – слушать любота!
И вообще, ежели подумать, то получается: и наши композиторы, да и вроде как не наши вовсе.
Какие-то и впрямь исламские или иудейские (прости, Господи!) музыкальные сочинители.
Хотя так тоже говорить грешно – у Римского-то-Корсакова «Испанское каприччио» ну здорово звучит – самое что ни на есть испанское.
А в его опере «Садко»
(только не ругайтесь: за правду-то грех ругать!)
самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера: Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя да Веденецкого (так на Руси называли когда-то итальянский город Венецию).
И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно – можно им диверсию приписать: выбирают, мол, специально.
Так ведь на самой Руси-матушке любимые.
Да и слава Богу, на дворе – не 37-й год: за космополитизм не расстреляют и на Соловки не сошлют.
А когда народ просвещенный «Князя Игоря» Бородина слушает, то не только арией русского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается.
И отдельно в концертах играют как великую симфоническую музыку.
А слушает народ-то как! – любо-дорого посмотреть!
А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются – кто «восточнее» поставит!
А костюмы-то какие шьют, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната!
Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется.
Ему бы по отцу зваться (прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить), а не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении.
Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому – незаконный сын.
Теперь можно!
Давайте и назовем:
Александр Лукич Гедиани – сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани.
А глаза-то какие миндалевидные у сына! И смотреть долго не надо – прям грузинская царская кровь!
Так чего же тогда, спрашивается, русские-то музыки сочинители-националисты так испаниями да италиями с индиями увлекались? А ежели оперы писали, то из давних времен. Или вообще сказки.
Да потому, что не националисты они русские, а русские же романтики.
А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков – беги от действительности, как Лист бежал, как Берлиоз, как Шуман, куда угодно беги: в прошлое, в сказку, в далекие экзотические страны.
Лишь бы не в гоголевско-салтыковско-щедринско-достоевской России оставаться.
И бежали, да еще как.
Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему гению нашему сердешному компании подходящей и на Руси нет.
Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а всемирный Борец со Злом.
Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а вне всяких стилей.
Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев.
(Но это – цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.)
Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он.
Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по «кучке» хоть талант «Мусорянина» и признавали, но чаще идиотом звали.
И то: всю почти музыку будущего предвосхитил,
ни Шостакович без него,
ни Равель,
ни Прокофьев,
ни, опять же, Шнитке,
ни «шестерка» французская. У них, у французов этих из XX века, он, Мусорянин наш, главным образцом был.
А как не сказать о Равеле французском!
Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил – для оркестра все «Картинки» его переложил.
А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал так: «мели Емеля – твоя неделя», – его дело.
Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного.
И давайте, господа, не будем влезать в частную, можно сказать, переписку.
Потому как грех это великий.
Глава 9 О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)
Мне в детстве не повезло:
я очень рано познал нелюбовь.
Маму любил, папу любил, друзей любил.
А невзлюбил лишь советскую власть.
Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла,
и кнутом, и пряником.
И влюбила-таки в себя многих-многих (а может, притворялись?).
Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность.
И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский.
А может, не он.
Может, сам я виноват: не по годам рано им увлекся. Читать его начал, когда мне было только 12 лет.
Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего уж не поделаешь.
Прочитал я его, Достоевского, «Преступление и наказание» и… невзлюбил советскую власть.
Все думали, что я перерасту эту нелюбовь свою (даже вкусы, а не только взгляды меняются: в детстве в рот не могут взять маслины, а потом – не оторваться).
Но я своей нелюбви не перерос.
Слава Богу, дожил до того, что она, эта власть проклятая, сама себя изжила.
Но какое же отношение «Преступление и наказание» имело к моей нелюбви и к этой власти?
А вот какое.
Прочитав роман два раза подряд, я пришел к убеждению, что вместе с еще 250 миллионами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова.
Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно (нужно!) назвать фашистско-коммунистической.
Каким образом? А вот каким!
Раскольников планирует убийство старухи-процентщицы, чтобы после убийства забрать у нее деньги и разделить их между бедными.
Но поскольку Раскольников, как и Сальери, – не профессиональный убийца, а философ, то для совершения убийства ему нужно найти правовое или философское обоснование, которое позволит ему, во-первых, убить, а во-вторых, оправдать убийство.
Вот его рассуждение и оправдание:
«…по моему разумению, человечество делится на две категории – истинно люди и существа, необходимые лишь для размножения».
Так вот, согласно Раскольникову «истинно люди» для достижения высших целей имеют право переступить через кровь.
То есть законы пишутся для «размноженцев», коих большинство; подлинно люди не признают этих законов, ибо им дано познание законов «высших».
Чья это идеология?
Конечно же, «сверхчеловеков» – на ней вся идеология фашизма держится, ибо эта идеология фашистских концлагерей, где «сверхчеловеки» распоряжаются судьбой «недочеловеков».
Если бы я, читая роман, перестал размышлять дальше, все, быть может, так и закончилось бы – лишний раз подтвержденной нелюбовью к фашизму.

Но я продолжил дальнейшие размышления.
Кто такая старуха-процентщица?
Капиталист – владелец капитала.
Что такое капитал согласно Марксу?
Стоимость, дающая прибавочную стоимость.
Что совершает Раскольников, убив старуху?
Революцию! Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал… Знакомо? Конечно же, это путь ленинизма!
Итак, идеология фашизма (в его крайней форме – гитлеризме) и коммунизма (в его крайней форме – ленинизме) произрастает из единого идеологического зерна, оба пути ведут к убийству, в обоих принципах мышления нарушена «только» одна-единственная заповедь:
НЕ УБИЙ!
Все остальное – софистика.
Когда я это понял – трудно мне стало жить, признаваясь в любви (или хотя бы не признаваясь в ненависти) к системе, базирующейся на убийстве.
Вспоминаю детство и краснею за некоторые эпизоды, когда вся моя нелюбовь к советской власти раскрывалась в общении с мамой и папой, ибо на кого еще можно было тогда обрушивать подобные идеологические выпады, не рискуя жизнью или хотя бы свободой?
Каждый день, когда все собирались дома, я начинал свои антикоммунистические высказывания, смело приглашая моих любимых родителей к дискуссии.
Моя бедная мама – убежденная коммунистка – сражалась со мной изо всех сил. Папа явно был на моей стороне, но он не хотел расстраивать маму, и цель у него была – успокоить обоих.
И вот однажды пришла к нам в гости Ася Семеновна, очень близкий друг семьи.
Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня: «Не знаю, что с ним делать, – несет сплошную антисоветчину, у меня уже сердце от этих разговоров болит!»
Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недоволен. А недоволен я, как вы понимаете, был советской властью.
Я обрадовался и, четко аргументируя, изложил по пунктам причины моей нелюбви.
Я был логичен, последователен, мудр и слегка язвителен.
Никогда не забуду, что ответила на все мои доводы Ася Семеновна.
Она произнесла буквально следующее:
«Ах, Мишенька, дорогой, советская власть – шмоветская власть – это все ерунда, мелочь, пустяк. Лишь бы мамочка была здорова».
Это прозвучало так неожиданно, так естественно и так верно, что я опешил и впервые не нашелся, что ответить.
Права была Ася Семеновна!
Мамино здоровье важнее советской власти.
Да и антисоветизм ее высказывания был куда сильнее моего: он был спонтанный и мудрый.
Советская власть, шмовецкая власть, любая власть должна отступить перед здоровьем моей мамы. И это уже не абстрактный гуманизм, а конкретный.
Так вот и мучился я, болтаясь между двумя формами гуманизма.
Но было в моей жизни еще одно чувство, которое если и не примирило меня с советской властью, то отбросило мою ненависть к ней на задний план.
(Хотя я никогда не прощу этой власти среди многого прочего тысячи и тысячи часов моей жизни, бездарно потраченных на конспектирование классиков марксизма, еще тысячи бесценных часов юности, отданных этим диким комсомольско-профсоюзным собраниям, нечеловечески глупым лекциям по истории КПСС, научному коммунизму, марксистско-ленинской философии, пожизненного для меня запрета выезжать в другие страны.)
А примирило меня с жизнью в этой стране чувство гордости
за ее уникальные традиции культуры прошлого,
за удивительных людей – представителей старой русской интеллигенции (ничего подобного в мире больше нет), часть которых я еще, слава Богу, успел встретить;
за величайшие в мире традиции гуманитарного образования, которые моя страна развивала вплоть до страшного большевистского переворота.
Примерно в то же время, когда я читал Достоевского, мне попалась на глаза маленькая книжечка о традициях русской культуры.
Сейчас уже не помню, сколько и какие там авторы, у меня ее давно кто-то зачитал.
Но ясно помню потрясшую меня до глубины души историю времен русской дореволюционной гимназии.
История следующая.
Это было в 1913 году.
Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии, приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке.
Девочка открыла крышку, а там ничего не написано.
Кроме пяти нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала:
– Дядюшка, я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: «Я люблю Вас».
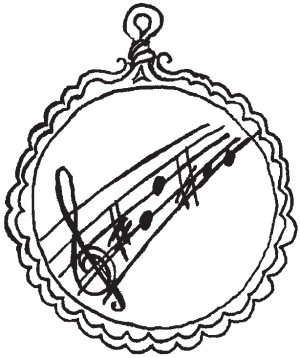
И вот здесь возникает вопрос.
Вы представляете себе, КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин».
И начинается это ариозо – признание восемнадцатилетнего дворянина, поэта Владимира Ленского шестнадцатилетней дворянке Ольге Лариной – словами «Я люблю Вас» и четырьмя нотами, которые девочка и увидала на дядюшкином медальоне.
Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то полученное девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой.
Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет!
Каким же образом ее успели ТАК НАУЧИТЬ?
И не в специальной музыкальной школе, и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах.
Вопрос, как учили эту девочку, я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов генофонда.
КАК НУЖНО НАУЧИТЬ МАЛЬЧИКА, ЧТОБЫ ОН КОГДА-НИБУДЬ
ПОДОШЕЛ К ТАКОЙ ДЕВОЧКЕ, ЗАГОВОРИЛ С НЕЙ,
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ЕЕ КАК ДОСТОЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК,
КАК ЛИЧНОСТЬ, А СО ВРЕМЕНЕМ ЗАВОЕВАЛ ЕЕ СЕРДЦЕ?
Здесь уже никакими модными штанами и престижными кроссовками делу не поможешь.
Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю «дискотечностью».
К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет.
Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание.
Ведь если мудро смотреть вперед – можно предположить, что эти дети в будущем поженятся, у них будут свои дети.
И они должны, естественно, воспитать этих детей на соответствующем духовном уровне.
Таким образом, речь здесь идет об УРОВНЕ КОНТАКТА, уровне духовного, культурного соответствия.
Мальчик обязательно должен быть духовным партнером этой девочки, находиться на уровне этой девочки, ее духовных запросов и приоритетов.
Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или, лучше сказать, формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего.
Но существовал ли в русском обществе того времени мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да!
Вы не задумывались, почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки?
Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки.
С одной стороны, офицер – защитник, воин,
а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена.
У вас, читатель, голова не кружится от моих необузданных фантазий?
А ведь я ничего не придумываю – читайте побольше русской литературы того времени.
А поэтические диспуты с сочинением и чтением собственных стихов прямо в казарме не хотите?
А знание трех-четырех иностранных языков?
Ура!
Мы нашли нашей девочке партнера!
И речь здесь идет о достойном партнерстве, поверьте.

Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобного которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала.
И большая часть того, что в мире известно и ценимо в русской культуре, – именно эти 100 лет невиданного расцвета литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства.
Люди, ставшие участниками этого невероятного, не имеющего аналогий в истории культуры духовного и творческого взрыва, своим поведением, глубиной мышления, человечностью обозначили уникальнейшую группу русских людей, которую мы с гордостью именовали:
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.
Об этом чисто русском явлении нужно писать огромные, серьезные исследования, необходимо изучать этот феномен.
И действительно: как СТРАНА,
не знавшая античной эпохи,
не прошедшая через средневековые университеты,
оставшаяся в стороне от эпохи Возрождения,
еще недавно чуть ли не насильственно толкаемая Петром Великим к необходимости подражать Западной Европе, до 1861 года остававшаяся, по сути, рабовладельческой,
неожиданно создает такие шедевры культуры, порождает таких высочайше европейски развитых людей, создает всемирного уровня литературу, музыку, философию?
Ведь
Пушкин и Лермонтов,
Тютчев и Фет,
Лесков и Гоголь,
Тургенев и Гончаров,
Толстой и Достоевский,
Мусоргский и Чайковский,
Чехов и Левитан,
Репин и Серов,
Суриков и Врубель,
Скрябин и Рахманинов,
Кандинский и Шагал,
Стравинский и Бенуа и многие-многие другие —
величайший подарок от России всей цивилизации.
Но время их существования и творчества – всего одно столетие (!!!).
Вы только подумайте, какой духовный толчок для всей цивилизации за каких-нибудь сто лет!
Представить себе интеллектуальную мысль Планеты без этих русских ста лет не просто невозможно, это была бы катастрофа планетарного масштаба!
Именно поэтому удивительный немецкий мыслитель Рудольф Штейнер в начале XX века призывает всю интеллектуальную Европу к путешествию на Восток.
Страшное гитлеровское Drang nach Osten (путь на Восток) – это всего-навсего нагло украденный и искаженный призыв Штейнера.
У Штейнера же это был духовный клич, призыв к путешествию всех интеллектуальных сил в Россию для того, чтобы оживить духовно отживающую старую и дряхлую европейскую цивилизацию.
А если всерьез заняться изучением того, в какой степени русская культура XIX века повлияла на культуру всего мира, то нельзя не возгордиться всерьез.
И в самом деле,
я очень рано познал нелюбовь.
Маму любил, папу любил, друзей любил.
А невзлюбил лишь советскую власть.
Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла,
и кнутом, и пряником.
И влюбила-таки в себя многих-многих (а может, притворялись?).
Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность.
И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский.
А может, не он.
Может, сам я виноват: не по годам рано им увлекся. Читать его начал, когда мне было только 12 лет.
Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего уж не поделаешь.
Прочитал я его, Достоевского, «Преступление и наказание» и… невзлюбил советскую власть.
Все думали, что я перерасту эту нелюбовь свою (даже вкусы, а не только взгляды меняются: в детстве в рот не могут взять маслины, а потом – не оторваться).
Но я своей нелюбви не перерос.
Слава Богу, дожил до того, что она, эта власть проклятая, сама себя изжила.
Но какое же отношение «Преступление и наказание» имело к моей нелюбви и к этой власти?
А вот какое.
Прочитав роман два раза подряд, я пришел к убеждению, что вместе с еще 250 миллионами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова.
Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно (нужно!) назвать фашистско-коммунистической.
Каким образом? А вот каким!
Раскольников планирует убийство старухи-процентщицы, чтобы после убийства забрать у нее деньги и разделить их между бедными.
Но поскольку Раскольников, как и Сальери, – не профессиональный убийца, а философ, то для совершения убийства ему нужно найти правовое или философское обоснование, которое позволит ему, во-первых, убить, а во-вторых, оправдать убийство.
Вот его рассуждение и оправдание:
«…по моему разумению, человечество делится на две категории – истинно люди и существа, необходимые лишь для размножения».
Так вот, согласно Раскольникову «истинно люди» для достижения высших целей имеют право переступить через кровь.
То есть законы пишутся для «размноженцев», коих большинство; подлинно люди не признают этих законов, ибо им дано познание законов «высших».
Чья это идеология?
Конечно же, «сверхчеловеков» – на ней вся идеология фашизма держится, ибо эта идеология фашистских концлагерей, где «сверхчеловеки» распоряжаются судьбой «недочеловеков».
Если бы я, читая роман, перестал размышлять дальше, все, быть может, так и закончилось бы – лишний раз подтвержденной нелюбовью к фашизму.

Но я продолжил дальнейшие размышления.
Кто такая старуха-процентщица?
Капиталист – владелец капитала.
Что такое капитал согласно Марксу?
Стоимость, дающая прибавочную стоимость.
Что совершает Раскольников, убив старуху?
Революцию! Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал… Знакомо? Конечно же, это путь ленинизма!
Итак, идеология фашизма (в его крайней форме – гитлеризме) и коммунизма (в его крайней форме – ленинизме) произрастает из единого идеологического зерна, оба пути ведут к убийству, в обоих принципах мышления нарушена «только» одна-единственная заповедь:
НЕ УБИЙ!
Все остальное – софистика.
Когда я это понял – трудно мне стало жить, признаваясь в любви (или хотя бы не признаваясь в ненависти) к системе, базирующейся на убийстве.
Вспоминаю детство и краснею за некоторые эпизоды, когда вся моя нелюбовь к советской власти раскрывалась в общении с мамой и папой, ибо на кого еще можно было тогда обрушивать подобные идеологические выпады, не рискуя жизнью или хотя бы свободой?
Каждый день, когда все собирались дома, я начинал свои антикоммунистические высказывания, смело приглашая моих любимых родителей к дискуссии.
Моя бедная мама – убежденная коммунистка – сражалась со мной изо всех сил. Папа явно был на моей стороне, но он не хотел расстраивать маму, и цель у него была – успокоить обоих.
И вот однажды пришла к нам в гости Ася Семеновна, очень близкий друг семьи.
Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня: «Не знаю, что с ним делать, – несет сплошную антисоветчину, у меня уже сердце от этих разговоров болит!»
Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недоволен. А недоволен я, как вы понимаете, был советской властью.
Я обрадовался и, четко аргументируя, изложил по пунктам причины моей нелюбви.
Я был логичен, последователен, мудр и слегка язвителен.
Никогда не забуду, что ответила на все мои доводы Ася Семеновна.
Она произнесла буквально следующее:
«Ах, Мишенька, дорогой, советская власть – шмоветская власть – это все ерунда, мелочь, пустяк. Лишь бы мамочка была здорова».
Это прозвучало так неожиданно, так естественно и так верно, что я опешил и впервые не нашелся, что ответить.
Права была Ася Семеновна!
Мамино здоровье важнее советской власти.
Да и антисоветизм ее высказывания был куда сильнее моего: он был спонтанный и мудрый.
Советская власть, шмовецкая власть, любая власть должна отступить перед здоровьем моей мамы. И это уже не абстрактный гуманизм, а конкретный.
Так вот и мучился я, болтаясь между двумя формами гуманизма.
Но было в моей жизни еще одно чувство, которое если и не примирило меня с советской властью, то отбросило мою ненависть к ней на задний план.
(Хотя я никогда не прощу этой власти среди многого прочего тысячи и тысячи часов моей жизни, бездарно потраченных на конспектирование классиков марксизма, еще тысячи бесценных часов юности, отданных этим диким комсомольско-профсоюзным собраниям, нечеловечески глупым лекциям по истории КПСС, научному коммунизму, марксистско-ленинской философии, пожизненного для меня запрета выезжать в другие страны.)
А примирило меня с жизнью в этой стране чувство гордости
за ее уникальные традиции культуры прошлого,
за удивительных людей – представителей старой русской интеллигенции (ничего подобного в мире больше нет), часть которых я еще, слава Богу, успел встретить;
за величайшие в мире традиции гуманитарного образования, которые моя страна развивала вплоть до страшного большевистского переворота.
Примерно в то же время, когда я читал Достоевского, мне попалась на глаза маленькая книжечка о традициях русской культуры.
Сейчас уже не помню, сколько и какие там авторы, у меня ее давно кто-то зачитал.
Но ясно помню потрясшую меня до глубины души историю времен русской дореволюционной гимназии.
История следующая.
Это было в 1913 году.
Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии, приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке.
Девочка открыла крышку, а там ничего не написано.
Кроме пяти нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала:
– Дядюшка, я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: «Я люблю Вас».
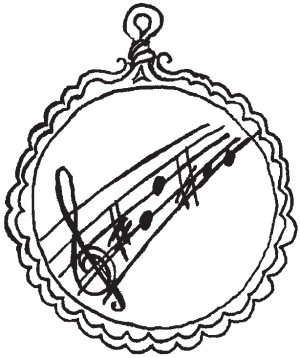
И вот здесь возникает вопрос.
Вы представляете себе, КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин».
И начинается это ариозо – признание восемнадцатилетнего дворянина, поэта Владимира Ленского шестнадцатилетней дворянке Ольге Лариной – словами «Я люблю Вас» и четырьмя нотами, которые девочка и увидала на дядюшкином медальоне.
Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то полученное девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой.
Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет!
Каким же образом ее успели ТАК НАУЧИТЬ?
И не в специальной музыкальной школе, и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах.
Вопрос, как учили эту девочку, я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов генофонда.
КАК НУЖНО НАУЧИТЬ МАЛЬЧИКА, ЧТОБЫ ОН КОГДА-НИБУДЬ
ПОДОШЕЛ К ТАКОЙ ДЕВОЧКЕ, ЗАГОВОРИЛ С НЕЙ,
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ЕЕ КАК ДОСТОЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК,
КАК ЛИЧНОСТЬ, А СО ВРЕМЕНЕМ ЗАВОЕВАЛ ЕЕ СЕРДЦЕ?
Здесь уже никакими модными штанами и престижными кроссовками делу не поможешь.
Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю «дискотечностью».
К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет.
Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание.
Ведь если мудро смотреть вперед – можно предположить, что эти дети в будущем поженятся, у них будут свои дети.
И они должны, естественно, воспитать этих детей на соответствующем духовном уровне.
Таким образом, речь здесь идет об УРОВНЕ КОНТАКТА, уровне духовного, культурного соответствия.
Мальчик обязательно должен быть духовным партнером этой девочки, находиться на уровне этой девочки, ее духовных запросов и приоритетов.
Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или, лучше сказать, формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего.
Но существовал ли в русском обществе того времени мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да!
Вы не задумывались, почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки?
Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки.
С одной стороны, офицер – защитник, воин,
а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена.
У вас, читатель, голова не кружится от моих необузданных фантазий?
А ведь я ничего не придумываю – читайте побольше русской литературы того времени.
А поэтические диспуты с сочинением и чтением собственных стихов прямо в казарме не хотите?
А знание трех-четырех иностранных языков?
Ура!
Мы нашли нашей девочке партнера!
И речь здесь идет о достойном партнерстве, поверьте.

Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобного которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала.
И большая часть того, что в мире известно и ценимо в русской культуре, – именно эти 100 лет невиданного расцвета литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства.
Люди, ставшие участниками этого невероятного, не имеющего аналогий в истории культуры духовного и творческого взрыва, своим поведением, глубиной мышления, человечностью обозначили уникальнейшую группу русских людей, которую мы с гордостью именовали:
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.
Об этом чисто русском явлении нужно писать огромные, серьезные исследования, необходимо изучать этот феномен.
И действительно: как СТРАНА,
не знавшая античной эпохи,
не прошедшая через средневековые университеты,
оставшаяся в стороне от эпохи Возрождения,
еще недавно чуть ли не насильственно толкаемая Петром Великим к необходимости подражать Западной Европе, до 1861 года остававшаяся, по сути, рабовладельческой,
неожиданно создает такие шедевры культуры, порождает таких высочайше европейски развитых людей, создает всемирного уровня литературу, музыку, философию?
Ведь
Пушкин и Лермонтов,
Тютчев и Фет,
Лесков и Гоголь,
Тургенев и Гончаров,
Толстой и Достоевский,
Мусоргский и Чайковский,
Чехов и Левитан,
Репин и Серов,
Суриков и Врубель,
Скрябин и Рахманинов,
Кандинский и Шагал,
Стравинский и Бенуа и многие-многие другие —
величайший подарок от России всей цивилизации.
Но время их существования и творчества – всего одно столетие (!!!).
Вы только подумайте, какой духовный толчок для всей цивилизации за каких-нибудь сто лет!
Представить себе интеллектуальную мысль Планеты без этих русских ста лет не просто невозможно, это была бы катастрофа планетарного масштаба!
Именно поэтому удивительный немецкий мыслитель Рудольф Штейнер в начале XX века призывает всю интеллектуальную Европу к путешествию на Восток.
Страшное гитлеровское Drang nach Osten (путь на Восток) – это всего-навсего нагло украденный и искаженный призыв Штейнера.
У Штейнера же это был духовный клич, призыв к путешествию всех интеллектуальных сил в Россию для того, чтобы оживить духовно отживающую старую и дряхлую европейскую цивилизацию.
А если всерьез заняться изучением того, в какой степени русская культура XIX века повлияла на культуру всего мира, то нельзя не возгордиться всерьез.
И в самом деле,
