Страница:
— Как! Вы не знали! Жан-Мари Гюстав Ле Клезио стрелялся зимой с Васкесом Монтальбаном.
— А что послужило причиной? Женщина?
— Хуже. Высокий блондин из Ниццы, до тех пор такой покладистый, надавал испанцу пощечин за то, что тот зло посмеялся над экологами.
— Ну и ну!
— Говорят, дни Гонкуровской академии сочтены. После жалобы кандидата-неудачника Европейский суд якобы готовит постановление, запрещающее жюри голосовать за того, кто печатается у тех же издателей, что и члены жюри.
— Да ведь это новое двадцать четвертое августа[41]!
— Как верно вы заметили!
— Вы меня обнадеживаете, а то уж у меня сложилось впечатление, что литературной жизни во Франции пришел конец.
— Все изменилось после кризиса. Никто не желает читать размытых, тягомотных книг. Писателям пришлось переделать себя в бойцов.
— Как в шестнадцатом веке?
— Совершенно верно.
Она долго сидела, глядя на небо, вся в мыслях о романтических персонажах, в которых превратились западные литераторы — в этаких бреттеров, рыцарей.
Габриель понимал, что ее не проведешь. Как и то, что потребность в мечтах порождена одиночеством. Он мог лишь воображать себе жизнь этой женщины с повадками принцессы, ушедшей с головой в романы, о существовании которых миллионы ее земляков и не подозревали.
Он положил руку ей на колено. От одиночества у него развилась потребность касаться людей.
Встречи с г-жой Ляо наполняли его не испытанными прежде покоем и теплом. Годами он был пленником тайной любви с ее отменами свиданий в последнюю минуту, с любовью на скорую руку… Он не помнил, чтобы левое запястье Элизабет хоть раз было без наручных часов, ему даже казалось, что внутри нее были часы, запрещавшие ей хоть ненадолго остановиться. И вот теперь эта неспешность, размеренность…
Ему казалось, Время сжалилось над ним: созвало часы, минуты и секунды и держало перед ними речь, суть которой заключалась в том, что стоило бы предложить передышку Габриелю, оставить его в покое.
Старики радостно хлопали друг друга по плечу.
— Удалось!
— Ты был прав.
— Сколько еще продержится вдовушка?
— Он менее поспешен с нею, чем с едой.
— Заметили бабочку-луну, которая беспрестанно кружит возле них?
— Знак поздней любви, которая обещает быть страстной.
— Смотрите-ка, еще нет одиннадцати, а он уже ложится.
— И правильно. В нашем возрасте грех переутомляться.
LXI
LXII
LXIII
LXIV
— А что послужило причиной? Женщина?
— Хуже. Высокий блондин из Ниццы, до тех пор такой покладистый, надавал испанцу пощечин за то, что тот зло посмеялся над экологами.
— Ну и ну!
— Говорят, дни Гонкуровской академии сочтены. После жалобы кандидата-неудачника Европейский суд якобы готовит постановление, запрещающее жюри голосовать за того, кто печатается у тех же издателей, что и члены жюри.
— Да ведь это новое двадцать четвертое августа[41]!
— Как верно вы заметили!
— Вы меня обнадеживаете, а то уж у меня сложилось впечатление, что литературной жизни во Франции пришел конец.
— Все изменилось после кризиса. Никто не желает читать размытых, тягомотных книг. Писателям пришлось переделать себя в бойцов.
— Как в шестнадцатом веке?
— Совершенно верно.
Она долго сидела, глядя на небо, вся в мыслях о романтических персонажах, в которых превратились западные литераторы — в этаких бреттеров, рыцарей.
Габриель понимал, что ее не проведешь. Как и то, что потребность в мечтах порождена одиночеством. Он мог лишь воображать себе жизнь этой женщины с повадками принцессы, ушедшей с головой в романы, о существовании которых миллионы ее земляков и не подозревали.
Он положил руку ей на колено. От одиночества у него развилась потребность касаться людей.
Встречи с г-жой Ляо наполняли его не испытанными прежде покоем и теплом. Годами он был пленником тайной любви с ее отменами свиданий в последнюю минуту, с любовью на скорую руку… Он не помнил, чтобы левое запястье Элизабет хоть раз было без наручных часов, ему даже казалось, что внутри нее были часы, запрещавшие ей хоть ненадолго остановиться. И вот теперь эта неспешность, размеренность…
Ему казалось, Время сжалилось над ним: созвало часы, минуты и секунды и держало перед ними речь, суть которой заключалась в том, что стоило бы предложить передышку Габриелю, оставить его в покое.
Старики радостно хлопали друг друга по плечу.
— Удалось!
— Ты был прав.
— Сколько еще продержится вдовушка?
— Он менее поспешен с нею, чем с едой.
— Заметили бабочку-луну, которая беспрестанно кружит возле них?
— Знак поздней любви, которая обещает быть страстной.
— Смотрите-ка, еще нет одиннадцати, а он уже ложится.
— И правильно. В нашем возрасте грех переутомляться.
LXI
В это же самое время на другом конце земли Элизабет вручали орден Почетного Легиона «за сорокалетнюю безупречную службу». В огромном зале приемов нового здания Министерства финансов сплошь из стекла и мрамора, чем-то напоминающего гигантский писсуар, государственный секретарь долго воспевал «исключительную женщину, неустанную воительницу на всех фронтах международной торговли, незаменимого союзника французской промышленности».
— Премьер-министр возложил на меня почетную обязанность объявить вам о его безусловном намерении представить на рассмотрение Ассамблеи в ближайшие три месяца проект, радикально упрощающий нашу процедуру поддержки экспорта. Женщина, которую мы сегодня чествуем, является живым примером несовершенства нашего с вами пола, господа, поскольку счастливо совмещает в себе чиновника высокого ранга и преданную супругу. Пользуясь случаем, я приветствую счастливчика, известного в арбитражных кругах адвоката, чья подруга, являясь к тому же матерью троих детей — мальчиков, уже сделавших свой жизненный выбор, что является показателем высокого качества полученного ими образования, и т. д. (Аплодисменты.) Пробил час ухода на пенсию. Плохая новость для государства, теряющего одного из своих подвижников. Испытание для человека вашей закалки, личности вашего масштаба. Я узнал, что уже с завтрашнего дня вы принимаетесь за новый вид деятельности… От имени президента Республики… — Оратор приблизился и встал на цыпочки. — Провозглашаю Вас рыцарем ордена Почетного Легиона.
На желтом пиджаке от Унгаро заблестел крест.
Все бросились поздравлять, целовать ее и, щадя, говорили не о том, что было, а о том, что будет, предлагали и новые поприща: «Алкатель», «Рено» нуждались в советниках такого ранга. Пирожные, комплименты, шампанское. Среди немногих слабостей за Элизабет числилось неравнодушное отношение к этому игристому напитку, а также к тарталеткам и канапе со спаржей и икрой. Она повторяла про себя свое заветное «я счастлива, я сделала правильный выбор!». Ее семейство преисполнилось гордости.
Словом, все шло к лучшему в этом лучшем из миров.
Почему же тогда, несмотря на всю сладость момента, в воздухе запахло грозой? Элизабет, как известно, не была любительницей портить себе жизнь. Она безнадежно искала причину дискомфорта, чтобы побыстрее устранить ее и предаться ощущению неповторимости происходящего с ней. Поскольку ничего найти не удавалось, в ней нарастало бешенство.
— Мама, что-то не так? — спросил младший сын.
— Не составишь ли ты компанию президенту Лагардену? Он совсем один.
Новоиспеченный рыцарь ощущал себя словно ужаленным целым невидимым роем. Она бросила взгляд на крест: не откололся ли, поскольку именно в районе левой груди чувствовалось какое-то покалывание, похожее на укусы.
Верная первейшему из своих принципов — «Никогда не показывать своего настроения», она до конца коктейля исполняла роли, которых от нее ожидали: умиление, благодарность, решительность, обескураживающая моложавость…
— Уф! — выдохнула наконец Элизабет, упав на переднее сиденье автомобиля рядом с мужем.
— Великолепное торжество. Тебя проводили в момент твоего наивысшего расцвета.
— Я еще вернусь.
— Не сомневаюсь.
В темноте паркинга она наконец уступила долго сдерживаемому желанию почесать предплечье.
— Что с тобой? Уж не клопы ли развелись в мини^ стерстве?
— Видишь ли… Дело в том… — Ей все не удавалось отдать предпочтение одной из многочисленных причин. Но затем вдруг она по-спортивному ударила кулаком правой руки в ладонь левой. — Дело в том, что у меня аллергия на Почетный Легион.
— Я уже ничему не удивляюсь, живя с тобой.
Она пожала плечами, отцепила орден, попросила мужа вести машину помедленнее, бросила крест в перчаточное отделение, где ему предстояло провести долгих три месяца в компании щетки для волос, карты Иль-де-Франса и солнцезащитных очков.
В супружеской постели покалывание продолжалось. К этому добавилось и еще кое-что: ощущение, что чья-то маленькая железная рука, пройдясь по всему ее телу, вдруг вонзилась в него повыше живота между ребер и стала впиваться, словно желая задушить что-то, вечно ускользающее от нее.
— Что я вам сделала? Почему вы меня мучаете? — тихо спросила она.
Рука не отвечала.
Этот разговор глухих длился две недели. Днем таинственные мучители исчезали. Может, потому, что не могли угнаться за Элизабет? Уж очень прытко перебегала она из Префектуры полиции в редакцию «Ле Эко», оттуда в «Икеа», к агенту по недвижимости, к дизайнеру, на чай со старым приятелем из «Франс Телеком»… Дело в том, что она создавала собственное предприятие.
А вечерами, чтобы уж окончательно обессилеть и кануть в сон, как в пропасть, посещала дипломатические рауты, присутствовала на приемах в честь национальных праздников Люксембурга или Пакистана, в честь годовщины смерти Ким Иль Суна, закрытия XX коллоквиума, организованного Обществом франко-кенийской дружбы. И раздавала визитки своего будущего детища:
И повсюду послы принимали одинаково убежденный вид под струи шампанского одной и той же марки «Рёдер».
— За научное и технологическое сотрудничество наших стран. Ваша ассоциация окажет этому решительное содействие.
Возвращаясь домой, она уже в лифте освобождалась от туфель, в дверях квартиры расстегивала пиджак и отправлялась в постель с заходом в душ.
— Спаси меня, Господи, от пенсионерок, — шептал муж.
«Подлинное лицо Франции» — не странное ли название? Родилось оно в результате того бешенства, которое испытывала Элизабет, когда ее страну изображали этакой матроной, давшей миру духи, наряды и прочий камамбер… Тогда как подлинная Франция включала в себя и скоростные железные дороги, и атомные электростанции, и достижения в области генетики.
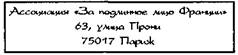
Actios selene была пунктуальна: стоило сну — всегда одному и тому же — приступить к демонстрации своих первых картин: сад, пруды, аллеи, поросшие мхом, — как огромная светло-зеленая бабочка начинала свое кружение. Она парила, взмывала ввысь, резко падала вниз, исчезала в солнечных лучах, насмешливо покачивалась на ветке акации, выделывала все новые пируэты…
Далее во сне возникал Габриель, а рядом с ним женский силуэт — лица видно не было, — они сидели за железным столиком в саду и играли в домино.
Элизабет ворочалась, не могла найти себе места, пыталась прогнать непрошеное видение.
Но кто в силах помешать сну?
Бабочка переходила в наступление, подлетала к столу и медленно хлопала крыльями — огромными, бледными, с ладонь, покрытыми глазками. От производимых ею колебаний воздуха поставленные на попа костяшки домино начинали подрагивать.
Элизабет во сне протягивала руку, чтобы удержать крайнюю из них — «дубль», но она все равно заваливалась на соседнюю, та — на следующую, по всему ряду проходило волнообразное движение, и вскоре все они лежали на столике.
Затем во сне происходила смена картины: являлась карта мира, на которой отчетливо вьщелялась белая дорожка из костяшек домино, тянущаяся на запад дорогой великих завоеваний: Монголия, Казахстан, Украина и так до VI округа Парижа. Презрев законы земного притяжения, костяшки поднимались по лестнице, проходили сквозь дверь, словно все они были героями Марселя Эмме[42]. Самая последняя костяшка проникала в тело Элизабет, в самую его серединку, туда, где орудовала железная рука.
Чтобы не заплакать, не закричать, Элизабет садилась в постели и кусала губы. Она смотрела на будильник: стрелки показывали четыре утра. Покалывание и укусы длились до зари.
— Премьер-министр возложил на меня почетную обязанность объявить вам о его безусловном намерении представить на рассмотрение Ассамблеи в ближайшие три месяца проект, радикально упрощающий нашу процедуру поддержки экспорта. Женщина, которую мы сегодня чествуем, является живым примером несовершенства нашего с вами пола, господа, поскольку счастливо совмещает в себе чиновника высокого ранга и преданную супругу. Пользуясь случаем, я приветствую счастливчика, известного в арбитражных кругах адвоката, чья подруга, являясь к тому же матерью троих детей — мальчиков, уже сделавших свой жизненный выбор, что является показателем высокого качества полученного ими образования, и т. д. (Аплодисменты.) Пробил час ухода на пенсию. Плохая новость для государства, теряющего одного из своих подвижников. Испытание для человека вашей закалки, личности вашего масштаба. Я узнал, что уже с завтрашнего дня вы принимаетесь за новый вид деятельности… От имени президента Республики… — Оратор приблизился и встал на цыпочки. — Провозглашаю Вас рыцарем ордена Почетного Легиона.
На желтом пиджаке от Унгаро заблестел крест.
Все бросились поздравлять, целовать ее и, щадя, говорили не о том, что было, а о том, что будет, предлагали и новые поприща: «Алкатель», «Рено» нуждались в советниках такого ранга. Пирожные, комплименты, шампанское. Среди немногих слабостей за Элизабет числилось неравнодушное отношение к этому игристому напитку, а также к тарталеткам и канапе со спаржей и икрой. Она повторяла про себя свое заветное «я счастлива, я сделала правильный выбор!». Ее семейство преисполнилось гордости.
Словом, все шло к лучшему в этом лучшем из миров.
Почему же тогда, несмотря на всю сладость момента, в воздухе запахло грозой? Элизабет, как известно, не была любительницей портить себе жизнь. Она безнадежно искала причину дискомфорта, чтобы побыстрее устранить ее и предаться ощущению неповторимости происходящего с ней. Поскольку ничего найти не удавалось, в ней нарастало бешенство.
— Мама, что-то не так? — спросил младший сын.
— Не составишь ли ты компанию президенту Лагардену? Он совсем один.
Новоиспеченный рыцарь ощущал себя словно ужаленным целым невидимым роем. Она бросила взгляд на крест: не откололся ли, поскольку именно в районе левой груди чувствовалось какое-то покалывание, похожее на укусы.
Верная первейшему из своих принципов — «Никогда не показывать своего настроения», она до конца коктейля исполняла роли, которых от нее ожидали: умиление, благодарность, решительность, обескураживающая моложавость…
— Уф! — выдохнула наконец Элизабет, упав на переднее сиденье автомобиля рядом с мужем.
— Великолепное торжество. Тебя проводили в момент твоего наивысшего расцвета.
— Я еще вернусь.
— Не сомневаюсь.
В темноте паркинга она наконец уступила долго сдерживаемому желанию почесать предплечье.
— Что с тобой? Уж не клопы ли развелись в мини^ стерстве?
— Видишь ли… Дело в том… — Ей все не удавалось отдать предпочтение одной из многочисленных причин. Но затем вдруг она по-спортивному ударила кулаком правой руки в ладонь левой. — Дело в том, что у меня аллергия на Почетный Легион.
— Я уже ничему не удивляюсь, живя с тобой.
Она пожала плечами, отцепила орден, попросила мужа вести машину помедленнее, бросила крест в перчаточное отделение, где ему предстояло провести долгих три месяца в компании щетки для волос, карты Иль-де-Франса и солнцезащитных очков.
В супружеской постели покалывание продолжалось. К этому добавилось и еще кое-что: ощущение, что чья-то маленькая железная рука, пройдясь по всему ее телу, вдруг вонзилась в него повыше живота между ребер и стала впиваться, словно желая задушить что-то, вечно ускользающее от нее.
— Что я вам сделала? Почему вы меня мучаете? — тихо спросила она.
Рука не отвечала.
Этот разговор глухих длился две недели. Днем таинственные мучители исчезали. Может, потому, что не могли угнаться за Элизабет? Уж очень прытко перебегала она из Префектуры полиции в редакцию «Ле Эко», оттуда в «Икеа», к агенту по недвижимости, к дизайнеру, на чай со старым приятелем из «Франс Телеком»… Дело в том, что она создавала собственное предприятие.
А вечерами, чтобы уж окончательно обессилеть и кануть в сон, как в пропасть, посещала дипломатические рауты, присутствовала на приемах в честь национальных праздников Люксембурга или Пакистана, в честь годовщины смерти Ким Иль Суна, закрытия XX коллоквиума, организованного Обществом франко-кенийской дружбы. И раздавала визитки своего будущего детища:
И повсюду послы принимали одинаково убежденный вид под струи шампанского одной и той же марки «Рёдер».
— За научное и технологическое сотрудничество наших стран. Ваша ассоциация окажет этому решительное содействие.
Возвращаясь домой, она уже в лифте освобождалась от туфель, в дверях квартиры расстегивала пиджак и отправлялась в постель с заходом в душ.
— Спаси меня, Господи, от пенсионерок, — шептал муж.
«Подлинное лицо Франции» — не странное ли название? Родилось оно в результате того бешенства, которое испытывала Элизабет, когда ее страну изображали этакой матроной, давшей миру духи, наряды и прочий камамбер… Тогда как подлинная Франция включала в себя и скоростные железные дороги, и атомные электростанции, и достижения в области генетики.
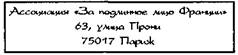
Actios selene была пунктуальна: стоило сну — всегда одному и тому же — приступить к демонстрации своих первых картин: сад, пруды, аллеи, поросшие мхом, — как огромная светло-зеленая бабочка начинала свое кружение. Она парила, взмывала ввысь, резко падала вниз, исчезала в солнечных лучах, насмешливо покачивалась на ветке акации, выделывала все новые пируэты…
Далее во сне возникал Габриель, а рядом с ним женский силуэт — лица видно не было, — они сидели за железным столиком в саду и играли в домино.
Элизабет ворочалась, не могла найти себе места, пыталась прогнать непрошеное видение.
Но кто в силах помешать сну?
Бабочка переходила в наступление, подлетала к столу и медленно хлопала крыльями — огромными, бледными, с ладонь, покрытыми глазками. От производимых ею колебаний воздуха поставленные на попа костяшки домино начинали подрагивать.
Элизабет во сне протягивала руку, чтобы удержать крайнюю из них — «дубль», но она все равно заваливалась на соседнюю, та — на следующую, по всему ряду проходило волнообразное движение, и вскоре все они лежали на столике.
Затем во сне происходила смена картины: являлась карта мира, на которой отчетливо вьщелялась белая дорожка из костяшек домино, тянущаяся на запад дорогой великих завоеваний: Монголия, Казахстан, Украина и так до VI округа Парижа. Презрев законы земного притяжения, костяшки поднимались по лестнице, проходили сквозь дверь, словно все они были героями Марселя Эмме[42]. Самая последняя костяшка проникала в тело Элизабет, в самую его серединку, туда, где орудовала железная рука.
Чтобы не заплакать, не закричать, Элизабет садилась в постели и кусала губы. Она смотрела на будильник: стрелки показывали четыре утра. Покалывание и укусы длились до зари.
LXII
Мэтр Д. был расстроен.
Впервые за долгие годы, истекшие с момента смерти отца, он не ощущал в эти сентябрьские дни никакой радости, хотя близилась пора созревания белых трюфелей.
Грустно бродил он по своему кабинету на авеню Луиз, где хранились архивы. Многие доверили ему свои тайны, но Элизабет с Габриелем с первой встречи, стали его любимцами: их упорство, бесстрашие, длительность их чувства — все свидетельствовало о любви небывалой, чья слава, возможно, осенит и его.
Увы! Сколько разочарований доставили они ему в последние две недели! Что может быть более банального, чем пожилой француз, подпавший под чары китаянки? Какая тоска слышать, как воркует о награждении каким-то крестиком королева! Бедный король Артур! Все уж не то в наши дни! К чему теперь пристально наблюдать за успехами молодого дарования — Габриеле? О чем ему сочинять? О том, что «благопристойность взяла верх»? Кому это интересно?
Словом, мэтр Д. всерьез подумывал закрыть свою лавочку, когда ему принесли телеграмму. Наступательный тон заставил его воспрянуть духом.
Следующий понедельник ресторан Жюль Берн первый этаж Эйфелевой башни тринадцать часов.
Сидя в поезде, увозящем его в Париж, он глубоко озадачил попутчиков тем, что потирал руки и боксировал воздух.
«Дела вновь пошли в гору. Я знал, что такие люди, как они, не могут позволить серым будням поглотить себя. По коням!» — пел его внутренний голос.
И вот теперь мэтр Д. задыхался.
Цвет его лица, отобразив всю гамму красного, остановился на лиловом. Спазмы душили его. Из-под пальцев, которыми он держал свои веки, словно ребенок, играющий в прятки, текли тяжелые слезы.
Схватив его за плечо и повторяя как заведенный «Сударь, сударь, сударь…», метрдотель тряс его.
Весь ресторан перестал есть, наблюдая, как отходит в мир иной господин в твидовом пиджаке.
Элизабет, сидя за тем же столом, с холодным презрением наблюдала за происходящим.
Приступ начался у него к середине ее рассказа о сне, как раз в том месте, где бабочка заставляет валиться дубль. Он зашелся в хохоте и с трудом мог выдавить:
— Я правильно понял? Домино… Габриель… дама… Вскоре хохот превратился в икоту, он больше не мог
произнести ни единого внятного звука.
Мало-помалу, по-прежнему сохраняя лиловый цвет лица, адвокат все же справился с собой.
— Сударь приходит в себя. Как же вы нас напугали! Метрдотель убрал свою руку с перстнем с его плеча.
Посетители вернулись к поглощению пищи.
— Если тебе что-нибудь известно, говори немедленно, —¦ зашипела Элизабет.
Мэтр Д., дабы не поддаться новому приступу, прикусил язык.
— Ну же! — Голос ее зазвучал угрожающе. Черные глаза метали громы и молнии, казалось, она обдумывала, как ей с ним расправиться: задушить, заколоть кинжалом, сбросить с Эйфелевой башни…
Смертнику удалось сохранить самообладание. Он вскинул голову и после недолгого колебания произнес сакраментальное, ускорившее развязку и расставившее все по своим местам:
— Ты что, не знала, что в Китае живут китаянки? Эффект не заставил себя ждать.
Элизабет бросила на стол салфетку, встала, опрокинув стул, поколебалась, стоит ли ей залепить собеседнику оплеуху, предпочла просто обозвать его лобковой вошью и устремилась вон из зала при полном молчании собравшихся, налетела на сомелье, оставила без ответа вопрос гардеробщицы относительно номерка, вышла на площадку, где дул сильный ветер, ступила в лифт, который поднимался вверх, и набросилась на лифтера, требуя немедленной высадки на землю ввиду экстренных дел.
Может, следовало быть тоньше? Не столько говорить в лоб, сколько намекать?
Мэтру Д. так не казалось. Однако в его годы следовало опасаться первых впечатлений. Да и слух уже не тот, может, он повысил голос, не отдавая себе в том отчета?
Как бы то ни было, но «Жюль Берн» поднял бокалы за тост: «Слава ревности!» Выпили за ревность, за ревнивых, которым принадлежит будущее, и за тех, кто до конца внушает ревность.
«Они, конечно, слегка ошибаются, думая, что герой-любовник — я, но в целом они правы, — думал мэтр Д., спускаясь вниз. — У любви без ревности нет будущего. Без ревности любовь — все равно что сложный салат, которого может отведать каждый. Этого-то и не хватало моим протеже. Близость конца дает им ощущение неповторимости их отношений, обостряет их восприятие».
Он знал, где отыскать Элизабет: аэропорт Руасси — Шарль де Голль, второй терминал, одиннадцатичасовой вечерний рейс. Старине Габриелю оставалось только держаться.
Элизабет в тот же день отложила открытие столичного офиса своей ассоциации.
— Начну с китайского филиала. Разве не там рынок будущего?
Мэтр Д. обнял ее.
— Горжусь тобой.
Не оборачиваясь, она направилась к детектору огнестрельного оружия.
По пути в отель мэтр Д. попросил водителя включить верхний свет. Ему хотелось взглянуть на два последних экспоната своего архива: счет из ресторана «Жюль Берн», подписанный всеми посетителями, пившими за ревность, и контрамарку билета Париж — Пекин, биз-несс-класс, рейс АР № 128.
Впервые за долгие годы, истекшие с момента смерти отца, он не ощущал в эти сентябрьские дни никакой радости, хотя близилась пора созревания белых трюфелей.
Грустно бродил он по своему кабинету на авеню Луиз, где хранились архивы. Многие доверили ему свои тайны, но Элизабет с Габриелем с первой встречи, стали его любимцами: их упорство, бесстрашие, длительность их чувства — все свидетельствовало о любви небывалой, чья слава, возможно, осенит и его.
Увы! Сколько разочарований доставили они ему в последние две недели! Что может быть более банального, чем пожилой француз, подпавший под чары китаянки? Какая тоска слышать, как воркует о награждении каким-то крестиком королева! Бедный король Артур! Все уж не то в наши дни! К чему теперь пристально наблюдать за успехами молодого дарования — Габриеле? О чем ему сочинять? О том, что «благопристойность взяла верх»? Кому это интересно?
Словом, мэтр Д. всерьез подумывал закрыть свою лавочку, когда ему принесли телеграмму. Наступательный тон заставил его воспрянуть духом.
Следующий понедельник ресторан Жюль Берн первый этаж Эйфелевой башни тринадцать часов.
Сидя в поезде, увозящем его в Париж, он глубоко озадачил попутчиков тем, что потирал руки и боксировал воздух.
«Дела вновь пошли в гору. Я знал, что такие люди, как они, не могут позволить серым будням поглотить себя. По коням!» — пел его внутренний голос.
И вот теперь мэтр Д. задыхался.
Цвет его лица, отобразив всю гамму красного, остановился на лиловом. Спазмы душили его. Из-под пальцев, которыми он держал свои веки, словно ребенок, играющий в прятки, текли тяжелые слезы.
Схватив его за плечо и повторяя как заведенный «Сударь, сударь, сударь…», метрдотель тряс его.
Весь ресторан перестал есть, наблюдая, как отходит в мир иной господин в твидовом пиджаке.
Элизабет, сидя за тем же столом, с холодным презрением наблюдала за происходящим.
Приступ начался у него к середине ее рассказа о сне, как раз в том месте, где бабочка заставляет валиться дубль. Он зашелся в хохоте и с трудом мог выдавить:
— Я правильно понял? Домино… Габриель… дама… Вскоре хохот превратился в икоту, он больше не мог
произнести ни единого внятного звука.
Мало-помалу, по-прежнему сохраняя лиловый цвет лица, адвокат все же справился с собой.
— Сударь приходит в себя. Как же вы нас напугали! Метрдотель убрал свою руку с перстнем с его плеча.
Посетители вернулись к поглощению пищи.
— Если тебе что-нибудь известно, говори немедленно, —¦ зашипела Элизабет.
Мэтр Д., дабы не поддаться новому приступу, прикусил язык.
— Ну же! — Голос ее зазвучал угрожающе. Черные глаза метали громы и молнии, казалось, она обдумывала, как ей с ним расправиться: задушить, заколоть кинжалом, сбросить с Эйфелевой башни…
Смертнику удалось сохранить самообладание. Он вскинул голову и после недолгого колебания произнес сакраментальное, ускорившее развязку и расставившее все по своим местам:
— Ты что, не знала, что в Китае живут китаянки? Эффект не заставил себя ждать.
Элизабет бросила на стол салфетку, встала, опрокинув стул, поколебалась, стоит ли ей залепить собеседнику оплеуху, предпочла просто обозвать его лобковой вошью и устремилась вон из зала при полном молчании собравшихся, налетела на сомелье, оставила без ответа вопрос гардеробщицы относительно номерка, вышла на площадку, где дул сильный ветер, ступила в лифт, который поднимался вверх, и набросилась на лифтера, требуя немедленной высадки на землю ввиду экстренных дел.
Может, следовало быть тоньше? Не столько говорить в лоб, сколько намекать?
Мэтру Д. так не казалось. Однако в его годы следовало опасаться первых впечатлений. Да и слух уже не тот, может, он повысил голос, не отдавая себе в том отчета?
Как бы то ни было, но «Жюль Берн» поднял бокалы за тост: «Слава ревности!» Выпили за ревность, за ревнивых, которым принадлежит будущее, и за тех, кто до конца внушает ревность.
«Они, конечно, слегка ошибаются, думая, что герой-любовник — я, но в целом они правы, — думал мэтр Д., спускаясь вниз. — У любви без ревности нет будущего. Без ревности любовь — все равно что сложный салат, которого может отведать каждый. Этого-то и не хватало моим протеже. Близость конца дает им ощущение неповторимости их отношений, обостряет их восприятие».
Он знал, где отыскать Элизабет: аэропорт Руасси — Шарль де Голль, второй терминал, одиннадцатичасовой вечерний рейс. Старине Габриелю оставалось только держаться.
Элизабет в тот же день отложила открытие столичного офиса своей ассоциации.
— Начну с китайского филиала. Разве не там рынок будущего?
Мэтр Д. обнял ее.
— Горжусь тобой.
Не оборачиваясь, она направилась к детектору огнестрельного оружия.
По пути в отель мэтр Д. попросил водителя включить верхний свет. Ему хотелось взглянуть на два последних экспоната своего архива: счет из ресторана «Жюль Берн», подписанный всеми посетителями, пившими за ревность, и контрамарку билета Париж — Пекин, биз-несс-класс, рейс АР № 128.
LXIII
Долго еще старики из Летнего сада кляли судьбу-злодейку: ну почему она не дала встретиться двум женщинам, разведя их буквально на несколько минут? Это было бы самым лакомым из зрелищ, которые им довелось увидеть за всю жизнь! Увы! Такси одной из них, прямиком из аэропорта, обогнало автобус, в котором ехала другая, на два километра, и Элизабет уже подходила к домику, когда ее соперница, оторвавшись от книги, убедилась; что ей сходить.
Королевы ничего не обязаны объяснять, а уж тем более причину своего внезапного появления.
Королевы, даже ревнуя, никогда не упрекают. Да и какому разумному существу взбредет в голову воображать, что оно смогло заставить страдать королеву?
Королевы не бросаются на шею, как бы им этого ни хотелось.
Королевы даже не здороваются: к чему терять время на пожелание доброго дня, ведь любой из дней, проведенных с ними, добрый уже по определению. Не того ли ты ждал последние тридцать пять лет?
Королевы просто приходят. Единственное, что они себе позволяют, когда их укололо жало ревности, это сложить в коробку костяшки домино, забытые на железном столике в саду (и домино, и столик, и сад — такие же, как во сне).
Ну, может быть, еще насмешливо кивнуть гигантской бабочке Actios Selene палевых тонов.
По-хозяйски входят они в дом садовника-консультанта, распаковывают чемоданы, раскладывают вещи, говорят о своих планах.
— Здесь хоть и скромно, но для дачки недурно. Будем играть в садовников. А душ работает?
В окно Габриель увидел другую: она, как всегда, весело размахивала своей шляпкой. И вдруг замерла перед столиком, медленно повернула к нему голову, день ото дня становившуюся для него все дороже. Ее улыбка, казалось, говорила: «Габриель, я все поняла. Лошадей на переправе не меняют». Бросив последний взгляд на столик и стулья, она исчезла, подчинившись жестокости человеческого удела. «Почему наши самые прекрасные любовные истории случаются с нами в одно и то же время, тогда как их последовательное чередование помогло бы нам избежать стольких страданий, слез, а также никчемных, одиноких лет?»
В тот самый миг, когда в его голове лишь зарождалась эта мысль, он уже возражал: это верно в отношении других мужчин, но не его. Элизабет всегда была с ним, даже когда ее не было рядом. Она никогда никому не уступала своего места подле него.
Королевы ничего не обязаны объяснять, а уж тем более причину своего внезапного появления.
Королевы, даже ревнуя, никогда не упрекают. Да и какому разумному существу взбредет в голову воображать, что оно смогло заставить страдать королеву?
Королевы не бросаются на шею, как бы им этого ни хотелось.
Королевы даже не здороваются: к чему терять время на пожелание доброго дня, ведь любой из дней, проведенных с ними, добрый уже по определению. Не того ли ты ждал последние тридцать пять лет?
Королевы просто приходят. Единственное, что они себе позволяют, когда их укололо жало ревности, это сложить в коробку костяшки домино, забытые на железном столике в саду (и домино, и столик, и сад — такие же, как во сне).
Ну, может быть, еще насмешливо кивнуть гигантской бабочке Actios Selene палевых тонов.
По-хозяйски входят они в дом садовника-консультанта, распаковывают чемоданы, раскладывают вещи, говорят о своих планах.
— Здесь хоть и скромно, но для дачки недурно. Будем играть в садовников. А душ работает?
В окно Габриель увидел другую: она, как всегда, весело размахивала своей шляпкой. И вдруг замерла перед столиком, медленно повернула к нему голову, день ото дня становившуюся для него все дороже. Ее улыбка, казалось, говорила: «Габриель, я все поняла. Лошадей на переправе не меняют». Бросив последний взгляд на столик и стулья, она исчезла, подчинившись жестокости человеческого удела. «Почему наши самые прекрасные любовные истории случаются с нами в одно и то же время, тогда как их последовательное чередование помогло бы нам избежать стольких страданий, слез, а также никчемных, одиноких лет?»
В тот самый миг, когда в его голове лишь зарождалась эта мысль, он уже возражал: это верно в отношении других мужчин, но не его. Элизабет всегда была с ним, даже когда ее не было рядом. Она никогда никому не уступала своего места подле него.
LXIV
Почему ему так часто вспоминался Сад акклиматизации, этот крошечный закуток на окраине Парижа, такой затерянный во времени, такой далекий от Пекина, такой жалкий по сравнению с Йюаньмингюанем? Нужно было сесть на поезд у заставы Майо и ехать по сосновому бору. У матери на такие экскурсии не было времени, и потому они отправлялись в путь вместе с бабушкой. Ак-кли-ма-ти-за-ция: такое долгое и загадочное слово. К каким печальным жизненным реалиям должны были приспосабливаться в этом зоопарке звери: лижущий лапу медведь, макака с красным задом, распускающий хвост веером павлин? Каким истинам должны были обучить нас лошадки карусели, кружащиеся под звуки аккордеона, разве что тем, что свободы не существует, но что нет ничего непоправимого, что судьба вновь и вновь делает нам предложения?
Неутомимая бабушка Колетт складывала в корзинку свое вязанье, подхватывала складной стул, который везде таскала за собой, чтобы не платить за стулья их хозяйкам, ненавидимым ею по каким-то только ей известным причинам.
— Что бы ты сказал об Очарованной реке напоследок?
Кассирша всякий раз разыгрывала одну и ту же комедию: мол, слишком поздно, лодки уже зачехлены. Торговались. «Ну разве что для вас». Отчаливали от берега. Наполненный водой ров змеился среди берегов: мусор, чахлые первоцветы и стаи дремлющих уток.
Лодка плавно скользила по воде, Габриель закрывал глаза. Путешествия по Очарованной реке были единственными настоящими каникулами, когда не нужно было выбирать между футболом и бассейном, «брать себя в руки», как говорили взрослые. Проточная вода все делала сама.
— Ну что, этой ночью будешь хорошо спать? — спрашивала бабушка, когда они высаживались на берег.
Он улыбался: какой приятной может быть жизнь!
Семьдесят лет спустя Габриель вновь обретал точно такие же ощущения. Колетт давно не было в живых, а то бы она так порадовалась, взяла бы его за подбородок и сказала: «Сад выполнил свою роль, Габриель, ты акклиматизировался».
Рано поутру, стоило появиться проблескам зари, очень осторожно, боясь дышать, чтобы не разбудить ту, что спала рядом, Габриель покидал ставшую почти супружеским ложем постель, просовывал голову между двух занавесок и смотрел, как занимается новый день — день настоящих каникул, во время которых ему не придется ничего решать в отношении Элизабет. Решать, снова и снова — только этой ценой продвигается вперед незаконная любовь: решать, когда состоится следующее свидание, готовиться к этому дню, изобретать все новые уловки, переносить, рвать, примиряться, и все это бесчисленное множество раз. У такой любви широко открытая пасть, как у топки старинных локомотивов — движешься вперед, только если подбрасываешь в нее все новые партии решений…
Благодаря чуду (на всякий случай он оглядывался, чтобы удостовериться, что Элизабет не приснилась, что она действительно тут) кошмар закончился. Новый день наступал сам по себе, и Габриелю не нужно было ничего предпринимать. Отныне день сам позаботится о себе. Элизабет будет с ним за завтраком, за обедом, будет расстилать постель, гасить огонь, прижиматься к нему в темноте.
Что такое счастье?
Габриелю привелось изучать философию очень недолго школе в возрасте шестнадцати-семнадцати лет. Поиск знаний о жизни в ту пору, когда все мысли заняты угрями, все же вызвал у него интерес тем, что истина, как он понял, никогда не бывает окончательной, в последней инстанции. Ни в чем невозможно поставить точку. Зная его характер, нетрудно догадаться, как это радовало его своим соответствием жизни. Видимая преграда, изгородь были не по душе и другим французским садовникам, и потому они додумались до широкого и глубокого рва, с помощью которого можно незаметно очертить границы парка. Они есть, но их не видно: разве это не один из ликов свободы?
Его преподаватель, почтенный отец Петорелли, человек с самым широким лбом, который когда-либо встречался Габриелю, применил это в своей жизни буквально. Будучи морским офицером, он за бесконечным горизонтом с его меланхоличными альбатросами узрел Бога и стал священником. Двадцать лет спустя призвание исчерпало себя. Он женился. Доказательство того, что в жизни все возможно.
Так что же такое счастье?
«Не то чтобы некий акт, не то чтобы некое состояние», — любил повторять бывший моряк с непомерно большим лбом.
Что касается второй части портрета счастья, не умозрительной, а вполне конкретной, тут у Элизабет была квазимонополия: она вкалывала с утра до вечера. За неделю добилась разрешения на открытие азиатского филиала «Подлинного лица Франции», несмотря на многочисленные трудности. Нашла помещение, первых инвесторов, разослала приглашения на открытие, наняла секретаршу.
Конечно, Габриель предпочел бы, чтобы женщина, которую он так долго ждал, была более спокойна и свободна.
Однако он по опыту знал, что лучше на эту тему не заикаться, ведь перебранка между Элизабет и живущим в ней чувством долга не закончилась.
Не дай ему Бог затесаться между ними! И уж тем более этого нельзя было делать ему, ведь весь сыр-.бор и был из-за него.
Долг, который она носила в себе, добрался и до Китая. Как? Транссибирским экспрессом? Шелковым путем? Морским?
Габриель не разбирался в этом, однако в иные ночи чувствовал: Он здесь. Он узнавал о Его присутствии по тишине: жуткой тишине рядом с ним, молчанию того, кто слышит звучащий в нем голос Долга. В эти минуты без толку было обнимать ее, гладить по волосам. Когда душой овладевает чувство Долга, все иное отступает. Разговор между душой и Долгом должен состояться, и ничто не в силах помешать этому.
Габриель ждал, когда Долг, отдав распоряжения, уберется восвояси.
— Я возвращаюсь во Францию, — шептала Элизабет. Габриель молчал. Единственным способом победить
было не вмешиваться. Когда Долгу некого грызть, он, бывает, поглощает сам себя.
После очень долгой паузы Элизабет спрашивала:
— Почему ты ничего не отвечаешь?
Этим она расставляла ему сети, в которые он больше не попадался, то есть не вступал в спор.
— Целую тебя, — говорила она наконец. И только тогда он брал ее за руку.
Долг — животное ночное. Как и вампиры, на которых он так похож. Он исчезает при дневном освещении. Просыпаясь, Элизабет говорила:
— Надо позвонить.
Затем дожидалась, когда в Европе наступит день, трясущейся рукой хваталась за трубку.
Поскольку ее муж был молчальником, лучшим способом ничего о нем не узнать было поговорить с ним.
Однажды единственное, что она узнала, было то, что он заучивает наизусть «всего Аполлинера».
— А почему всего Аполлинера?
— Поскольку в нашем возрасте только и остается, что память.
Испытывая угрызения совести, она вешала трубку и с удвоенной энергией бралась за дела.
Как истинный католик (вовсе не обязательно верить в Бога, чтобы пропитаться до мозга костей религиозным чувством) он предпочел бы, чтобы она исповедовалась. С некоторых пор он заметил на улицах Пекина западных людей, от которых за версту несло принадлежностью к иезуитам: манеры, оценивающий взгляд, улыбки, адресованные сильным мира сего, заносимые в блокнот мысли… Общество Иисуса мечтало вернуться в Китай, единственную страну, с которой оно могло вести дела на равных. Один из этих переодетых отцов не отказал бы Элизабет в подобной услуге. В таинстве исповеди было множество преимуществ: получив отпущение грехов (ego te absolvo), ты становился белее снега — до следующего греха. Тогда как наказание работой было пыткой, подобной сизифову труду. Каждый вечер вымотанная за день Элизабет насвистывала, думая, что избавилась от своего внутреннего мучителя. Но не тут-то было: отдохнув за ночь, дьявол с рассвета принимался за нее — запускал свои когти в ее плоть, внушая чувство вины. И все начиналось сначала.
Неутомимая бабушка Колетт складывала в корзинку свое вязанье, подхватывала складной стул, который везде таскала за собой, чтобы не платить за стулья их хозяйкам, ненавидимым ею по каким-то только ей известным причинам.
— Что бы ты сказал об Очарованной реке напоследок?
Кассирша всякий раз разыгрывала одну и ту же комедию: мол, слишком поздно, лодки уже зачехлены. Торговались. «Ну разве что для вас». Отчаливали от берега. Наполненный водой ров змеился среди берегов: мусор, чахлые первоцветы и стаи дремлющих уток.
Лодка плавно скользила по воде, Габриель закрывал глаза. Путешествия по Очарованной реке были единственными настоящими каникулами, когда не нужно было выбирать между футболом и бассейном, «брать себя в руки», как говорили взрослые. Проточная вода все делала сама.
— Ну что, этой ночью будешь хорошо спать? — спрашивала бабушка, когда они высаживались на берег.
Он улыбался: какой приятной может быть жизнь!
Семьдесят лет спустя Габриель вновь обретал точно такие же ощущения. Колетт давно не было в живых, а то бы она так порадовалась, взяла бы его за подбородок и сказала: «Сад выполнил свою роль, Габриель, ты акклиматизировался».
Рано поутру, стоило появиться проблескам зари, очень осторожно, боясь дышать, чтобы не разбудить ту, что спала рядом, Габриель покидал ставшую почти супружеским ложем постель, просовывал голову между двух занавесок и смотрел, как занимается новый день — день настоящих каникул, во время которых ему не придется ничего решать в отношении Элизабет. Решать, снова и снова — только этой ценой продвигается вперед незаконная любовь: решать, когда состоится следующее свидание, готовиться к этому дню, изобретать все новые уловки, переносить, рвать, примиряться, и все это бесчисленное множество раз. У такой любви широко открытая пасть, как у топки старинных локомотивов — движешься вперед, только если подбрасываешь в нее все новые партии решений…
Благодаря чуду (на всякий случай он оглядывался, чтобы удостовериться, что Элизабет не приснилась, что она действительно тут) кошмар закончился. Новый день наступал сам по себе, и Габриелю не нужно было ничего предпринимать. Отныне день сам позаботится о себе. Элизабет будет с ним за завтраком, за обедом, будет расстилать постель, гасить огонь, прижиматься к нему в темноте.
Что такое счастье?
Габриелю привелось изучать философию очень недолго школе в возрасте шестнадцати-семнадцати лет. Поиск знаний о жизни в ту пору, когда все мысли заняты угрями, все же вызвал у него интерес тем, что истина, как он понял, никогда не бывает окончательной, в последней инстанции. Ни в чем невозможно поставить точку. Зная его характер, нетрудно догадаться, как это радовало его своим соответствием жизни. Видимая преграда, изгородь были не по душе и другим французским садовникам, и потому они додумались до широкого и глубокого рва, с помощью которого можно незаметно очертить границы парка. Они есть, но их не видно: разве это не один из ликов свободы?
Его преподаватель, почтенный отец Петорелли, человек с самым широким лбом, который когда-либо встречался Габриелю, применил это в своей жизни буквально. Будучи морским офицером, он за бесконечным горизонтом с его меланхоличными альбатросами узрел Бога и стал священником. Двадцать лет спустя призвание исчерпало себя. Он женился. Доказательство того, что в жизни все возможно.
Так что же такое счастье?
«Не то чтобы некий акт, не то чтобы некое состояние», — любил повторять бывший моряк с непомерно большим лбом.
Что касается второй части портрета счастья, не умозрительной, а вполне конкретной, тут у Элизабет была квазимонополия: она вкалывала с утра до вечера. За неделю добилась разрешения на открытие азиатского филиала «Подлинного лица Франции», несмотря на многочисленные трудности. Нашла помещение, первых инвесторов, разослала приглашения на открытие, наняла секретаршу.
Конечно, Габриель предпочел бы, чтобы женщина, которую он так долго ждал, была более спокойна и свободна.
Однако он по опыту знал, что лучше на эту тему не заикаться, ведь перебранка между Элизабет и живущим в ней чувством долга не закончилась.
Не дай ему Бог затесаться между ними! И уж тем более этого нельзя было делать ему, ведь весь сыр-.бор и был из-за него.
Долг, который она носила в себе, добрался и до Китая. Как? Транссибирским экспрессом? Шелковым путем? Морским?
Габриель не разбирался в этом, однако в иные ночи чувствовал: Он здесь. Он узнавал о Его присутствии по тишине: жуткой тишине рядом с ним, молчанию того, кто слышит звучащий в нем голос Долга. В эти минуты без толку было обнимать ее, гладить по волосам. Когда душой овладевает чувство Долга, все иное отступает. Разговор между душой и Долгом должен состояться, и ничто не в силах помешать этому.
Габриель ждал, когда Долг, отдав распоряжения, уберется восвояси.
— Я возвращаюсь во Францию, — шептала Элизабет. Габриель молчал. Единственным способом победить
было не вмешиваться. Когда Долгу некого грызть, он, бывает, поглощает сам себя.
После очень долгой паузы Элизабет спрашивала:
— Почему ты ничего не отвечаешь?
Этим она расставляла ему сети, в которые он больше не попадался, то есть не вступал в спор.
— Целую тебя, — говорила она наконец. И только тогда он брал ее за руку.
Долг — животное ночное. Как и вампиры, на которых он так похож. Он исчезает при дневном освещении. Просыпаясь, Элизабет говорила:
— Надо позвонить.
Затем дожидалась, когда в Европе наступит день, трясущейся рукой хваталась за трубку.
Поскольку ее муж был молчальником, лучшим способом ничего о нем не узнать было поговорить с ним.
Однажды единственное, что она узнала, было то, что он заучивает наизусть «всего Аполлинера».
— А почему всего Аполлинера?
— Поскольку в нашем возрасте только и остается, что память.
Испытывая угрызения совести, она вешала трубку и с удвоенной энергией бралась за дела.
Как истинный католик (вовсе не обязательно верить в Бога, чтобы пропитаться до мозга костей религиозным чувством) он предпочел бы, чтобы она исповедовалась. С некоторых пор он заметил на улицах Пекина западных людей, от которых за версту несло принадлежностью к иезуитам: манеры, оценивающий взгляд, улыбки, адресованные сильным мира сего, заносимые в блокнот мысли… Общество Иисуса мечтало вернуться в Китай, единственную страну, с которой оно могло вести дела на равных. Один из этих переодетых отцов не отказал бы Элизабет в подобной услуге. В таинстве исповеди было множество преимуществ: получив отпущение грехов (ego te absolvo), ты становился белее снега — до следующего греха. Тогда как наказание работой было пыткой, подобной сизифову труду. Каждый вечер вымотанная за день Элизабет насвистывала, думая, что избавилась от своего внутреннего мучителя. Но не тут-то было: отдохнув за ночь, дьявол с рассвета принимался за нее — запускал свои когти в ее плоть, внушая чувство вины. И все начиналось сначала.
