Страница:
Обернувшись, он увидел, что Смотритель с усталым видом стоит под Пегой Акулой, по-птичьи дергая коротко остриженной головкой и держа перед собою зажатую между распрямленными пальцами метелку. Флэй понимал, что Ротткодд вежливо ожидает его ухода. Вообще господин Флэй пребывал в состоянии странном. Его удивляло, что новость произвела на господина Ротткодда столь малое впечатление, как удивляло и то, что он сам принес сюда эту новость. Вытянув из кармана большие серебряные часы, он подержал их перед собой на плоской ладони.
– Должен идти, – натужно сказал он. – Слышите, Ротткодд? Я должен идти.
– Спасибо, что заглянули, – сказал Ротткодд. – Распишитесь по дороге в книге посетителей, ладно?
– Нет! Какой я посетитель! – Флэй задрал плечи до самых ушей. – Тридцать семь лет служу его светлости. Расписываться в книге, – с презрением добавил он и плюнул в угол.
– Как угодно, – сказал господин Ротткодд. – Я, собственно, имел в виду ту часть книги посетителей, которая отведена для слуг.
– Нет! – повторил Флэй.
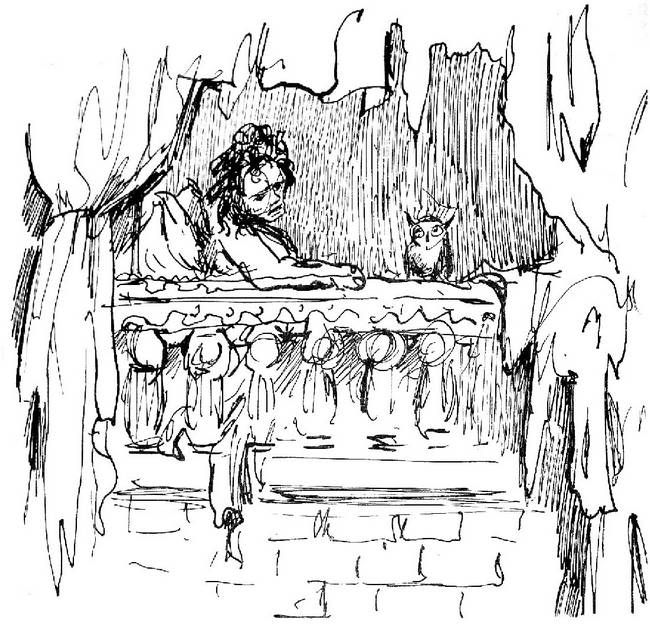
Проходя мимо Смотрителя к двери, Флэй внимательно вглядывался в него, и вопрос снова и снова стучал в его голове. Почему? Весь замок бурлит, взволнованный новостью. Все строят догадки. За порядком никто не следит. Слухи проносятся по цитадели. Повсюду – в коридорах, проходах, галереях, трапезной, на кухнях и в спальнях – везде одно и то же. Почему же он выбрал безразличного ко всему Ротткодда? И вдруг его озарило. Должно быть, он подспудно понимал, что новость эта ни для кого уже не новость, что Ротткодд для его известья – как целина для плуга, что Смотритель, одиноко живущий среди Блистающих Изваяний, – единственный, с кем он может поделиться ею, не поступившись своим угрюмым достоинством, и для кого новость, пусть она и не пробудит в нем никакого восторга, все-таки будет новостью.
Разрешив для себя эту проблему и испытывая некоторое отупение от банальной приземленности своих выводов, от того, что и речи не может идти о зове, посланном вдоль коридоров и лестниц его душой душе господина Ротткодда, Флэй вялым, хоть и машистым шагом миновал проходы Северного крыла и по витой каменной лестнице спустился в каменный же прямоугольник двора, а между тем странное разочарование овладевало им, мучительное ощущение униженной гордости, а с ним и благодарность за то, что его посещенье Ротткодда прошло никем не замеченным, и что сам Ротткодд надежно укрыт от мира в Зале Блистающей Резьбы.
ВЕЛИКАЯ КУХНЯ
СВЕЛТЕР
– Должен идти, – натужно сказал он. – Слышите, Ротткодд? Я должен идти.
– Спасибо, что заглянули, – сказал Ротткодд. – Распишитесь по дороге в книге посетителей, ладно?
– Нет! Какой я посетитель! – Флэй задрал плечи до самых ушей. – Тридцать семь лет служу его светлости. Расписываться в книге, – с презрением добавил он и плюнул в угол.
– Как угодно, – сказал господин Ротткодд. – Я, собственно, имел в виду ту часть книги посетителей, которая отведена для слуг.
– Нет! – повторил Флэй.
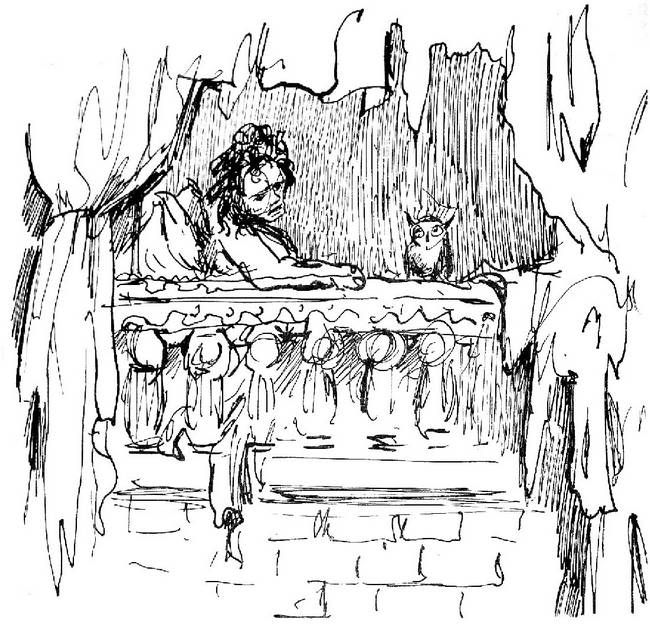
Проходя мимо Смотрителя к двери, Флэй внимательно вглядывался в него, и вопрос снова и снова стучал в его голове. Почему? Весь замок бурлит, взволнованный новостью. Все строят догадки. За порядком никто не следит. Слухи проносятся по цитадели. Повсюду – в коридорах, проходах, галереях, трапезной, на кухнях и в спальнях – везде одно и то же. Почему же он выбрал безразличного ко всему Ротткодда? И вдруг его озарило. Должно быть, он подспудно понимал, что новость эта ни для кого уже не новость, что Ротткодд для его известья – как целина для плуга, что Смотритель, одиноко живущий среди Блистающих Изваяний, – единственный, с кем он может поделиться ею, не поступившись своим угрюмым достоинством, и для кого новость, пусть она и не пробудит в нем никакого восторга, все-таки будет новостью.
Разрешив для себя эту проблему и испытывая некоторое отупение от банальной приземленности своих выводов, от того, что и речи не может идти о зове, посланном вдоль коридоров и лестниц его душой душе господина Ротткодда, Флэй вялым, хоть и машистым шагом миновал проходы Северного крыла и по витой каменной лестнице спустился в каменный же прямоугольник двора, а между тем странное разочарование овладевало им, мучительное ощущение униженной гордости, а с ним и благодарность за то, что его посещенье Ротткодда прошло никем не замеченным, и что сам Ротткодд надежно укрыт от мира в Зале Блистающей Резьбы.
ВЕЛИКАЯ КУХНЯ
Миновав сводчатый проход, ведущий к помещениям слуг, и спустившись по двенадцати ступеням в главный кухонный коридор, Флэй окунулся в атмосферу, разительно отличавшуюся от только что им покинутой. Завязшая в его памяти уединенность святилища господина Ротткодда немедля канула в небытие. В здешних каменных коридорах наличествовали все признаки поведения непристойного. Господин Флэй поднял костлявые плечи и засунул руки в карманы куртки, выпятив их так, что лишь напряженная ткань и разделяла стиснутые кулаки. Ткань натянулась, казалось, она вот-вот лопнет у него на заду. Безрадостно глянув влево-вправо, Флэй двинулся дальше, длинные, тощие ноги его потрескивали, пока он проталкивался сквозь волнующиеся скопления челядинцев. Они грубо гоготали друг другу в лица, а один, как видно, остряк, обладатель податливой, точно замазка, физиономии, корчил рожи, представлявшиеся никак не связанными с его черепом, если конечно череп под этой покладистой плотью присутствовал. Флэй протиснулся мимо.
Коридор кипел. Люди в передниках сбивались в стайки, которые тут же и расточались. Некоторые пели. Одни о чем-то спорили, другие, онемевшие от усталости, подпирали стены, свесив руки по бокам или тупо прихлопывая ими в такт какому-то кухонному гимну. Гвалт стоял несусветный. Строго говоря, все это более чем отвечало настроению, которое Флэй полагал желательным или во всяком случае приличествующим событию. Выказанное Ротткоддом отсутствие воодушевления поразило его, здесь же, по крайности, соблюдалась традиция, требующая проявления восторженной радости при рождении наследника Горменгаста. Однако обнаружить при посторонних собственный восторг было для Флэя невозможным. И передвигаясь по забитому людьми коридору, и минуя одно за другим темные ответвления, ведшие к бойне, из которой тянуло зловонием свежей крови, к пропахшим сладкими хлебами пекарням, к лестницам, уходящим вниз, в винные погреба и в паутину замковых подземелий, он определенно переживал удовлетворение, замечая, сколь многие из гуляк и бражников расступаются, чтобы дать ему дорогу, ибо положение главного слуги его светлости было весьма высоким, а мрачная складка губ и хмурость, свившая себе вечное гнездо на его выступающем лбу, несли в себе грозное предупреждение.
Нечасто доводилось Флэю одобрять в других показные проявления счастья. Он видел в счастье семя независимости, а в независимости – семя крамолы. Однако случаи, подобные нынешнему, это другой коленкор, ибо в них неумолимо проявлял себя дух общности и согласия, и господин Флэй ощущал, где-то между ребрами, уколы острого удовольствия.
Он дошел уже до середины коридора слуг, здесь, налево от него, зияли распахнутые настежь тяжелые деревянные двери Великой Кухни. Дальше тянулся, сужаясь в перспективе – темной, поскольку окна отсутствовали, – остаток коридора. В нем уже не было дверей ни слева, ни справа, а на дальнем своем конце он упирался в кремнистую стену. Обычно этот бесполезный тупик оставался, как то и следовало, пустым, но ныне господин Флэй приметил в нем несколько распростертых в сумраке тел. И в тот же миг его оглушил громовый рев, топот и лязг.
Господин Флэй вошел в Великую Кухню и на него сразу обрушилась волна ужасного, парного, душного жара. Он ощутил, как тело его приняло удар этой волны. Дело было не только в привычно тошнотворной кухонной атмосфере, усугубляемой бившими сквозь высоко сидящие окна лучами солнца, нет, в праздничном угаре кто-то переложил в печи топлива, разведя в них опасный огонь. Впрочем, Флэй понимал, что это правильно, такое место и должно быть невыносимым. Он понимал даже, что четверо жарщиков, которые тяжелыми сапогами забивали окорок за окороком в железные двери печи, покамест та не уступала их неустанному натиску, поступают в согласии с предписанным законом настроением празднества. Конечно, они не разумеют, что творят и зачем, но разве это имеет значение? Графиня разродилась наследником, тут уж не до разумного поведения.
Сложенные из серых каменных плит, источавшие жаркий пар стены огромного помещения составляли предмет личной заботы восемнадцати слуг, называемых Серыми Скребунами. Особая их привилегия состояла в том, чтобы, достигнув отрочества, узнать, что поприще для них, как для сыновей своих отцов, уже назначено и впереди их ждут неотличимые жизни, посвященные исполнению не способной порадовать воображение, хоть и достохвальной обязанности. Последняя сводилась к тому, чтобы ежеутренне до блеска начищать необъятный серый пол и высокие стены. В каждый день года, с трех предутренних часов и почти до одиннадцати, до часа, когда их козлы и лестницы начинали мешать поварам, Серые Скребуны исполняли свое наследственное призвание. Сам характер их ремесла сообщал рукам Скребунов невероятную мощь, и когда они привольно свешивали по бокам свои колоссальные лапищи, в облике их проступало нечто большее, чем простое обезьяноподобие. При всей корявости их обличий, люди эти составляли неотъемлемую часть Великой Кухни. Не будь здесь Серых Скребунов, любой социолог, явившийся в это мглистое помещение в поисках звена, завершающего круг темпераментов, последней ноты в гамме низших человеческих ценностей, ощутил бы, что в ней не хватает чего-то очень земного, сильного, подлинного.
Повседневная близость к огромным каменным плитам, обращала и лица Скребунов в подобия этих плит. Физиономии всех восемнадцати давно лишились какого ни на есть выражения, если не считать таковым само отсутствие оного. То были просто плиты, с помощью которых Серые Скребуны говорили, что случалось нечасто, смотрели – всегда, и слушали, едва ли что-нибудь слыша. Традиция предписывала им глухоту. На плитах устроены были глаза, маленькие и плоские, точно монеты, окрашенные все в тот же булыжный цвет, как будто за долгие часы профессионального призора за стенами те наконец отразились в этих глазах – и уже неизгладимо, раз и навсегда. Да, глаза имелись – тридцать шесть глаз, к коим прилагалось по восемнадцати носов, а также ртов, походивших на рассекшие плиты иззубренные трещины. И хоть все, чему положено иметься на человечьем лице, присутствовало и на каждом из восемнадцати, различить на них хотя бы малейший признак оживления не удавалось еще никому, и даже если бы можно было свалить их черты в большую миску и основательно перемешать, а затем наугад выудить по одной и налепить на восковую башку какого-нибудь манекена – в какое угодно место и под каким угодно углом, – ничего бы не изменилось, ибо и самое фантастическое, самое затейливое их сочетание не смогло бы вдохнуть жизнь в сооружение, составные части которого мертвы. Взятые в совокупности, сто восемь их лицевых признаков, – причитая сюда и уши, временами чудовищно выразительные, – не смогли бы даже при самом благоприятном стечении обстоятельств набраться сил, по отдельности или en masse[2] чтобы явить и легчайшую тень намека на работу того, что крылось под ними.
Наблюдая все возраставшее в Великой Кухне волнение, Скребуны, неспособные по причине своей глухоты понять, чем оно вызвано, ухитрились тем не менее за последний час или два проникнуться праздничным духом, пронявшим кухонную челядь не только до глубины сердечной, но и до самых потрохов.
И теперь, в этот наиважнейший день, восемнадцать Серых Скребунов, осознавших наконец, что на свет явился новый Властитель, рядком лежали на каменных плитах под огромным столом, все до единого пьяные в стельку. Они почтили событие и сошли со сцены, и их по одному закатили под стол, будто восемнадцать бочонков с элем, в каковые они, собственно, и обратились.
Сквозь наполнявший Великую Кухню гул голосов, вздымавшийся и опадавший, менявший темп и медливший, пока пронзительный порыв или хриплый накат звука не сменялся новой паузой лишь для того, чтобы ее вновь сотряс отвратительный взрев хохота, или дробный шепоток, или хрип прочищаемой глотки, – сквозь все это плотное, узорчатое плетение бедлама привычной темой скорбного усердия проступал тяжелый храп Серых Скребунов.
К чести Скребунов следует сказать, что они присосались к своим бочонкам, как присасывается к груди еще не отнятый от нее младенец, лишь после того, как благодаря их стараниям засияли полы и стены кухни. Да и не их одних перестали держать ноги. То же несомненное доказательство верноподданнических чувств являли не менее сорока членов кухонного причта, которые, подобно Серым Скребунам, отыскав в бутылке наилучшее средство для выражения преданности роду Гроанов, уже погрузились в видения и грезы.
Господин Флэй, утирая тыльной стороной клешнеобразной ладони пот, уже обильно оросивший его чело, позволил своему взгляду ненадолго задержаться на косных, укороченных перспективой телах упившихся Скребунов. Они лежали к нему головами, остриженными коротко – до серой, как орудийная сталь, щетины. Тени свили себе гнездо под столом, и прочие части Скребуньих тел, параллельно сужавшихся, быстро глотала мгла. С первого взгляда Флэю показалось, что перед ним всего лишь рядок свернувшихся ежиков, прошло какое-то время, прежде чем он уяснил, что смотрит на щетинистые головы. Поняв это, он хмурым взглядом окинул Великую Кухню. Все в ней смешалось, но за бурлением движущихся тел, за временным хаосом перевернутых разделочных столов, за полом, усеянным кастрюльками для бульона, сковородками для соусов, разбитыми мисками, тарелками и объедками, господин Флэй различил коренной костяк кухни, на котором разум его утверждался, как на опоре, ибо кухня плыла перед ним в вязком тумане. Вон отделенная тяжкой каменной стеной с крепкой деревянной дверью, garde-manger[3] со штабелями окороков, подвешенными цельными тушами и – с внутренней стороны двери – вертелами. На вделанном в пол столе, тянувшемся вдоль всей стены, стояли огромные миски, вмещавшие до полусотни порций. Суповые кастрюли вечно булькали, перекипали, и пол под ними покрывала коричневатая жижа и яичная скорлупа, бросаемая в кастрюли для придания ясности бульону. Опилки, каждое утро разбрасываемые по полу, теперь были сбиты ногами в пропитанные пролитым вином бугорки. И всюду валялись по полу катыши сала, круглые и растоптанные, похожие из-за прилипших к ним опилок на фрикадельки. На потеющих стенах висели ножи забойные и шпикари, обвалочные, шкуросъемные ножи и двуручные секачи, а под ними стояла разделочная колода, двенадцать на девять футов, иссеченная вдоль и поперек, затрухлявевшая от полученных за десятки лет обширных ран.
По другую сторону кухни, слева от господина Флэя, вехами ему служили великанских размеров медный котел, шедшие в ряд печи и узкий дверной проем. Печные заслонки были распахнуты, из них опасно вырывалось наружу едкое пламя, поскольку внутри смердели и пузырились бросаемые прямо в огонь ошметки сала.
Господина Флэя раздирали противоречивые чувства. То, что он видел, вызывало в нем отвращение, ибо из всех помещений замка именно кухню он ненавидел пуще всего, на что у Флэя имелась вполне основательная причина; и все-таки трепет, продиравший его приличное пугалу тело, убеждал господина Флэя в правильности всего, что здесь происходит. Он, разумеется, не мог проанализировать свои чувства, даже идея такая явиться ему не могла, и все же он слишком сросся с Горменгастом, чтобы не ощущать всем нутром, что самая суть традиций замка мощно и неуклонно изливается здесь в предназначенное ей русло.
Однако то обстоятельство, что Флэй, принуждаемый к тому глубочайшим из побуждений, по достоинству оценивал всю вульгарность происходящего в Великой Кухне, нимало не умеряло его презрения к людям, которых он ныне видел. Он переводил взгляд с одного человека на другого, и удовлетворение, испытанное им при виде их слитной массы, сменялось отвращением к каждому в отдельности.
Удивительная, вывихнутая какая-то, спиралью завившаяся балка плыла, или так только казалось, над простором Великой Кухни. Снизу в нее были ввинчены там и сям железные крючья. С балки свисали подобно мешкам, наполовину набитым опилками, – столь безжизненными казались они, – пара пирожников, дряхлый poissonier[4], rôtier[5] с ногами настолько кривыми, что они замыкались в неправильный круг, рыжий légumier[6] и пятеро sauciers[7]с положенными их званию зелеными шарфами на шеях. На дальнем от Флэя конце один из них еле приметно дергался, прочие же сохраняли полную неподвижность. Все они были безмерно счастливы.

Господин Флэй сделал несколько шагов, и кухонный чад сомкнулся вокруг него. У дверей он стоял незамеченным, но теперь, когда выступил вперед, какой-то пьяница вдруг взвился в воздух и вцепился в один из крюков, свисавших с темной балки над ними. Он висел на одной руке, идиот с застывшим на лице сосредоточенным бесстыдством. Должно быть, он обладал силой, непомерной для его малого роста, поскольку рука не только держала его на весу, но он умудрился еще подтянуться, достав до железного крюка головой. Пока господин Флэй проходил под ним, карлик, с немыслимой быстротой извернувшись кверху ногами, обвил ими скрученную балку и повис, так что перевернутая рожа его с нелепой ухмылкой закачалась в нескольких дюймах от лица господина Флэя, которому осталось лишь резко остановиться. Тут карла рывком забросил свое тело на балку и помчался по ней на четвереньках с проворством, приличествующим более джунглям, нежели кухне.
Громовый рев, перекрывший всю прочую какофонию, заставил господина Флэя оторвать от карлика взгляд. Слева, в тени подпирающей потолок колонны, Флэй различил того, кто все это время, с той самой минуты, как он вошел в Великую Кухню, сидел у него в мозгу подобием опухоли.
Коридор кипел. Люди в передниках сбивались в стайки, которые тут же и расточались. Некоторые пели. Одни о чем-то спорили, другие, онемевшие от усталости, подпирали стены, свесив руки по бокам или тупо прихлопывая ими в такт какому-то кухонному гимну. Гвалт стоял несусветный. Строго говоря, все это более чем отвечало настроению, которое Флэй полагал желательным или во всяком случае приличествующим событию. Выказанное Ротткоддом отсутствие воодушевления поразило его, здесь же, по крайности, соблюдалась традиция, требующая проявления восторженной радости при рождении наследника Горменгаста. Однако обнаружить при посторонних собственный восторг было для Флэя невозможным. И передвигаясь по забитому людьми коридору, и минуя одно за другим темные ответвления, ведшие к бойне, из которой тянуло зловонием свежей крови, к пропахшим сладкими хлебами пекарням, к лестницам, уходящим вниз, в винные погреба и в паутину замковых подземелий, он определенно переживал удовлетворение, замечая, сколь многие из гуляк и бражников расступаются, чтобы дать ему дорогу, ибо положение главного слуги его светлости было весьма высоким, а мрачная складка губ и хмурость, свившая себе вечное гнездо на его выступающем лбу, несли в себе грозное предупреждение.
Нечасто доводилось Флэю одобрять в других показные проявления счастья. Он видел в счастье семя независимости, а в независимости – семя крамолы. Однако случаи, подобные нынешнему, это другой коленкор, ибо в них неумолимо проявлял себя дух общности и согласия, и господин Флэй ощущал, где-то между ребрами, уколы острого удовольствия.
Он дошел уже до середины коридора слуг, здесь, налево от него, зияли распахнутые настежь тяжелые деревянные двери Великой Кухни. Дальше тянулся, сужаясь в перспективе – темной, поскольку окна отсутствовали, – остаток коридора. В нем уже не было дверей ни слева, ни справа, а на дальнем своем конце он упирался в кремнистую стену. Обычно этот бесполезный тупик оставался, как то и следовало, пустым, но ныне господин Флэй приметил в нем несколько распростертых в сумраке тел. И в тот же миг его оглушил громовый рев, топот и лязг.
Господин Флэй вошел в Великую Кухню и на него сразу обрушилась волна ужасного, парного, душного жара. Он ощутил, как тело его приняло удар этой волны. Дело было не только в привычно тошнотворной кухонной атмосфере, усугубляемой бившими сквозь высоко сидящие окна лучами солнца, нет, в праздничном угаре кто-то переложил в печи топлива, разведя в них опасный огонь. Впрочем, Флэй понимал, что это правильно, такое место и должно быть невыносимым. Он понимал даже, что четверо жарщиков, которые тяжелыми сапогами забивали окорок за окороком в железные двери печи, покамест та не уступала их неустанному натиску, поступают в согласии с предписанным законом настроением празднества. Конечно, они не разумеют, что творят и зачем, но разве это имеет значение? Графиня разродилась наследником, тут уж не до разумного поведения.
Сложенные из серых каменных плит, источавшие жаркий пар стены огромного помещения составляли предмет личной заботы восемнадцати слуг, называемых Серыми Скребунами. Особая их привилегия состояла в том, чтобы, достигнув отрочества, узнать, что поприще для них, как для сыновей своих отцов, уже назначено и впереди их ждут неотличимые жизни, посвященные исполнению не способной порадовать воображение, хоть и достохвальной обязанности. Последняя сводилась к тому, чтобы ежеутренне до блеска начищать необъятный серый пол и высокие стены. В каждый день года, с трех предутренних часов и почти до одиннадцати, до часа, когда их козлы и лестницы начинали мешать поварам, Серые Скребуны исполняли свое наследственное призвание. Сам характер их ремесла сообщал рукам Скребунов невероятную мощь, и когда они привольно свешивали по бокам свои колоссальные лапищи, в облике их проступало нечто большее, чем простое обезьяноподобие. При всей корявости их обличий, люди эти составляли неотъемлемую часть Великой Кухни. Не будь здесь Серых Скребунов, любой социолог, явившийся в это мглистое помещение в поисках звена, завершающего круг темпераментов, последней ноты в гамме низших человеческих ценностей, ощутил бы, что в ней не хватает чего-то очень земного, сильного, подлинного.
Повседневная близость к огромным каменным плитам, обращала и лица Скребунов в подобия этих плит. Физиономии всех восемнадцати давно лишились какого ни на есть выражения, если не считать таковым само отсутствие оного. То были просто плиты, с помощью которых Серые Скребуны говорили, что случалось нечасто, смотрели – всегда, и слушали, едва ли что-нибудь слыша. Традиция предписывала им глухоту. На плитах устроены были глаза, маленькие и плоские, точно монеты, окрашенные все в тот же булыжный цвет, как будто за долгие часы профессионального призора за стенами те наконец отразились в этих глазах – и уже неизгладимо, раз и навсегда. Да, глаза имелись – тридцать шесть глаз, к коим прилагалось по восемнадцати носов, а также ртов, походивших на рассекшие плиты иззубренные трещины. И хоть все, чему положено иметься на человечьем лице, присутствовало и на каждом из восемнадцати, различить на них хотя бы малейший признак оживления не удавалось еще никому, и даже если бы можно было свалить их черты в большую миску и основательно перемешать, а затем наугад выудить по одной и налепить на восковую башку какого-нибудь манекена – в какое угодно место и под каким угодно углом, – ничего бы не изменилось, ибо и самое фантастическое, самое затейливое их сочетание не смогло бы вдохнуть жизнь в сооружение, составные части которого мертвы. Взятые в совокупности, сто восемь их лицевых признаков, – причитая сюда и уши, временами чудовищно выразительные, – не смогли бы даже при самом благоприятном стечении обстоятельств набраться сил, по отдельности или en masse[2] чтобы явить и легчайшую тень намека на работу того, что крылось под ними.
Наблюдая все возраставшее в Великой Кухне волнение, Скребуны, неспособные по причине своей глухоты понять, чем оно вызвано, ухитрились тем не менее за последний час или два проникнуться праздничным духом, пронявшим кухонную челядь не только до глубины сердечной, но и до самых потрохов.
И теперь, в этот наиважнейший день, восемнадцать Серых Скребунов, осознавших наконец, что на свет явился новый Властитель, рядком лежали на каменных плитах под огромным столом, все до единого пьяные в стельку. Они почтили событие и сошли со сцены, и их по одному закатили под стол, будто восемнадцать бочонков с элем, в каковые они, собственно, и обратились.
Сквозь наполнявший Великую Кухню гул голосов, вздымавшийся и опадавший, менявший темп и медливший, пока пронзительный порыв или хриплый накат звука не сменялся новой паузой лишь для того, чтобы ее вновь сотряс отвратительный взрев хохота, или дробный шепоток, или хрип прочищаемой глотки, – сквозь все это плотное, узорчатое плетение бедлама привычной темой скорбного усердия проступал тяжелый храп Серых Скребунов.
К чести Скребунов следует сказать, что они присосались к своим бочонкам, как присасывается к груди еще не отнятый от нее младенец, лишь после того, как благодаря их стараниям засияли полы и стены кухни. Да и не их одних перестали держать ноги. То же несомненное доказательство верноподданнических чувств являли не менее сорока членов кухонного причта, которые, подобно Серым Скребунам, отыскав в бутылке наилучшее средство для выражения преданности роду Гроанов, уже погрузились в видения и грезы.
Господин Флэй, утирая тыльной стороной клешнеобразной ладони пот, уже обильно оросивший его чело, позволил своему взгляду ненадолго задержаться на косных, укороченных перспективой телах упившихся Скребунов. Они лежали к нему головами, остриженными коротко – до серой, как орудийная сталь, щетины. Тени свили себе гнездо под столом, и прочие части Скребуньих тел, параллельно сужавшихся, быстро глотала мгла. С первого взгляда Флэю показалось, что перед ним всего лишь рядок свернувшихся ежиков, прошло какое-то время, прежде чем он уяснил, что смотрит на щетинистые головы. Поняв это, он хмурым взглядом окинул Великую Кухню. Все в ней смешалось, но за бурлением движущихся тел, за временным хаосом перевернутых разделочных столов, за полом, усеянным кастрюльками для бульона, сковородками для соусов, разбитыми мисками, тарелками и объедками, господин Флэй различил коренной костяк кухни, на котором разум его утверждался, как на опоре, ибо кухня плыла перед ним в вязком тумане. Вон отделенная тяжкой каменной стеной с крепкой деревянной дверью, garde-manger[3] со штабелями окороков, подвешенными цельными тушами и – с внутренней стороны двери – вертелами. На вделанном в пол столе, тянувшемся вдоль всей стены, стояли огромные миски, вмещавшие до полусотни порций. Суповые кастрюли вечно булькали, перекипали, и пол под ними покрывала коричневатая жижа и яичная скорлупа, бросаемая в кастрюли для придания ясности бульону. Опилки, каждое утро разбрасываемые по полу, теперь были сбиты ногами в пропитанные пролитым вином бугорки. И всюду валялись по полу катыши сала, круглые и растоптанные, похожие из-за прилипших к ним опилок на фрикадельки. На потеющих стенах висели ножи забойные и шпикари, обвалочные, шкуросъемные ножи и двуручные секачи, а под ними стояла разделочная колода, двенадцать на девять футов, иссеченная вдоль и поперек, затрухлявевшая от полученных за десятки лет обширных ран.
По другую сторону кухни, слева от господина Флэя, вехами ему служили великанских размеров медный котел, шедшие в ряд печи и узкий дверной проем. Печные заслонки были распахнуты, из них опасно вырывалось наружу едкое пламя, поскольку внутри смердели и пузырились бросаемые прямо в огонь ошметки сала.
Господина Флэя раздирали противоречивые чувства. То, что он видел, вызывало в нем отвращение, ибо из всех помещений замка именно кухню он ненавидел пуще всего, на что у Флэя имелась вполне основательная причина; и все-таки трепет, продиравший его приличное пугалу тело, убеждал господина Флэя в правильности всего, что здесь происходит. Он, разумеется, не мог проанализировать свои чувства, даже идея такая явиться ему не могла, и все же он слишком сросся с Горменгастом, чтобы не ощущать всем нутром, что самая суть традиций замка мощно и неуклонно изливается здесь в предназначенное ей русло.
Однако то обстоятельство, что Флэй, принуждаемый к тому глубочайшим из побуждений, по достоинству оценивал всю вульгарность происходящего в Великой Кухне, нимало не умеряло его презрения к людям, которых он ныне видел. Он переводил взгляд с одного человека на другого, и удовлетворение, испытанное им при виде их слитной массы, сменялось отвращением к каждому в отдельности.
Удивительная, вывихнутая какая-то, спиралью завившаяся балка плыла, или так только казалось, над простором Великой Кухни. Снизу в нее были ввинчены там и сям железные крючья. С балки свисали подобно мешкам, наполовину набитым опилками, – столь безжизненными казались они, – пара пирожников, дряхлый poissonier[4], rôtier[5] с ногами настолько кривыми, что они замыкались в неправильный круг, рыжий légumier[6] и пятеро sauciers[7]с положенными их званию зелеными шарфами на шеях. На дальнем от Флэя конце один из них еле приметно дергался, прочие же сохраняли полную неподвижность. Все они были безмерно счастливы.

Господин Флэй сделал несколько шагов, и кухонный чад сомкнулся вокруг него. У дверей он стоял незамеченным, но теперь, когда выступил вперед, какой-то пьяница вдруг взвился в воздух и вцепился в один из крюков, свисавших с темной балки над ними. Он висел на одной руке, идиот с застывшим на лице сосредоточенным бесстыдством. Должно быть, он обладал силой, непомерной для его малого роста, поскольку рука не только держала его на весу, но он умудрился еще подтянуться, достав до железного крюка головой. Пока господин Флэй проходил под ним, карлик, с немыслимой быстротой извернувшись кверху ногами, обвил ими скрученную балку и повис, так что перевернутая рожа его с нелепой ухмылкой закачалась в нескольких дюймах от лица господина Флэя, которому осталось лишь резко остановиться. Тут карла рывком забросил свое тело на балку и помчался по ней на четвереньках с проворством, приличествующим более джунглям, нежели кухне.
Громовый рев, перекрывший всю прочую какофонию, заставил господина Флэя оторвать от карлика взгляд. Слева, в тени подпирающей потолок колонны, Флэй различил того, кто все это время, с той самой минуты, как он вошел в Великую Кухню, сидел у него в мозгу подобием опухоли.
СВЕЛТЕР
Главный повар Горменгаста, кое-как взгромоздясь на винную бочку, взывал к поварятам, одетым в полосатые волглые куртки и белые шапочки. Поварята, чтобы не повалиться, обнимали друг друга за плечи. На отроческих лицах их, распаренных жаром близких печей, застыло ошалелое выражение, когда же поварята разражались смехом или аплодировали нависавшей над ними туше, в них проступало безумное, угодливое рвение. Как только господин Флэй на несколько ярдов приблизился к ним, в пекле, сгустившемся над винной бочкой, раскатился еще один взрев, подобный тому, какой долетел до него мгновением раньше.
Юные поварята и прежде не раз слышали этот рев, но никогда не связывали его с чем бы то ни было, кроме гнева. И оттого в первый миг он поварят напугал, но мало-помалу они уяснили, что нынче в нем отсутствуют раздраженные ноты.
Главный повар громоздился над ними – хмельной, надменный, педантичный и страшно довольный собой.
Поварята, сгрудившись вкруг бочки, пьяно покачивались, лица их ловили и отпускали свет, лившийся сквозь пробитое под потолком окно, – они тоже, хоть и на помутненный лад, были собою довольны. Многократное эхо беспричинного, судя по всему, вопля главного повара стихло, и все, кто стоял у бочки неровным кружком, яро затопали ногами и восторженно завизжали, ибо увидели, как размытый сумрак, окутавший огромную, парящую над ними голову, сгущается в бессмысленную улыбку. Никогда еще не дозволялось им так вольничать в присутствии их повелителя, и теперь они норовили превзойти один другого в проявлениях фамильярности, доселе неслыханной. Они наперебой старались завоевать благосклонность главного повара, изо всех сил выкликая его имя. Они норовили поймать его взгляд. Все они очень устали, всех тяжко мутило от выпитого и от жары, но неистовая жизнь еще бушевала в них, питаясь запасами замутненной винопийством нервной энергии. Во всех, кроме одного юноши с высоко поднятыми плечьми, хранившего на протяжении всей этой сцены угрюмое молчание. Он ненавидел возвышавшуюся над ним фигуру и презирал своих собратьев-поварят. Он стоял, прислонясь к утопавшему в тени боку колонны, укрывшей его от глаз главного повара.
Даже в такой день сцена эта привела господина Флэя в раздражение. Хотя теоретически он все это одобрял, на практике подобный спектакль оказался ему неприятен. Господин Флэй помнил, что с первой же встречи со Свелтером он и повар мгновенно прониклись друг к другу неприязнью, которая в дальнейшем лишь растравлялась все пуще. Свелтера раздражало даже присутствие в его кухне костлявой, разболтанной фигуры личного слуги графа Сепулькревия, и единственным, что отчасти умеряло раздражение, была возможность поупражняться на счет господина Флэя в остроумии, коим Свелтер его превосходил.
Господин же Флэй заявлялся в чадные владения Свелтера только с одной целью. Доказать себе и другим, что его, человека, приближенного к лорду Гроану, никому из челяди устрашить не удастся.
Держа этот непреложный факт перед своим умственным взором, он время от времени обходил помещения слуг, никогда, впрочем, не вступая в кухню без тошного ощущения под ложечкой и никогда не покидая ее без обновленной хандры.
Длинные солнечные лучи, отражаясь в мерцающей мути от мокрых стен, покрыли тело главного повара пятнами призрачного света. Снизу он представлялся крапчатым сгущением теплой, смутной, смешанной с серостью белизны, тонущим в трясине ночного мрака, – тушей, возносящейся и исчезающей между стропил. Время от времени Свелтер прислонялся плечом к каменной колонне пообок, и латки света сплывали по выродившейся белизне его туго натянутой форменной куртки. В миг, когда господин Флэй приметил повара, лицо оного полностью укрывала тень. Над нею стройно парил форменный белый колпак, туманный топсель, теряющийся в разодранных небесах. В целом, повар и впрямь чем-то напоминал галеон.
Одно из пятен отраженного солнечного блеска блуждало туда-сюда по его брюху. Эта лужица света, словно загипнотизированная, перемещалась взад-вперед, временами выхватывая из темноты длинный красный остров винного пятна. Остров, когда на него падал свет, казалось, отрывался от нечистого одеяния повара, разрушая общий строй светотени и отрицая законы сочетания тонов. В этом украсившем вздутый холст, незатейливом свидетельстве разгула, которому предался Свелтер, присутствовало, к удивлению господина Флэя, нечто завораживающее. С минуту Флэй смотрел, как оно появляется, исчезает и появляется снова – багряный ромб на раскачивающемся теле.

Еще один бессмысленный взрыв топота и визга рассеял эти чары, и Флэй, оглядевшись, скривился. На какой-то миг воспоминание о господине Ротткодде в его пыльном пустынном зале прокралось в сознание Флэя, и он потрясенно понял, насколько в сущности милее – в сравнении с этим адом освященного веками дебоша – была ему вялая и по видимости нелояльная самососредоточенность Смотрителя. Он протолкался к месту, с которого можно было охватить взглядом всю картину разом, откуда он мог видеть все, сам оставаясь невидимым, и тут обнаружил, что Свелтер, попрочнее утвердясь на ногах, помавает огромной мягкой рукой, требуя, чтобы сгрудившиеся под ним отроки умолкли. Флэй заметил, что привычная резкость повадки и тона Свелтера сменилась сегодня чем-то сдобным, пропитанным по случаю пиршества свинцовой приторностью, пугающей задушевностью, еще более страшной, чем самые грозные припадки его гнева. Голос Свелтера падал из теней гигантскими комьями звуков, или вернее, теплыми тошными нотами некоего чудовищного, заплесневелого, свалянного из войлока колокола.
Мягкая рука смирила бурление поварят, толстый голос Свелтера поплыл, отделяясь от его лица.
– Желщные камушки! – Он так широко развел в сумраке руки, что с тужурки поотлетали пуговицы, и одна из них, со свистом прорезав зал, оглушила таракана на противоположной стене. – Шомкните ряды, шомкните ряды и шлушайте шо вшею внимательноштью. Приближься же, мелкое море лиц, ближе ко мне, мои меленькие.
Поварята качнулись вперед, пихаясь, давя друг другу ноги. Стоявших впереди притиснуло к винной бочке.
– Вот так. Вот именно так, – сказал, осклабившись, Свелтер. – Вот теперь мы одна маленькая, радошная шемья. Шамая што ни на ешть отборная и ражвитая.
Он сунул жирную руку в прорезь должностной тужурки и вытянул из бокового кармана бутылку. Выдрав пробку губами, обхватившими ее с жутковатой мускульной силой, Свелтер влил себе в глотку полпинты, – не вынимая пробки из губ, ибо он приложил к горлышку палец, разделивший вино на две струи, которые, лихо омыв изнутри его щеки, соединились в глубинах глотки и с тусклым журчаньем ниспали в несказанные пропасти, лежавшие ниже.
Поварята в восторге и обожании затопали и завыли, щипля и терзая друг дружку.
Главный повар вынул пробку из губ, повертел ее в пальцах и, удостоверясь, что она осталась идеально сухой, закупорил бутылку и вернул ее сквозь ту же прорезь в карман.
Снова он поднял ладонь и снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжким, возбужденным дыханием.
– Теперь шкажите мне, мои вонющие херувимшики. Шкажите и шкажите как можно быштрее – кто я ешть? Шкажите как можно быштрее.
– Свелтер, – завопили они, – Свелтер, господин! Свелтер!
– И это вще, што вы жнаете? – пал сверху голос. – И это вще, што ты жнаешь, маленькое море лиц? Тогда молщять! И шлушать меня полутче. Меня, главного повара Горменгашта, мужем и малыциком, шорок лет, в щиштоте и щаде, в дождь или в шнег, в пыли и опилках, бараны и лани и прочие, и вще они жарятся в меру и поливаютщя алоэвым шоушом с щютошкой оштрого перщика.
– С чуточкой острого перчика, – взвыли поварята, пихая друг друга локтями. – Можно мы сготовим его, господин? Прямо сейчас, господин, и плюхнем в медный котел, господин, и размешаем. Ох! какая вкуснятина, господин, какая вкуснятина!
– Молщять! – рявкнул главный повар. – Молщять, мои шветлые малыцики. Молщять, рыгающие ангелятки. Приближьтещ, приближьтещ ш вашими наметанными лищиками, и я шкажу вам, кто я ешть.
Не разделявший всеобщего возбуждения юноша со вздернутыми плечами, вытащил кургузую трубку узловатого, червями источенного дерева и неторопливо набил ее. Рот его был напрочь лишен выражения, губы не изгибались ни кверху, ни книзу, глаза же темнели и тлели от зрелой ненависти. Они оставались полуприкрытыми, но то, что им хотелось сказать, клубилось за ресницами, пока он вглядывался в человека, опасно кренившегося на винной бочке.
– Шлушайте хорошо, – продолжал голос, – и я шкажу вам кто я, а пошле шпою пешню и вы будете жнать, кто вам поет, мои гадкие бешмышленные филейщики.
– Песню! песню! – вступил визгливый хор.
– Во-первых, – объявил повар, наклоняясь и роняя каждое задушевное слово, будто облитое сиропом пушечное ядро. – Во-первых, я никто иной как Абиата Швелтер, а это жнащит, ибо то вам не ведомо, што я ешть щимвол доштатка и превошходштва. Я отец доштатка и превошходштва. Так кто я такой?
Юные поварята и прежде не раз слышали этот рев, но никогда не связывали его с чем бы то ни было, кроме гнева. И оттого в первый миг он поварят напугал, но мало-помалу они уяснили, что нынче в нем отсутствуют раздраженные ноты.
Главный повар громоздился над ними – хмельной, надменный, педантичный и страшно довольный собой.
Поварята, сгрудившись вкруг бочки, пьяно покачивались, лица их ловили и отпускали свет, лившийся сквозь пробитое под потолком окно, – они тоже, хоть и на помутненный лад, были собою довольны. Многократное эхо беспричинного, судя по всему, вопля главного повара стихло, и все, кто стоял у бочки неровным кружком, яро затопали ногами и восторженно завизжали, ибо увидели, как размытый сумрак, окутавший огромную, парящую над ними голову, сгущается в бессмысленную улыбку. Никогда еще не дозволялось им так вольничать в присутствии их повелителя, и теперь они норовили превзойти один другого в проявлениях фамильярности, доселе неслыханной. Они наперебой старались завоевать благосклонность главного повара, изо всех сил выкликая его имя. Они норовили поймать его взгляд. Все они очень устали, всех тяжко мутило от выпитого и от жары, но неистовая жизнь еще бушевала в них, питаясь запасами замутненной винопийством нервной энергии. Во всех, кроме одного юноши с высоко поднятыми плечьми, хранившего на протяжении всей этой сцены угрюмое молчание. Он ненавидел возвышавшуюся над ним фигуру и презирал своих собратьев-поварят. Он стоял, прислонясь к утопавшему в тени боку колонны, укрывшей его от глаз главного повара.
Даже в такой день сцена эта привела господина Флэя в раздражение. Хотя теоретически он все это одобрял, на практике подобный спектакль оказался ему неприятен. Господин Флэй помнил, что с первой же встречи со Свелтером он и повар мгновенно прониклись друг к другу неприязнью, которая в дальнейшем лишь растравлялась все пуще. Свелтера раздражало даже присутствие в его кухне костлявой, разболтанной фигуры личного слуги графа Сепулькревия, и единственным, что отчасти умеряло раздражение, была возможность поупражняться на счет господина Флэя в остроумии, коим Свелтер его превосходил.
Господин же Флэй заявлялся в чадные владения Свелтера только с одной целью. Доказать себе и другим, что его, человека, приближенного к лорду Гроану, никому из челяди устрашить не удастся.
Держа этот непреложный факт перед своим умственным взором, он время от времени обходил помещения слуг, никогда, впрочем, не вступая в кухню без тошного ощущения под ложечкой и никогда не покидая ее без обновленной хандры.
Длинные солнечные лучи, отражаясь в мерцающей мути от мокрых стен, покрыли тело главного повара пятнами призрачного света. Снизу он представлялся крапчатым сгущением теплой, смутной, смешанной с серостью белизны, тонущим в трясине ночного мрака, – тушей, возносящейся и исчезающей между стропил. Время от времени Свелтер прислонялся плечом к каменной колонне пообок, и латки света сплывали по выродившейся белизне его туго натянутой форменной куртки. В миг, когда господин Флэй приметил повара, лицо оного полностью укрывала тень. Над нею стройно парил форменный белый колпак, туманный топсель, теряющийся в разодранных небесах. В целом, повар и впрямь чем-то напоминал галеон.
Одно из пятен отраженного солнечного блеска блуждало туда-сюда по его брюху. Эта лужица света, словно загипнотизированная, перемещалась взад-вперед, временами выхватывая из темноты длинный красный остров винного пятна. Остров, когда на него падал свет, казалось, отрывался от нечистого одеяния повара, разрушая общий строй светотени и отрицая законы сочетания тонов. В этом украсившем вздутый холст, незатейливом свидетельстве разгула, которому предался Свелтер, присутствовало, к удивлению господина Флэя, нечто завораживающее. С минуту Флэй смотрел, как оно появляется, исчезает и появляется снова – багряный ромб на раскачивающемся теле.

Еще один бессмысленный взрыв топота и визга рассеял эти чары, и Флэй, оглядевшись, скривился. На какой-то миг воспоминание о господине Ротткодде в его пыльном пустынном зале прокралось в сознание Флэя, и он потрясенно понял, насколько в сущности милее – в сравнении с этим адом освященного веками дебоша – была ему вялая и по видимости нелояльная самососредоточенность Смотрителя. Он протолкался к месту, с которого можно было охватить взглядом всю картину разом, откуда он мог видеть все, сам оставаясь невидимым, и тут обнаружил, что Свелтер, попрочнее утвердясь на ногах, помавает огромной мягкой рукой, требуя, чтобы сгрудившиеся под ним отроки умолкли. Флэй заметил, что привычная резкость повадки и тона Свелтера сменилась сегодня чем-то сдобным, пропитанным по случаю пиршества свинцовой приторностью, пугающей задушевностью, еще более страшной, чем самые грозные припадки его гнева. Голос Свелтера падал из теней гигантскими комьями звуков, или вернее, теплыми тошными нотами некоего чудовищного, заплесневелого, свалянного из войлока колокола.
Мягкая рука смирила бурление поварят, толстый голос Свелтера поплыл, отделяясь от его лица.
– Желщные камушки! – Он так широко развел в сумраке руки, что с тужурки поотлетали пуговицы, и одна из них, со свистом прорезав зал, оглушила таракана на противоположной стене. – Шомкните ряды, шомкните ряды и шлушайте шо вшею внимательноштью. Приближься же, мелкое море лиц, ближе ко мне, мои меленькие.
Поварята качнулись вперед, пихаясь, давя друг другу ноги. Стоявших впереди притиснуло к винной бочке.
– Вот так. Вот именно так, – сказал, осклабившись, Свелтер. – Вот теперь мы одна маленькая, радошная шемья. Шамая што ни на ешть отборная и ражвитая.
Он сунул жирную руку в прорезь должностной тужурки и вытянул из бокового кармана бутылку. Выдрав пробку губами, обхватившими ее с жутковатой мускульной силой, Свелтер влил себе в глотку полпинты, – не вынимая пробки из губ, ибо он приложил к горлышку палец, разделивший вино на две струи, которые, лихо омыв изнутри его щеки, соединились в глубинах глотки и с тусклым журчаньем ниспали в несказанные пропасти, лежавшие ниже.
Поварята в восторге и обожании затопали и завыли, щипля и терзая друг дружку.
Главный повар вынул пробку из губ, повертел ее в пальцах и, удостоверясь, что она осталась идеально сухой, закупорил бутылку и вернул ее сквозь ту же прорезь в карман.
Снова он поднял ладонь и снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжким, возбужденным дыханием.
– Теперь шкажите мне, мои вонющие херувимшики. Шкажите и шкажите как можно быштрее – кто я ешть? Шкажите как можно быштрее.
– Свелтер, – завопили они, – Свелтер, господин! Свелтер!
– И это вще, што вы жнаете? – пал сверху голос. – И это вще, што ты жнаешь, маленькое море лиц? Тогда молщять! И шлушать меня полутче. Меня, главного повара Горменгашта, мужем и малыциком, шорок лет, в щиштоте и щаде, в дождь или в шнег, в пыли и опилках, бараны и лани и прочие, и вще они жарятся в меру и поливаютщя алоэвым шоушом с щютошкой оштрого перщика.
– С чуточкой острого перчика, – взвыли поварята, пихая друг друга локтями. – Можно мы сготовим его, господин? Прямо сейчас, господин, и плюхнем в медный котел, господин, и размешаем. Ох! какая вкуснятина, господин, какая вкуснятина!
– Молщять! – рявкнул главный повар. – Молщять, мои шветлые малыцики. Молщять, рыгающие ангелятки. Приближьтещ, приближьтещ ш вашими наметанными лищиками, и я шкажу вам, кто я ешть.
Не разделявший всеобщего возбуждения юноша со вздернутыми плечами, вытащил кургузую трубку узловатого, червями источенного дерева и неторопливо набил ее. Рот его был напрочь лишен выражения, губы не изгибались ни кверху, ни книзу, глаза же темнели и тлели от зрелой ненависти. Они оставались полуприкрытыми, но то, что им хотелось сказать, клубилось за ресницами, пока он вглядывался в человека, опасно кренившегося на винной бочке.
– Шлушайте хорошо, – продолжал голос, – и я шкажу вам кто я, а пошле шпою пешню и вы будете жнать, кто вам поет, мои гадкие бешмышленные филейщики.
– Песню! песню! – вступил визгливый хор.
– Во-первых, – объявил повар, наклоняясь и роняя каждое задушевное слово, будто облитое сиропом пушечное ядро. – Во-первых, я никто иной как Абиата Швелтер, а это жнащит, ибо то вам не ведомо, што я ешть щимвол доштатка и превошходштва. Я отец доштатка и превошходштва. Так кто я такой?
