Страница:
Нянюшка Шлакк, которую это предложение повергло в окончательный ужас, подняла ко рту костлявые ручки и втянула голову в плечи. Затем она испуганно оглядела коридор и уж совсем собралась удрать, как вдруг ощутила, что ее ухватили за коленки – без угрозы, но крепко, – и не успев сообразить, что происходит, оказалась сидящей на высоком костлявом колене Доктора.
– Вы не животное, – повторил доктор Прюнскваллор, – ведь так?
Старая няня повернула к Доктору морщинистое лицо и мелко-мелко покачала головой.
– Разумеется, нет. Ха-ха-ха-ха-ха, разумеется, нет. Но скажите же мне, кто вы?
Кулачок Нянюшки вновь прижался к губам, и в глазках ее вновь появился испуг.
– Я… я старая женщина, – сказала она.
– Вы совершенно поразительная старая женщина, – сказал Доктор, – и ежели я не ошибаюсь, вы окажетесь вскоре на редкость бесценной старой женщиной. О да, ха-ха-ха, о да, более чем бесценной старой женщиной, уверяю вас. (Последовала пауза.) Давно ли вы в последний раз видели ее светлость, Графиню? Надо полагать, очень давно.
– Да, да, – сказала нянюшка Шлакк, – очень давно. Много-много месяцев назад.
– Так я и думал, – сказал Доктор. – Ха-ха-ха, так я и думал, и думал весьма часто. И вы, стало быть, даже понятия не имеете, почему вы станете незаменимой?
О нет, сударь! – сказала нянюшка Шлакк, глядя на поднос с быстро остывавшим завтраком.
– Вы любите младенцев, драгоценнейшая моя госпожа Шлакк? – спросил Доктор, перенося бедняжку на другое свое согнутое под чрезвычайно острым углом колено и вытягивая освободившуюся ногу, чтобы дать ее передохнуть. – Приятны ли вам эти крохотные создания, если взять их как целое?
– Младенцев? – переспросила госпожа Шлакк с оживлением, которого в ней до этой минуты не наблюдалось. – Да я их просто съесть готова, миленьких моих, просто съесть, сударь!
– Вот именно, – произнес доктор Прюнскваллор, – вот именно, моя добрая женщина. Вы готовы их съесть. В чем вряд ли возникнет необходимость. Строго говоря, такой поступок был бы прямо губителен, дорогая моя госпожа Шлакк, и особенно в обстоятельствах, в кои я обязан вас посвятить. Вскоре на ваше попечение передадут младенца. Съедать его, дорогая нянюшка Шлакк, отнюдь не следует. Вам предстоит растить его, это верно, но начинать с того, что вы его проглотите, – это было бы лишним. Ведь вы проглотили бы, ха-ха-ха-ха, – проглотили бы Гроана.
Услышанная нянюшкой Шлакк новость понемногу просачивалась в ее разум и наконец глаза ее стали большими как никогда.
– Нет, о нет, сударь!
– Да, о да, сударь! – отозвался Доктор. – Хотя Графиня в последнее время запрещает вам появляться у нее, тем не менее, нянюшка Шлакк, вас волей-неволей восстановят, ха-ха-ха, восстановят в весьма важном звании. Сегодня, если я не ошибаюсь, мне предстоит принять новехонького Гроана. Вы помните, как я принимал у Графини леди Фуксию?
Нянюшку Шлакк вдруг затрясло, слеза скатилась по ее щеке, старушка зажала ладони между коленями, едва не утратив равновесия на своем до крайности ненадежном насесте.
– Я помню все, сударь, до последней малости – все-все. Кто бы мог подумать?
– Точно так, – перебил ее доктор Прюнскваллор. – Кто бы мог подумать. Однако мне пора, ха-ха-ха, придется ссадить вас, нянюшка Шлакк, с моей коленной чашечки, – но скажите-ка мне, неужто вы ничего не знали о положении, в котором пребывает ее светлость?
– Ах, сударь, – сказала старушка, кусая себя за кулачок и испуганно шаря взглядом по коридору. – Ничего! ничего! Никто мне ни о чем не рассказывает.
– И при этом взваливают на вас всю работу, – сказал доктор Прюнскваллор. – Впрочем, вам это без сомнения нравится. То есть решительно без какого-либо сомнения. Ведь так?
– Ах, сударь, новый младенчик, спустя столько лет! Ах, я уже чувствую, как он пахнет!
– Хм? – удивился Доктор. – Ха-ха-ха, а вы, похоже уверены, что это будет он, а не она, дорогая моя госпожа Шлакк.
– О да, сударь, конечно он, сударь. Радость-то какая! И его отдадут мне, сударь? Правда, мне, никому другому?
– Другого выбора нет, – сказал Доктор с живостью, не вполне приличной господину из благородных, и улыбнулся, широко и бессмысленно. Тонкий нос его смотрел прямо на нянюшку Шлакк, копна седых волос отлепилась от стены. – А как там моя Фуксия? Что-нибудь подозревает?
– Ах нет, не подозревает. Совсем ничего не подозревает, сударь, благослови ее Господь. Она же редко выходит из своей комнаты, разве что по ночам, сударь. И ничего не знает, сударь, потому как ни с кем не разговаривает, только со мной.
Доктор, сняв нянюшку Шлакк с колена, встал.
– Весь Горменгаст ни о чем другом не говорит, а Западное крыло погружено во мрак. Весьма, весьма и весьма странно. Няня младенца вместе с его сестрой блуждают во тьме, ха-ха-ха. Но не надолго, не надолго. Клянусь всяческим просветлением, совсем не надолго!
– Сударь? – остановила нянюшка Шлакк Доктора, уже собравшегося уйти.
– Что? – спросил доктор Прюнскваллор, разглядывая свои длинные ногти. – Что, дорогая моя госпожа Шлакк? Только быстро.
– А-а – как она, сударь? Как ее светлость?
– Здорова, как бегемот, – ответил Прюнскваллор и тут же пропал за углом, и нянюшка Шлакк, которая с приоткрытым ртом и все еще вытаращенными глазами поднимала с полу холодный поднос, услышала как шаги его, вприпрыжку, точно птичка, подвигающегося к спальне графини Гроанской, выбивают в далеком проходе изысканную дробь.
Пока госпожа Шлакк стучала в дверь Фуксии, сердце ее гулко колотилось в груди. Нянюшке Шлакк всегда требовалось изрядное время, чтобы усвоить следствия того, о чем ей рассказали, и сообщенное Доктором лишь теперь подействовало на нее в полной мере. Снова, спустя столько лет, стать нянькой наследника дома Гроанов – снова омывать беспомощные ручки и ножки, отглаживать крохотные наряды, выбирать кормилицу в Наружных Жилищах! Снова стать абсолютным авторитетом во всем, что касается бесценного малютки, – все это навалилось теперь тяжким грузом болезненной гордости на ее быстро бившееся сердце.
Чувства эти до того ошеломили ее, что приколотую к двери записку она заметила, лишь постучав в дверь дважды. Старательно сощурясь, она различила, наконец, то, что Фуксия нацарапала своим неизменным угольным карандашом.
«Не могу ждать до судного дня – ты такая КОПУША!»
Госпожа Шлакк подергала дверную ручку, хоть и знала, что дверь заперта. Оставив поднос и яблоки на коврике под дверью, она засеменила к себе, в комнату, где ей можно будет погрузиться в безмятежные грезы о будущем. Выходит, жизнь ее еще не закончилась.
ЧЕРДАК
– Вы не животное, – повторил доктор Прюнскваллор, – ведь так?
Старая няня повернула к Доктору морщинистое лицо и мелко-мелко покачала головой.
– Разумеется, нет. Ха-ха-ха-ха-ха, разумеется, нет. Но скажите же мне, кто вы?
Кулачок Нянюшки вновь прижался к губам, и в глазках ее вновь появился испуг.
– Я… я старая женщина, – сказала она.
– Вы совершенно поразительная старая женщина, – сказал Доктор, – и ежели я не ошибаюсь, вы окажетесь вскоре на редкость бесценной старой женщиной. О да, ха-ха-ха, о да, более чем бесценной старой женщиной, уверяю вас. (Последовала пауза.) Давно ли вы в последний раз видели ее светлость, Графиню? Надо полагать, очень давно.
– Да, да, – сказала нянюшка Шлакк, – очень давно. Много-много месяцев назад.
– Так я и думал, – сказал Доктор. – Ха-ха-ха, так я и думал, и думал весьма часто. И вы, стало быть, даже понятия не имеете, почему вы станете незаменимой?
О нет, сударь! – сказала нянюшка Шлакк, глядя на поднос с быстро остывавшим завтраком.
– Вы любите младенцев, драгоценнейшая моя госпожа Шлакк? – спросил Доктор, перенося бедняжку на другое свое согнутое под чрезвычайно острым углом колено и вытягивая освободившуюся ногу, чтобы дать ее передохнуть. – Приятны ли вам эти крохотные создания, если взять их как целое?
– Младенцев? – переспросила госпожа Шлакк с оживлением, которого в ней до этой минуты не наблюдалось. – Да я их просто съесть готова, миленьких моих, просто съесть, сударь!
– Вот именно, – произнес доктор Прюнскваллор, – вот именно, моя добрая женщина. Вы готовы их съесть. В чем вряд ли возникнет необходимость. Строго говоря, такой поступок был бы прямо губителен, дорогая моя госпожа Шлакк, и особенно в обстоятельствах, в кои я обязан вас посвятить. Вскоре на ваше попечение передадут младенца. Съедать его, дорогая нянюшка Шлакк, отнюдь не следует. Вам предстоит растить его, это верно, но начинать с того, что вы его проглотите, – это было бы лишним. Ведь вы проглотили бы, ха-ха-ха-ха, – проглотили бы Гроана.
Услышанная нянюшкой Шлакк новость понемногу просачивалась в ее разум и наконец глаза ее стали большими как никогда.
– Нет, о нет, сударь!
– Да, о да, сударь! – отозвался Доктор. – Хотя Графиня в последнее время запрещает вам появляться у нее, тем не менее, нянюшка Шлакк, вас волей-неволей восстановят, ха-ха-ха, восстановят в весьма важном звании. Сегодня, если я не ошибаюсь, мне предстоит принять новехонького Гроана. Вы помните, как я принимал у Графини леди Фуксию?
Нянюшку Шлакк вдруг затрясло, слеза скатилась по ее щеке, старушка зажала ладони между коленями, едва не утратив равновесия на своем до крайности ненадежном насесте.
– Я помню все, сударь, до последней малости – все-все. Кто бы мог подумать?
– Точно так, – перебил ее доктор Прюнскваллор. – Кто бы мог подумать. Однако мне пора, ха-ха-ха, придется ссадить вас, нянюшка Шлакк, с моей коленной чашечки, – но скажите-ка мне, неужто вы ничего не знали о положении, в котором пребывает ее светлость?
– Ах, сударь, – сказала старушка, кусая себя за кулачок и испуганно шаря взглядом по коридору. – Ничего! ничего! Никто мне ни о чем не рассказывает.
– И при этом взваливают на вас всю работу, – сказал доктор Прюнскваллор. – Впрочем, вам это без сомнения нравится. То есть решительно без какого-либо сомнения. Ведь так?
– Ах, сударь, новый младенчик, спустя столько лет! Ах, я уже чувствую, как он пахнет!
– Хм? – удивился Доктор. – Ха-ха-ха, а вы, похоже уверены, что это будет он, а не она, дорогая моя госпожа Шлакк.
– О да, сударь, конечно он, сударь. Радость-то какая! И его отдадут мне, сударь? Правда, мне, никому другому?
– Другого выбора нет, – сказал Доктор с живостью, не вполне приличной господину из благородных, и улыбнулся, широко и бессмысленно. Тонкий нос его смотрел прямо на нянюшку Шлакк, копна седых волос отлепилась от стены. – А как там моя Фуксия? Что-нибудь подозревает?
– Ах нет, не подозревает. Совсем ничего не подозревает, сударь, благослови ее Господь. Она же редко выходит из своей комнаты, разве что по ночам, сударь. И ничего не знает, сударь, потому как ни с кем не разговаривает, только со мной.
Доктор, сняв нянюшку Шлакк с колена, встал.
– Весь Горменгаст ни о чем другом не говорит, а Западное крыло погружено во мрак. Весьма, весьма и весьма странно. Няня младенца вместе с его сестрой блуждают во тьме, ха-ха-ха. Но не надолго, не надолго. Клянусь всяческим просветлением, совсем не надолго!
– Сударь? – остановила нянюшка Шлакк Доктора, уже собравшегося уйти.
– Что? – спросил доктор Прюнскваллор, разглядывая свои длинные ногти. – Что, дорогая моя госпожа Шлакк? Только быстро.
– А-а – как она, сударь? Как ее светлость?
– Здорова, как бегемот, – ответил Прюнскваллор и тут же пропал за углом, и нянюшка Шлакк, которая с приоткрытым ртом и все еще вытаращенными глазами поднимала с полу холодный поднос, услышала как шаги его, вприпрыжку, точно птичка, подвигающегося к спальне графини Гроанской, выбивают в далеком проходе изысканную дробь.
Пока госпожа Шлакк стучала в дверь Фуксии, сердце ее гулко колотилось в груди. Нянюшке Шлакк всегда требовалось изрядное время, чтобы усвоить следствия того, о чем ей рассказали, и сообщенное Доктором лишь теперь подействовало на нее в полной мере. Снова, спустя столько лет, стать нянькой наследника дома Гроанов – снова омывать беспомощные ручки и ножки, отглаживать крохотные наряды, выбирать кормилицу в Наружных Жилищах! Снова стать абсолютным авторитетом во всем, что касается бесценного малютки, – все это навалилось теперь тяжким грузом болезненной гордости на ее быстро бившееся сердце.
Чувства эти до того ошеломили ее, что приколотую к двери записку она заметила, лишь постучав в дверь дважды. Старательно сощурясь, она различила, наконец, то, что Фуксия нацарапала своим неизменным угольным карандашом.
«Не могу ждать до судного дня – ты такая КОПУША!»
Госпожа Шлакк подергала дверную ручку, хоть и знала, что дверь заперта. Оставив поднос и яблоки на коврике под дверью, она засеменила к себе, в комнату, где ей можно будет погрузиться в безмятежные грезы о будущем. Выходит, жизнь ее еще не закончилась.
ЧЕРДАК
Тем временем, обуреваемая нетерпением Фуксия, так и не дождавшись завтрака, залезла в буфет, где у нее хранился неприкосновенный запас съестного – половинка булки с тмином и немного вина из одуванчиков. Здесь также имелась коробочка с финиками, которые Флэй, где-то ими разжившийся, принес ей несколько недель назад, и две наморщенных груши. Последние были завернуты в тряпицу. Затем она зажгла свечу и поставила ее на пол у стены, затем, выгнув молодую, сильную спину, ухватилась за изножье кровати и оттащила ее от стены настолько, чтобы можно было просунуться между стеной и изножьем и отпереть дверь «посудного шкапа». Перегнувшись через спинку изголовья, она подхватила пакет с едой, подняла с пола свечу и, пригнув голову, протиснулась сквозь узкую щель прямо на нижние ступени лестницы, темной спиралью уходившей вверх. Закрыв за собою дверь, Фуксия задвинула засов, и трепет, который она всегда испытывала, запираясь в своих владениях, охватил ее, на миг пронизав дрожью с головы до ног.
И вот, со свечой, освещавшей ее лицо и три плывущих перед нею ступени, Фуксия начала подниматься в свое царство.
Пока она карабкалась в винтом свивавшуюся тьму, тело ее распирала обморочная тревога, какая одолевает человека в зеленом месяце апреле. Сердце девочки болезненно билось.
То была любовь, равная по мощи любви мужчины к женщине и проникающая столь же глубоко. Любовь мужчины или женщины к им принадлежащему миру. К миру их очага, в котором честно сгорают их жизни, – сгорают привольным огнем.
Любовь ныряльщика к обжитому им миру волнующегося света. К миру жемчугов, и нитей травы, и воздуха жизни в его груди. Рожденный для того, чтобы нырять в глубину, он составляет единое целое с каждым роем лимонно-зеленых рыб, с каждой цветастой губкой. И замирая на феерическом дне океана, ухватившись за вросший в песок остов кита, он становится совершенным и бесконечным. Пульс, сила, вселенная колышутся в его теле. Он пребывает в любви.
Любовь художника, стоящего в одиночестве, вглядываясь, вглядываясь в творимую им гигантскую, красочную поверхность. С холстов, что, прислонившись к стене, стоят вместе с ним в этой комнате, в него вглядываются набросанные на пробу, остановившиеся в росте фигуры, движущиеся от пола до потолка в еще не бывалом ритме. Перекрученные тюбики, свежая краска, выдавленная и размазанная по сухой, покрывшей его палитру. Пыль под мольбертом. Краска, присохшая к ручкам кистей. Белый, безмолвный свет северного неба. Окно, изумленно глазеющее на него, пока он вдыхает свой мир. Свой мир: запах скипидара, в аренду взятая комната. Он придвигается к своему полурожденному детищу. Он пребывает в любви.
Жирная земля, пересыпающаяся, крошась, в пальцах пахаря. И как искатель жемчуга бормочет: «Я дома», – смутно продвигаясь в странном, водянистом свете; как художник шепчет: «Я дома», – на своем одиноком плоту, сбитом из досок пола; как медлительный землепашец на ниве… – так говорит с темнотой кружащая вдоль по лестнице Фуксия: «Я дома».
Вот это сродство свое с винтовой лестницей, с чердаком и лелеяла она, ведя правой ладонью по деревянной стене, карабкаясь вверх, встречая, наконец, как и ожидала, провисшую, податливую доску. Теперь она знала, что осталось лишь восемнадцать ступенек, что еще два поворота и – неописуемое, золотисто-серое, процеженное свечение чердака приветственно встретит ее.
Добравшись до верхней ступеньки, она привалилась к откачной трехфутовой дверце, похожей на дверцу хлева, оттянула засов и вошла в первое из трех помещений чердака.
Пробивавшееся сюда утреннее солнце сообщало разного рода предметам некое смутное устроение, но ни в малой мере не разгоняло тьмы. Тут и там тонкий луч пронизывал теплый, задумчивый сумрак, наполняясь неспешной пылью, кружащей, точно разреженная звездная твердь, в важном порядке.
Один из этих узких лучей осветил лоб и плечо Фуксии, другой извлек из ее платья румяный тон. Справа от нее стоял огромный, разрушающийся орган. Трубы его были поломаны, клавиши разболтались. Серые пауки, потратив десятилетия трудов, укутали фронтон органа в кружевную шаль. Недоставало лишь духа инфанты, чтобы восстать из пыли и покрыть ею плечи и голову, как баснословнейшей из мантилий.
Глаза Фуксии едва различались во мраке, ибо свет, падавший ей на лоб, утоплял по контрасту лицо девочки в еще более темных тенях. Но глаза ее были спокойны. Этот странный покой сменил возбуждение, проснувшееся в них на лестнице. Девочка, замершая на верхних ступенях, словно бы обратилась в иное существо.
Этот угол чердака был наиболее темным. Летом свет ухитрялся пробиться сквозь трещины в покоробленном дереве, между сместившимися камнями, но косые лучи его, казалось, шли не так прямо, как в зале побольше или в галерее, уходившей отсюда вправо. Третья комната, маленькая мансарда, с ее лесенкой, шедшей из галереи вверх, с ее перильчатой верандой, освещалась лучше всего, поскольку могла похвастаться окошком со ставнями, которые, открываясь, обнаруживали пространство кровель, башен и крепостных стен, большим полукругом лежавших внизу. Между высокими бастионами виднелась, сотнею футов ниже, часть прямоугольного дворика, на котором переходивший его человек казался не больше наперстка.
Сделав три шага к первой из галерей, Фуксия остановилась, чтобы перевязать над коленом подвязку. Смутные стропила нависали над ее головой и, распрямляясь, она увидела их и ощутила прилив неосознанной любви. Это обширное помещение заполнял всякий хлам. Очень длинное и высокое, оно казалось меньшим, нежели было на деле, ибо фантастические груды всего, что только можно вообразить, от огромного органа до оторванной, раскрашенной головы игрушечного льва, которым, видимо, тешился давным-давно кто-то из предков Фуксии, заполняли его, наползая от каждой стены, пока не осталась свободной лишь узкая аллейка, ведшая в следующий раздел чердака. Высокий, узкий проход этот, извиваясь, добирался до середины первой галереи, где резко сворачивал под острым углом направо. То, что этот каньон был набит всяким хламом, вовсе не означало, будто Фуксии он не интересен, будто она пользовалась им лишь как проходом. О нет, именно в нем провела она немало долгих вечеров, глубоко заползая в его пещеры и обнаружив немало странных укрытий среди разрозненных мощей прошлого. Она знала пути, ведшие к центру того, что представлялось курганами мебели, ящиков, музыкальных инструментов и игрушек, бумажных змеев, картин, бамбуковых доспехов и шлемов, флагов и прочих реликтов разного рода, знала, как знает индеец свою зеленую, потайную тропу. На расстоянии вытянутой руки от нее шкура, снятая вместе с головой с бабуина, пыльно свисала с разломанного барабана, воздымавшегося за тусклыми завалами чердачной дребедени. Сколь бы огромными и неприступными ни выглядели эти фантастические курганы в недвижном и теплом полусвете, Фуксия могла, если бы пожелала, неловко, но очень быстро углубиться в них, добраться до самой их сердцевины и, в одно-два мгновения совершенно исчезнув из виду, прилечь на древний диванчик, где ее поджидала книжка с картинками.
Этим утром Фуксия собиралась навестить третью из своих комнат и потому прошла каньоном и поднырнула под туго набитую ногу жирафа, которая, поймав луч пятнистого света, торчала поперек пути, образуя подобие низкой притолоки как раз перед самым поворотом. Миновав этот изгиб, Фуксия увидела то, что и ожидала увидеть. В двенадцати футах от нее спускались ко второму чердаку деревянные ступени. Стропила над ступеньками покоробились и обвисли, позволяя различить лишь часть лежавшей за ними залы. Но и видимое пространство пустого пола позволяло судить о целом. Она сошла по ступеням. Простор разодранных туч, небо, пустыня, покинутый берег – вот что открылось перед ней.
Первый шаг по пустым полам был для нее выходом в пространство. В простор, отдаленное представление о котором дают пронзительные крики кондоров, и он различается орлом сквозь кровь, что застит ему глаза.
Гулкий ритм бился в безмолвии этих мест. Залы, башни, покои Горменгаста остались на другой планете. Собрав в кулак плотную прядь волос, Фуксия оттянула голову назад, сердце ее колотилось, отдаваясь звоном в теле с головы и до пят, крохотные брильянты сверкали во внутренних уголках ее глаз.
Какими только персонажами ни населяла Фуксия заброшенную сцену пустоты! Именно здесь она наблюдала людей, выдуманных ею неистовых существ, вышагивавших из угла в угол, застывших, точно химеры, или летевших по воздуху, как серафимы с горящими крыльями, танцующих, сражающихся, смеющихся, плачущих. То был чердак ее фантазий, здесь могла она следить, как по пыльным полам приближаются к ней или уходят прочь внутренние ее собеседники.
Покрепче прижав к себе завернутые в ткань съестные припасы, Фуксия направилась, под монотонное эхо своих же шагов, к приставной лесенке, что поднималась к балкону на дальнем конце пустой залы. Она взбиралась по лестнице, перескакивая сразу двумя ногами со ступеньки на ступеньку, поскольку трудно помогать себе руками, держа подмышками еду на весь день и бутылку. Здесь некому было глядеть на ее прямую, крепкую спину, на плечи, на нескладные, неграциозные движения ног под багряным платьем, на длинные, спутанные, чернильно-черные волосы. Добравшись до середины, она подняла узел над головой, затолкала его на балкон и, вскарабкавшись следом, замерла над огромной, раскинувшейся под нею сценой, пустой, как забытое сердце.
Ладони ее лежали на деревянных перилах чердачной веранды, она смотрела вниз и сознавала, что может в единый миг вызвать к жизни пятерку главных персонажей своих фантазий. Тех, за кем она наблюдала отсюда так часто, словно они и вправду ходили там, внизу. Поначалу было не так-то легко понять их или объяснить им, что следует делать. Теперь это не составляло труда – во всяком случае, для них не составляло труда разыгрывать сцены, которые она уже множество раз видела в их исполнении. Один из них, Лепрекон, приползал сюда по стропилам и, хихикая, плюхался на пол, поднимая облако пыли, а после кланялся Фуксии и отворачивался, отыскивая взглядом свой набитый сверкающим золотом бочонок. Человек Дождя всегда приходил, свесив голову и сцепив за спиною руки, ему довольно было чуть приподнять веки, чтобы приструнить тигра, которого он вел за собой на цепи.
И сами они, и драмы, в которых они принимали участие, таились сейчас в зале, оставшемся у нее за спиной, но Фуксия прошла мимо кресла с высокой спинкой, в котором обычно сиживала на краю веранды, аккуратно притворила за собой висевшую на одной петле дверь и очутилась в третьем из трех помещений чердака.
Она положила узел на стол в углу, подошла к окну и тычком растворила обе ставни. Чулки опять сползли под колени, пришлось заново стягивать узлами подвязки на бедрах. В этой комнате она обычно думала вслух. Спорила с собой. Глядела в окошко на крыши замка и примыкающих к нему строений, наслаждалась вкусом одиночества.
– Я одна, – сказала она, уперевши локти в подоконник и уложив подбородок на руки. – Я совершенно одна, как мне и нравится. Теперь я могу подумать, потому что мне здесь не на кого сердиться. Не то что в моей комнате. И некому указывать мне, что я должна делать, потому что я – Госпожа. Нет и нет. Здесь я делаю то, что нравится мне. Фуксии здесь хорошо. И никто из них не знает, куда я подевалась. Флэй не знает. Отец не знает. Мать не знает. Никто не знает. Няня и та не знает. Только я. Я одна знаю, куда подевалась. Сюда, вот куда. Вверх по лестнице, потом на мой склад. А из склада в мою театральную комнату. А перейдя театральную, по лесенке на веранду. И оттуда через дверь на мой секретный чердак. Вот я и здесь. Теперь здесь. Я была здесь сто раз, но это все в прошлом. А сейчас настоящее. Я гляжу на крыши настоящего, я опираюсь на подоконник настоящего, а после, когда я состарюсь, я буду опираться на этот подоконник опять. На веки вечные… А теперь я устроюсь поудобнее и позавтракаю, – продолжала она разговаривать с собой, но еще не успев отвернуться от окна, уловила быстрыми глазами необычно большое скопление людей в одном из маленьких четырехугольных дворов далеко внизу, людей, принадлежавших, как ей с трудом удалось разобрать, к кухонной обслуге. Слишком привыкшая к тому, что в этот утренний час панорама внизу всегда остается пустынной, челядь занята по всему замку исполнением разнообразных своих обязанностей, Фуксия вновь резко повернулась к окну и стала вглядываться вниз с подозрительностью, почти со страхом. Почему чувство, что случилось нечто непоправимое, так быстро охватило ее? Для чужака ничего неуместного и необычного не было в том, что сотнями футов ниже, в залитом солнцем каменном дворике собралась небольшая толпа, но Фуксия, рожденная и взращенная в тисках железного ритуала Горменгаста, сознавала – зачинается нечто неслыханное. Она смотрела вниз, а людей там становилось все больше. Этого хватило, чтобы уничтожить ее прежнее настроение, заменив его тревогой и гневом.
– Что-то случилось, – сказала она, – что-то, о чем мне никто не сказал. Никто не сказал. Терпеть их не могу. Всех до единого. Что они там делают внизу, почему кишат, точно муравьи? Почему не работают, как им положено?
Она отвернулась от окна и оглядела комнату.
Все изменилось. Фуксия взяла грушу и рассеянно надкусила ее. Она собиралась посвятить утро размышлениям, ну, может быть, разыграть на пустом чердаке пьесу-другую, перед тем как спуститься вниз и потребовать у нянюшки Шлакк чаю и чего-нибудь поосновательнее к нему. Однако в толпе, собравшейся внизу, таилось какое-то зловещее предзнаменование. День был испорчен.
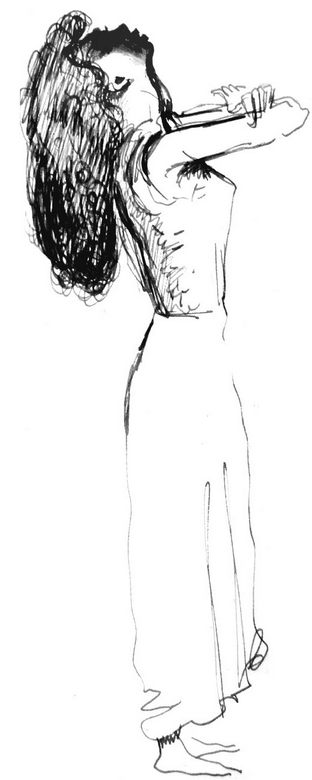
Фуксия обвела взглядом стены своей комнаты. Их украшали картины, которые она выбрала из многих дюжин полотен, отыскавшихся среди чердачного хлама. Одна, занимавшая всю стену, изображала колоссальный горный вид с дорогой, обвивающей, точно змея, чрезвычайно внушительного вида утес и забитой двумя армиями – одной в желтых мундирах, а другой, с боем наступающей снизу, в лиловых. Картина эта, казавшаяся освещенной факельным светом, всегда наполняла Фуксию восторженным трепетом, однако сегодня девочка скользнула по ней безразличным взглядом. Три другие стены с пятнадцатью полотнами на них выглядели не так эффектно. Более всех прочих ей нравились: голова ягуара, портрет двадцать второго графа Гроанского с совершенно белыми волосами и лицом, как бы дымчатым по причине чрезмерности покрывавшей его татуировки, и группа детей в розовом с белым муслине, играющих с гадюкой. Сотни других поясных и полных портретов предков Фуксия так и оставила среди хлама. В картинах ей нравилась неожиданность изображаемого предмета. Ее, похоже, охватывало наслаждение, когда художник сообщал ей нечто новое и невиданное. Такое, о чем сама она никогда прежде не думала.
Огромный перекрученный корень, притащенный из лесов, покрывавших Гору Горменгаст, стоял посреди комнаты. Он был отшлифован до редкостного блеска, каждая морщинка его тускло мерцала. Фуксия плюхнулась на самую импозантную в комнате вещь – на исполненную поблекшего великолепия и учтивости очертаний козетку, на которой угловатое тело Фуксии, когда она вот так полуприлегала, раскидывалось с неуступчивым неудобством. В глазах Фуксии, приобретших, когда она поднялась на чердак, столь чуждое им выражение покоя, снова затлела привычная ярость. Они шарили по комнате словно бы в тщетных поисках места, на котором можно спокойно остановиться, но ни фантастический корень, ни простоватый узор ковра на полу не способны были их удержать.
– Все неправильно. Все. Все, – сказала Фуксия. Она опять подошла к окну и вгляделась в людей, собравшихся во дворе. Те уже целиком заполнили все видимое пространство каменного квадрата. Налево, сквозь один из аркбутанов открывался вид на четыре дальних прохода в той части Горменгаста, которую населяли беднейшие его обитатели. И эти проходы также испещрились сегодня людскими скопищами, и Фуксия убедила себя, что слышит далекие, возносящиеся к небесам голоса. Не то чтобы она питала отчетливый интерес к «событиям» или празднествам, которые могли породить бурлящее внизу волнение, но этим утром девочка остро ощущала, что происходит нечто, в чем ей поневоле придется участвовать.
Большая книга со стихами и красочными картинками лежала на столе. Она всегда была готова открыться и поглотить внимание Фуксии. Девочка часто перелистывала ее, читая стихи низким, театральным голосом. И в это утро, она склонилась над книгой и принялась беспокойно листать ее страницы. Отыскав любимое стихотворение, Фуксия остановилась и медленно прочитала его, но мысли девочки витали далеко отсюда.
И вот, со свечой, освещавшей ее лицо и три плывущих перед нею ступени, Фуксия начала подниматься в свое царство.
Пока она карабкалась в винтом свивавшуюся тьму, тело ее распирала обморочная тревога, какая одолевает человека в зеленом месяце апреле. Сердце девочки болезненно билось.
То была любовь, равная по мощи любви мужчины к женщине и проникающая столь же глубоко. Любовь мужчины или женщины к им принадлежащему миру. К миру их очага, в котором честно сгорают их жизни, – сгорают привольным огнем.
Любовь ныряльщика к обжитому им миру волнующегося света. К миру жемчугов, и нитей травы, и воздуха жизни в его груди. Рожденный для того, чтобы нырять в глубину, он составляет единое целое с каждым роем лимонно-зеленых рыб, с каждой цветастой губкой. И замирая на феерическом дне океана, ухватившись за вросший в песок остов кита, он становится совершенным и бесконечным. Пульс, сила, вселенная колышутся в его теле. Он пребывает в любви.
Любовь художника, стоящего в одиночестве, вглядываясь, вглядываясь в творимую им гигантскую, красочную поверхность. С холстов, что, прислонившись к стене, стоят вместе с ним в этой комнате, в него вглядываются набросанные на пробу, остановившиеся в росте фигуры, движущиеся от пола до потолка в еще не бывалом ритме. Перекрученные тюбики, свежая краска, выдавленная и размазанная по сухой, покрывшей его палитру. Пыль под мольбертом. Краска, присохшая к ручкам кистей. Белый, безмолвный свет северного неба. Окно, изумленно глазеющее на него, пока он вдыхает свой мир. Свой мир: запах скипидара, в аренду взятая комната. Он придвигается к своему полурожденному детищу. Он пребывает в любви.
Жирная земля, пересыпающаяся, крошась, в пальцах пахаря. И как искатель жемчуга бормочет: «Я дома», – смутно продвигаясь в странном, водянистом свете; как художник шепчет: «Я дома», – на своем одиноком плоту, сбитом из досок пола; как медлительный землепашец на ниве… – так говорит с темнотой кружащая вдоль по лестнице Фуксия: «Я дома».
Вот это сродство свое с винтовой лестницей, с чердаком и лелеяла она, ведя правой ладонью по деревянной стене, карабкаясь вверх, встречая, наконец, как и ожидала, провисшую, податливую доску. Теперь она знала, что осталось лишь восемнадцать ступенек, что еще два поворота и – неописуемое, золотисто-серое, процеженное свечение чердака приветственно встретит ее.
Добравшись до верхней ступеньки, она привалилась к откачной трехфутовой дверце, похожей на дверцу хлева, оттянула засов и вошла в первое из трех помещений чердака.
Пробивавшееся сюда утреннее солнце сообщало разного рода предметам некое смутное устроение, но ни в малой мере не разгоняло тьмы. Тут и там тонкий луч пронизывал теплый, задумчивый сумрак, наполняясь неспешной пылью, кружащей, точно разреженная звездная твердь, в важном порядке.
Один из этих узких лучей осветил лоб и плечо Фуксии, другой извлек из ее платья румяный тон. Справа от нее стоял огромный, разрушающийся орган. Трубы его были поломаны, клавиши разболтались. Серые пауки, потратив десятилетия трудов, укутали фронтон органа в кружевную шаль. Недоставало лишь духа инфанты, чтобы восстать из пыли и покрыть ею плечи и голову, как баснословнейшей из мантилий.
Глаза Фуксии едва различались во мраке, ибо свет, падавший ей на лоб, утоплял по контрасту лицо девочки в еще более темных тенях. Но глаза ее были спокойны. Этот странный покой сменил возбуждение, проснувшееся в них на лестнице. Девочка, замершая на верхних ступенях, словно бы обратилась в иное существо.
Этот угол чердака был наиболее темным. Летом свет ухитрялся пробиться сквозь трещины в покоробленном дереве, между сместившимися камнями, но косые лучи его, казалось, шли не так прямо, как в зале побольше или в галерее, уходившей отсюда вправо. Третья комната, маленькая мансарда, с ее лесенкой, шедшей из галереи вверх, с ее перильчатой верандой, освещалась лучше всего, поскольку могла похвастаться окошком со ставнями, которые, открываясь, обнаруживали пространство кровель, башен и крепостных стен, большим полукругом лежавших внизу. Между высокими бастионами виднелась, сотнею футов ниже, часть прямоугольного дворика, на котором переходивший его человек казался не больше наперстка.
Сделав три шага к первой из галерей, Фуксия остановилась, чтобы перевязать над коленом подвязку. Смутные стропила нависали над ее головой и, распрямляясь, она увидела их и ощутила прилив неосознанной любви. Это обширное помещение заполнял всякий хлам. Очень длинное и высокое, оно казалось меньшим, нежели было на деле, ибо фантастические груды всего, что только можно вообразить, от огромного органа до оторванной, раскрашенной головы игрушечного льва, которым, видимо, тешился давным-давно кто-то из предков Фуксии, заполняли его, наползая от каждой стены, пока не осталась свободной лишь узкая аллейка, ведшая в следующий раздел чердака. Высокий, узкий проход этот, извиваясь, добирался до середины первой галереи, где резко сворачивал под острым углом направо. То, что этот каньон был набит всяким хламом, вовсе не означало, будто Фуксии он не интересен, будто она пользовалась им лишь как проходом. О нет, именно в нем провела она немало долгих вечеров, глубоко заползая в его пещеры и обнаружив немало странных укрытий среди разрозненных мощей прошлого. Она знала пути, ведшие к центру того, что представлялось курганами мебели, ящиков, музыкальных инструментов и игрушек, бумажных змеев, картин, бамбуковых доспехов и шлемов, флагов и прочих реликтов разного рода, знала, как знает индеец свою зеленую, потайную тропу. На расстоянии вытянутой руки от нее шкура, снятая вместе с головой с бабуина, пыльно свисала с разломанного барабана, воздымавшегося за тусклыми завалами чердачной дребедени. Сколь бы огромными и неприступными ни выглядели эти фантастические курганы в недвижном и теплом полусвете, Фуксия могла, если бы пожелала, неловко, но очень быстро углубиться в них, добраться до самой их сердцевины и, в одно-два мгновения совершенно исчезнув из виду, прилечь на древний диванчик, где ее поджидала книжка с картинками.
Этим утром Фуксия собиралась навестить третью из своих комнат и потому прошла каньоном и поднырнула под туго набитую ногу жирафа, которая, поймав луч пятнистого света, торчала поперек пути, образуя подобие низкой притолоки как раз перед самым поворотом. Миновав этот изгиб, Фуксия увидела то, что и ожидала увидеть. В двенадцати футах от нее спускались ко второму чердаку деревянные ступени. Стропила над ступеньками покоробились и обвисли, позволяя различить лишь часть лежавшей за ними залы. Но и видимое пространство пустого пола позволяло судить о целом. Она сошла по ступеням. Простор разодранных туч, небо, пустыня, покинутый берег – вот что открылось перед ней.
Первый шаг по пустым полам был для нее выходом в пространство. В простор, отдаленное представление о котором дают пронзительные крики кондоров, и он различается орлом сквозь кровь, что застит ему глаза.
Гулкий ритм бился в безмолвии этих мест. Залы, башни, покои Горменгаста остались на другой планете. Собрав в кулак плотную прядь волос, Фуксия оттянула голову назад, сердце ее колотилось, отдаваясь звоном в теле с головы и до пят, крохотные брильянты сверкали во внутренних уголках ее глаз.
Какими только персонажами ни населяла Фуксия заброшенную сцену пустоты! Именно здесь она наблюдала людей, выдуманных ею неистовых существ, вышагивавших из угла в угол, застывших, точно химеры, или летевших по воздуху, как серафимы с горящими крыльями, танцующих, сражающихся, смеющихся, плачущих. То был чердак ее фантазий, здесь могла она следить, как по пыльным полам приближаются к ней или уходят прочь внутренние ее собеседники.
Покрепче прижав к себе завернутые в ткань съестные припасы, Фуксия направилась, под монотонное эхо своих же шагов, к приставной лесенке, что поднималась к балкону на дальнем конце пустой залы. Она взбиралась по лестнице, перескакивая сразу двумя ногами со ступеньки на ступеньку, поскольку трудно помогать себе руками, держа подмышками еду на весь день и бутылку. Здесь некому было глядеть на ее прямую, крепкую спину, на плечи, на нескладные, неграциозные движения ног под багряным платьем, на длинные, спутанные, чернильно-черные волосы. Добравшись до середины, она подняла узел над головой, затолкала его на балкон и, вскарабкавшись следом, замерла над огромной, раскинувшейся под нею сценой, пустой, как забытое сердце.
Ладони ее лежали на деревянных перилах чердачной веранды, она смотрела вниз и сознавала, что может в единый миг вызвать к жизни пятерку главных персонажей своих фантазий. Тех, за кем она наблюдала отсюда так часто, словно они и вправду ходили там, внизу. Поначалу было не так-то легко понять их или объяснить им, что следует делать. Теперь это не составляло труда – во всяком случае, для них не составляло труда разыгрывать сцены, которые она уже множество раз видела в их исполнении. Один из них, Лепрекон, приползал сюда по стропилам и, хихикая, плюхался на пол, поднимая облако пыли, а после кланялся Фуксии и отворачивался, отыскивая взглядом свой набитый сверкающим золотом бочонок. Человек Дождя всегда приходил, свесив голову и сцепив за спиною руки, ему довольно было чуть приподнять веки, чтобы приструнить тигра, которого он вел за собой на цепи.
И сами они, и драмы, в которых они принимали участие, таились сейчас в зале, оставшемся у нее за спиной, но Фуксия прошла мимо кресла с высокой спинкой, в котором обычно сиживала на краю веранды, аккуратно притворила за собой висевшую на одной петле дверь и очутилась в третьем из трех помещений чердака.
Она положила узел на стол в углу, подошла к окну и тычком растворила обе ставни. Чулки опять сползли под колени, пришлось заново стягивать узлами подвязки на бедрах. В этой комнате она обычно думала вслух. Спорила с собой. Глядела в окошко на крыши замка и примыкающих к нему строений, наслаждалась вкусом одиночества.
– Я одна, – сказала она, уперевши локти в подоконник и уложив подбородок на руки. – Я совершенно одна, как мне и нравится. Теперь я могу подумать, потому что мне здесь не на кого сердиться. Не то что в моей комнате. И некому указывать мне, что я должна делать, потому что я – Госпожа. Нет и нет. Здесь я делаю то, что нравится мне. Фуксии здесь хорошо. И никто из них не знает, куда я подевалась. Флэй не знает. Отец не знает. Мать не знает. Никто не знает. Няня и та не знает. Только я. Я одна знаю, куда подевалась. Сюда, вот куда. Вверх по лестнице, потом на мой склад. А из склада в мою театральную комнату. А перейдя театральную, по лесенке на веранду. И оттуда через дверь на мой секретный чердак. Вот я и здесь. Теперь здесь. Я была здесь сто раз, но это все в прошлом. А сейчас настоящее. Я гляжу на крыши настоящего, я опираюсь на подоконник настоящего, а после, когда я состарюсь, я буду опираться на этот подоконник опять. На веки вечные… А теперь я устроюсь поудобнее и позавтракаю, – продолжала она разговаривать с собой, но еще не успев отвернуться от окна, уловила быстрыми глазами необычно большое скопление людей в одном из маленьких четырехугольных дворов далеко внизу, людей, принадлежавших, как ей с трудом удалось разобрать, к кухонной обслуге. Слишком привыкшая к тому, что в этот утренний час панорама внизу всегда остается пустынной, челядь занята по всему замку исполнением разнообразных своих обязанностей, Фуксия вновь резко повернулась к окну и стала вглядываться вниз с подозрительностью, почти со страхом. Почему чувство, что случилось нечто непоправимое, так быстро охватило ее? Для чужака ничего неуместного и необычного не было в том, что сотнями футов ниже, в залитом солнцем каменном дворике собралась небольшая толпа, но Фуксия, рожденная и взращенная в тисках железного ритуала Горменгаста, сознавала – зачинается нечто неслыханное. Она смотрела вниз, а людей там становилось все больше. Этого хватило, чтобы уничтожить ее прежнее настроение, заменив его тревогой и гневом.
– Что-то случилось, – сказала она, – что-то, о чем мне никто не сказал. Никто не сказал. Терпеть их не могу. Всех до единого. Что они там делают внизу, почему кишат, точно муравьи? Почему не работают, как им положено?
Она отвернулась от окна и оглядела комнату.
Все изменилось. Фуксия взяла грушу и рассеянно надкусила ее. Она собиралась посвятить утро размышлениям, ну, может быть, разыграть на пустом чердаке пьесу-другую, перед тем как спуститься вниз и потребовать у нянюшки Шлакк чаю и чего-нибудь поосновательнее к нему. Однако в толпе, собравшейся внизу, таилось какое-то зловещее предзнаменование. День был испорчен.
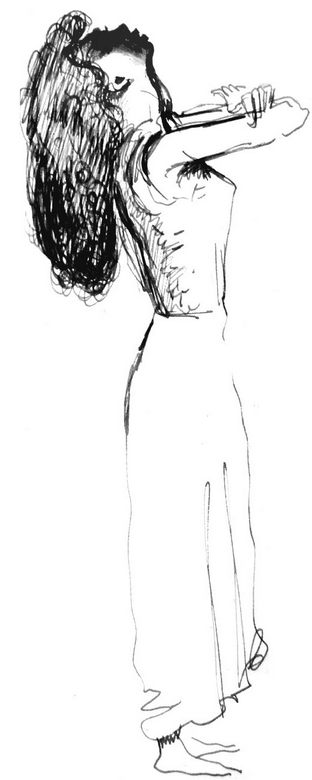
Фуксия обвела взглядом стены своей комнаты. Их украшали картины, которые она выбрала из многих дюжин полотен, отыскавшихся среди чердачного хлама. Одна, занимавшая всю стену, изображала колоссальный горный вид с дорогой, обвивающей, точно змея, чрезвычайно внушительного вида утес и забитой двумя армиями – одной в желтых мундирах, а другой, с боем наступающей снизу, в лиловых. Картина эта, казавшаяся освещенной факельным светом, всегда наполняла Фуксию восторженным трепетом, однако сегодня девочка скользнула по ней безразличным взглядом. Три другие стены с пятнадцатью полотнами на них выглядели не так эффектно. Более всех прочих ей нравились: голова ягуара, портрет двадцать второго графа Гроанского с совершенно белыми волосами и лицом, как бы дымчатым по причине чрезмерности покрывавшей его татуировки, и группа детей в розовом с белым муслине, играющих с гадюкой. Сотни других поясных и полных портретов предков Фуксия так и оставила среди хлама. В картинах ей нравилась неожиданность изображаемого предмета. Ее, похоже, охватывало наслаждение, когда художник сообщал ей нечто новое и невиданное. Такое, о чем сама она никогда прежде не думала.
Огромный перекрученный корень, притащенный из лесов, покрывавших Гору Горменгаст, стоял посреди комнаты. Он был отшлифован до редкостного блеска, каждая морщинка его тускло мерцала. Фуксия плюхнулась на самую импозантную в комнате вещь – на исполненную поблекшего великолепия и учтивости очертаний козетку, на которой угловатое тело Фуксии, когда она вот так полуприлегала, раскидывалось с неуступчивым неудобством. В глазах Фуксии, приобретших, когда она поднялась на чердак, столь чуждое им выражение покоя, снова затлела привычная ярость. Они шарили по комнате словно бы в тщетных поисках места, на котором можно спокойно остановиться, но ни фантастический корень, ни простоватый узор ковра на полу не способны были их удержать.
– Все неправильно. Все. Все, – сказала Фуксия. Она опять подошла к окну и вгляделась в людей, собравшихся во дворе. Те уже целиком заполнили все видимое пространство каменного квадрата. Налево, сквозь один из аркбутанов открывался вид на четыре дальних прохода в той части Горменгаста, которую населяли беднейшие его обитатели. И эти проходы также испещрились сегодня людскими скопищами, и Фуксия убедила себя, что слышит далекие, возносящиеся к небесам голоса. Не то чтобы она питала отчетливый интерес к «событиям» или празднествам, которые могли породить бурлящее внизу волнение, но этим утром девочка остро ощущала, что происходит нечто, в чем ей поневоле придется участвовать.
Большая книга со стихами и красочными картинками лежала на столе. Она всегда была готова открыться и поглотить внимание Фуксии. Девочка часто перелистывала ее, читая стихи низким, театральным голосом. И в это утро, она склонилась над книгой и принялась беспокойно листать ее страницы. Отыскав любимое стихотворение, Фуксия остановилась и медленно прочитала его, но мысли девочки витали далеко отсюда.
БЕСПУТНАЯ ПЛЮШКА
Заключительную строфу Фуксия прочла уже спеша, не воспринимая ее смысла. Машинально произнося последнюю строчку, она обнаружила, что идет к двери. Узел ее так и остался лежать на столе, развернутый и не тронутый, если не считать груши. Она выскочила на балкон, спустилась по лесенке на пустой чердак и через несколько мгновений достигла последних ступеней, ведших в заваленную барахлом галерею. И пока она спускалась спиральной лестницей, одна и та же мысль вертелась в ее голове.
Беспутная плюшка бездумно плыла
По бестолковым волнам.
А может быть, плюшка безумно плыла,
В раздрай, охмуренье и срам.
Несвежая, очень несвежая,
Плыла, извиваясь, как рысь,
И рыбин волна невежливая
Швыряла в лиловую высь.
Вода голубая раздольна, светла,
Мерлузы в ней – хоть завались,
И всякая рыба довольна и зла,
Взмывая в лиловую высь.
По ряби рябой, по высоким валам
Плывет же себе, воззри,
А следом – не трожь – отточенный нож,
Целит в цукаты внутри.
Что рыба-пила, острей, чем игла,
Блистательный, как фонари.
Беспутная плюшка в три силы гребла,
И с нею цукаты внутри.
Вода голубая раздольна, светла,
Мерлузы в ней – хоть завались, —
И всякая рыба довольна и зла,
Взмывая в лиловую высь.
За мыс Эстетический, прямо на Ост,
Где котик мурлычет морской,
С улыбкой критической, лижет свой хвост
И чешет плавник меховой,
Крича ему «Брысь!», в лиловую высь,
Беспутная плюшка и нож,
Взмывают, и он ей вдогон: Берегись!
Невеста моя, не уйдешь!
И крошки в волну уходят ко дну,
И плюшкино сердце стучит,
А путь недалек – уж чуткий клинок
Учуял любовь в ночи;
В рассеянный свет, мерлузам вослед
Взмывают крошки, и нож
В удушливом воздухе чувствует след,
Что чертит любовная дрожь[8].
