Страница:
По тому же внушению природы все условились считать белый цвет знаком радости, веселья, удовольствия, наслаждения и блаженства.
В былые времена фракийцы и критяне отмечали счастливые и радостные дни белым камнем, печальные и несчастливые — черным.
Разве ночь не зловеща, не печальна и не уныла? А ведь она темна и мрачна. Разве вся природа не радуется свету? А ведь ничего нет белее его. В доказательство я мог бы сослаться на книгу Лоренцо Баллы, которую он написал против Бартола, но полагаю, что вас вполне удовлетворит свидетельство евангелиста: в гл. XVII от Матфея, где говорится о Преображении Господнем, мы читаем: V estimenta ejus facta sunt alba sicut lux, одежды его сделались белыми, как свет, по каковой ослепительной белизне три апостола составили себе понятие и представление о вечном блаженстве. Свету радуется всякое живое существо; вы, верно, помните эту старуху, — у нее не осталось во рту ни единого зуба, а она все твердила: Bona lux![31]А ослепший Товит (гл. V), отвечая на приветствие Рафаила, воскликнул: «Как могу я радоваться, если не вижу света небесного?» И тем же цветом ангелы выразили радость всей вселенной в день воскресения Христова (от Иоанна, гл. XX) и в день вознесения (Деяния, гл. 1). В таких же одеждах увидел всех верных в небесном, блаженном граде Иерусалиме св. Иоанн Богослов (Апокалипсис, гл. IV и VII).
Прочтите древнюю историю, историю Греции, историю Рима. Вы узнаете, что город Альба-Лонга, прапращур Рима, был обязан своим происхождением белой свинье.
Вы узнаете, что у древних римлян был заведен такой порядок: победитель, коему предстояло с триумфом въехать в Рим, должен был восседать на колеснице, запряженной белыми конями; то же самое полагалось и при более скромном чествовании, ибо никакой другой знак или же цвет не мог ярче выразить радость по случаю прибытия триумфаторов, нежели белизна.
Вы узнаете, что Перикл, правитель афинский, отдал такое распоряжение: чтобы та часть его войска, коей по жребию достались белые бобы, целый день радовалась, веселилась и отдыхала, а другая часть сражалась. Количество примеров и ссылок я мог бы умножить, но здесь для этого не место.
Благодаря таковым познаниям вы сумеете разрешить проблему, которую Александр Афродисийский считал неразрешимой: «Почему лев, одним своим рыканием наводящий страх на всех животных, боится и чтит только белого петуха?» Оттого, как говорит Прокл в книге De sacrificio et magia[32], что свойство солнца, источника и вместилища всего земного и небесного света, более подходит и подобает белому петуху, если принять в соображение его цвет, его особенности и повадки, чем льву. Еще он говорит, что бесы часто принимают обличье льва, меж тем как при виде белого петуха они внезапно исчезают. Вот почему Galli[33] (то есть французы, названные так потому, что они от рождения белы, как молоко, а молоко по-гречески gala) любят носить на шляпах белые перья, ибо по природе своей они жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы, и гербом и эмблемой служит им белейший из всех цветов, а именно — лилия.
Если же вы спросите, каким образом природа дает нам понять, что белый цвет означает радость и веселье, то я вам отвечу, что аналогия и соответствие здесь таковы. Подобно тому как при взгляде на белое в глазах у человека все мелькает и ходит ходуном, оттого что белый цвет разлагает зрительные токи, о чем говорит в своих Проблемах Аристотель, и притупляет различительную способность (если вам случалось ходить по снежным горам, то вы должны были испытать это на себе, — вы начинали плохо видеть; Ксенофонт пишет, что так случилось с его воинами, об этом же подробно говорит Гален в кн. X, De usu partium) — так же точно сердце под влиянием радостного волнения ходит ходуном, вследствие чего начинается распад питающих его жизненных токов, и распад этот бывает иногда столь бурным, что сердце остается без всякой поддержки; таким образом, сильная радость может пресечь саму жизнь, на что указывает Гален в Method[34], книга XII, De locis affectis[35] и в De symptomaton causis[36], кн. II; а что такие случаи действительно имели место в древности, в этом нас убеждают Марк Туллий (см. Quaestio Tuscul.,[37]кн. 1), Веррий, Аристотель, Тит Ливий (после битвы при Каннах), Плиний (кн. VII, гл. XXXII и LIII), А. Геллий (кн. III, XV и др.), а также Диагор Родосский, Хилон, Софокл, Дионисий, тиран Сицилийский, Филиппид, Филемон, Поликрат, Филистион, М. Ювенций и многие другие, умершие от радости, или же, как указывает Авиценна во II трактате Канона и в книге De viribus cordis[38], от шафрана, сильная доза которого так возбуждает человека, что он умирает от расширения и разрыва сердца. Об этом вы можете прочитать у Александра Афродисийского в его Problematum[39] (кн. 1, гл. XIX). Что и требовалось доказать.
Впрочем, я увлекся и наговорил по этому поводу больше, чем предполагал вначале. Итак, я убираю паруса, докончу же я свое рассуждение в особой книге и докажу в немногих словах, что голубой цвет означает небо и все к нему относящееся и что связь символическая здесь та же, что и между белым цветом, с одной стороны, и радостью и наслаждением — с другой.

Глава XI.

В возрасте от трех до пяти лет Гаргантюа растили и воспитывали по всем правилам, ибо такова была воля его отца, и время он проводил, как все дети в том краю, а именно: пил, ел и спал; ел, спал и пил; спал, пил и ел.
Вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо, стаптывал башмаки, ловил частенько мух и с увлечением гонялся за мотыльками, подвластными его отцу. Писал себе на башмаки, какал в штаны, утирал рукавом нос, сморкался в суп, шлепал по всем лужам, пил из туфли и имел обыкновение тереть себе живот корзинкой. Точил зубы о колодку, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом, садился между двух стульев, укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аукали, так он и откликался, кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец, лопался от жира, нападал на своих, от дождя прятался в воде, ковал, когда остывало, ловил в небе журавля, прикидывался тихоней, драл козла, имел привычку бормотать себе под нос, возвращался к своим баранам, перескакивал из пятого в десятое, бил собаку в назидание льву, начинал не с того конца, обжегшись на молоке, дул на воду, выведывал всю подноготную, гонялся за двумя зайцами, любил, чтоб нынче было у него густо, а завтра хоть бы и пусто, толок воду в ступе, сам себя щекотал под мышками, уплетал за обе щеки, жертвовал Богу, что не годилось ему самому, в будний день ударял в большой колокол и находил, что так и надо, целился в ворону, а попадал в корову, не плутал только в трех соснах, переливал из пустого в порожнее, скоблил бумагу, марал пергамент, задавал стрекача, куликал, не спросясь броду, совался в воду, оставался на бобах, полагал, что облака из молока, а луна из чугуна, с одного вола драл две шкуры, дурачком прикидывался, а в дураках оставлял других, прыгал выше носа, черпал воду решетом, клевал по зернышку, даровому коню неукоснительно смотрел в зубы, начинал за здравие, а кончал за упокой, в бочку дегтя подливал ложку меду, хвост вытаскивал, а нос у него завязал в грязи, охранял луну от волков, считал, что если бы да кабы у него во рту росли бобы, то был бы не рот, а целый огород, по одежке протягивал ножки, всегда платил той же монетой, на все чихал с высокого дерева, каждое утро драл козла. Отцовы щенки лакали из его миски, а он ел с ними. Он кусал их за уши, а они ему царапали нос, он им дул в зад, а они его лизали в губы.
И знаете что, дети мои, чтоб вам допиться до белой горячки? Этот маленький потаскун щупал своих нянек почем зря и вверху и внизу, и спереди и сзади и стал уже задавать работу своему гульфику. А няньки ежедневно украшали его гульфик пышными букетами, пышными лентами, пышными цветами, пышными кистями и развлекались тем, что мяли его в руках, точно пластырь, свернутый в трубочку; когда же у гульфика ушки становились на макушке, няньки покатывались со смеху — видно было, что эта игра доставляла им немалое удовольствие.
Одна из них называла его втулочкой, другая — булавочкой, третья — коралловой веточкой, четвертая — пробочкой, пятая — затычечкой, коловоротиком, сверлышком, буравчиком, подвесочком, резвунчиком-попрыгунчиком, стоячком, красненькой колбаской, яичком-невеличком.
— Он мой, — говорила одна.
— Нет, мой, — говорила другая.
— А мне ничего? — говорила третья. — Ну так я его отрежу, ей-ей отрежу!
— Еще чего, отрезать! — говорила четвертая. — Да ведь ему больно будет! Кто же, сударыня, эти штучки детям отрезает? Хочешь, чтобы он бесхвостый вырос?
Сверстники Гаргантюа в тех краях играли в вертушки, и ему тоже смастерили для игры отличную вертушку из крыльев мирбалейской ветряной мельницы.

Глава XII.
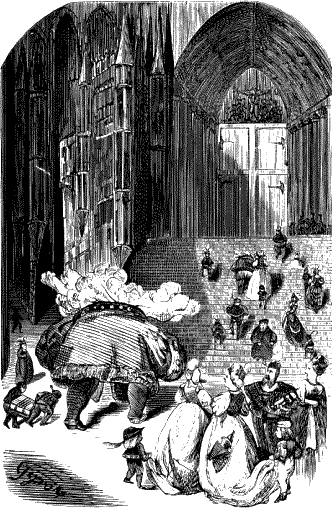
Потом, чтобы из него на всю жизнь вышел хороший наездник, ему сделали красивую большую деревянную лошадь, и он заставлял ее гарцевать, скакать, круто поворачивать, брыкаться, танцевать, и все это одновременно; ходить шагом, бегать рысью, сбитой рысью, галопом, иноходью, полугалопом, тропотом, по-верблюжьему и по-ослиному. Он заставлял ее менять масть, как иеродиаконы меняют в соответствии с праздниками стихари, и она у него была то гнедой, то рыжей, то серой в яблоках, то мышиной, то саврасой, то чалой, то соловой, то игреневой, то пегой, то буланой, то белой.
Сам Гаргантюа своими руками сделал себе из толстого бревна на колесах охотничью лошадь, из балки от давильного чана — коня на каждый день, а из цельного вяза — мула с попоной, для комнатных игр. Еще было у него около десятка лошадей для подставы и семь почтовых. И всех он укладывал с собой спать.
Однажды, в тот самый день, когда отца Гаргантюа посетили герцог де Лизоблюд и граф де Приживаль, в сопровождении пышной и блестящей свиты к нему приехал сеньор де Скупердяй. Откровенно говоря, помещение оказалось тесновато для такого множества гостей, а уж про конюшни и говорить нечего. По сему обстоятельству дворецкий и конюший вышеупомянутого сеньора де Скупердяй, желая узнать, нет ли где тут свободных стойл, обратились к маленькому Гаргантюа и спросили его украдкой, куда бы поставить строевых коней, ибо они были уверены, что уж ребенок-то им все выложит. Гаргантюа повел их по главной лестнице замка, а затем через вторую залу и широкую галерею они проникли в большую башню; когда же они стали подниматься еще выше, конюший сказал дворецкому:
— Обманул нас мальчонка: наверху конюшен не бывает.
— Ты ошибаешься, — возразил дворецкий, — мне точно известно, что в Лионе, Бамете, Шиноне и в других местах есть такие дома, где конюшни на самом верху. Наверно, где-нибудь сзади устроен особый выход для посадки. Впрочем, я его еще раз спрошу для верности.
И он обратился к Гаргантюа:
— Куда ты ведешь нас, малыш?
— В стойло, где мои строевые кони, — отвечал тот. — Это совсем близко отсюда: еще несколько ступенек, и все.
И тут он, пройдя еще одну большую залу, подвел их к своей комнате и, распахнув дверь, сказал:
— Вот она, конюшня. Это мой испанский жеребец, это мерин, это лаведанский жеребец, а это иноходец. — С этими словами он протянул им здоровенную балку. — Дарю вам этого фризского скакуна, — объявил он. — Мне его пригнали из Франкфурта, но теперь он ваш. Это добрая лошадка, очень выносливая. Заведите себе еще кречета, пяток испанских легавых да пару борзых, и вы будете грозой всех зайцев и куропаток.
— Святые угодники! — воскликнули те двое. — Вот тебе раз! Что ж ты, милый, дурака валял?
— Да разве я кого-нибудь из вас валял? — спросил Гаргантюа.
Посудите сами, как в сем случае надлежало поступить дворецкому и конюшему: сквозь землю провалиться от стыда или посмеяться над этим приключением? Когда же они в великом смущении стали спускаться с лестницы, Гаргантюа сказал:
— На приступочке песочек.
— Что такое? — спросили они.
— Откусите дерьма кусочек, — отвечал он.
— Если нынче нас кто-нибудь захочет вздуть, то это будет напрасный труд, — нас и без того порядком надули, заметил дворецкий. — Ах, малыш, малыш, славно провел ты нас за нос! Быть тебе когда-нибудь святейшим владыкою папой!
— Я сам так думаю, — заметил Гаргантюа. — Я буду святейшеством, а ты пустосвятом, а вот из этого свища тоже выйдет изрядный святоша.
— Все может быть, — заметил конюший.
— А вот теперь скажите, — продолжал Гаргантюа, — какого цвета хвост платья у моей матери?
— Про хвост я ничего не могу сказать, — отвечал конюший.
— Сам признался, что ты прохвост, — подхватил Гаргантюа.
— Как так? — спросил конюший.
— Так ли, не так ли, сунь себе в нос пакли, — отвечал Гаргантюа. — Кто слишком много такает, тому птичка в ротик какает.
— Господи помилуй, ну и собеседник нам попался! — воскликнул дворецкий. — Много лет тебе здравствовать, балагур ты этакий, — уж больно ты речист!
Спускаясь второпях с лестницы, дворецкий с конюшим уронили здоровенную балку, которой их нагрузил Гаргантюа.
— Какие же вы после этого наездники, черт бы вас побрал! — воскликнул Гаргантюа. — Вам только на клячах и ездить. Если бы вам предстояло путешествие в Каюзак, что бы вы предпочли: ехать верхом на гусенке или же свинью вести на веревочке?
— Я предпочитаю выпить, — сказал конюший.
Тут они вошли в одну из нижних зал и, застав там остальную компанию, рассказали ей об этом происшествии и чуть не уморили всех со смеху.

Глава XIII.
Глава XIV.
Глава XV.
В былые времена фракийцы и критяне отмечали счастливые и радостные дни белым камнем, печальные и несчастливые — черным.
Разве ночь не зловеща, не печальна и не уныла? А ведь она темна и мрачна. Разве вся природа не радуется свету? А ведь ничего нет белее его. В доказательство я мог бы сослаться на книгу Лоренцо Баллы, которую он написал против Бартола, но полагаю, что вас вполне удовлетворит свидетельство евангелиста: в гл. XVII от Матфея, где говорится о Преображении Господнем, мы читаем: V estimenta ejus facta sunt alba sicut lux, одежды его сделались белыми, как свет, по каковой ослепительной белизне три апостола составили себе понятие и представление о вечном блаженстве. Свету радуется всякое живое существо; вы, верно, помните эту старуху, — у нее не осталось во рту ни единого зуба, а она все твердила: Bona lux![31]А ослепший Товит (гл. V), отвечая на приветствие Рафаила, воскликнул: «Как могу я радоваться, если не вижу света небесного?» И тем же цветом ангелы выразили радость всей вселенной в день воскресения Христова (от Иоанна, гл. XX) и в день вознесения (Деяния, гл. 1). В таких же одеждах увидел всех верных в небесном, блаженном граде Иерусалиме св. Иоанн Богослов (Апокалипсис, гл. IV и VII).
Прочтите древнюю историю, историю Греции, историю Рима. Вы узнаете, что город Альба-Лонга, прапращур Рима, был обязан своим происхождением белой свинье.
Вы узнаете, что у древних римлян был заведен такой порядок: победитель, коему предстояло с триумфом въехать в Рим, должен был восседать на колеснице, запряженной белыми конями; то же самое полагалось и при более скромном чествовании, ибо никакой другой знак или же цвет не мог ярче выразить радость по случаю прибытия триумфаторов, нежели белизна.
Вы узнаете, что Перикл, правитель афинский, отдал такое распоряжение: чтобы та часть его войска, коей по жребию достались белые бобы, целый день радовалась, веселилась и отдыхала, а другая часть сражалась. Количество примеров и ссылок я мог бы умножить, но здесь для этого не место.
Благодаря таковым познаниям вы сумеете разрешить проблему, которую Александр Афродисийский считал неразрешимой: «Почему лев, одним своим рыканием наводящий страх на всех животных, боится и чтит только белого петуха?» Оттого, как говорит Прокл в книге De sacrificio et magia[32], что свойство солнца, источника и вместилища всего земного и небесного света, более подходит и подобает белому петуху, если принять в соображение его цвет, его особенности и повадки, чем льву. Еще он говорит, что бесы часто принимают обличье льва, меж тем как при виде белого петуха они внезапно исчезают. Вот почему Galli[33] (то есть французы, названные так потому, что они от рождения белы, как молоко, а молоко по-гречески gala) любят носить на шляпах белые перья, ибо по природе своей они жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы, и гербом и эмблемой служит им белейший из всех цветов, а именно — лилия.
Если же вы спросите, каким образом природа дает нам понять, что белый цвет означает радость и веселье, то я вам отвечу, что аналогия и соответствие здесь таковы. Подобно тому как при взгляде на белое в глазах у человека все мелькает и ходит ходуном, оттого что белый цвет разлагает зрительные токи, о чем говорит в своих Проблемах Аристотель, и притупляет различительную способность (если вам случалось ходить по снежным горам, то вы должны были испытать это на себе, — вы начинали плохо видеть; Ксенофонт пишет, что так случилось с его воинами, об этом же подробно говорит Гален в кн. X, De usu partium) — так же точно сердце под влиянием радостного волнения ходит ходуном, вследствие чего начинается распад питающих его жизненных токов, и распад этот бывает иногда столь бурным, что сердце остается без всякой поддержки; таким образом, сильная радость может пресечь саму жизнь, на что указывает Гален в Method[34], книга XII, De locis affectis[35] и в De symptomaton causis[36], кн. II; а что такие случаи действительно имели место в древности, в этом нас убеждают Марк Туллий (см. Quaestio Tuscul.,[37]кн. 1), Веррий, Аристотель, Тит Ливий (после битвы при Каннах), Плиний (кн. VII, гл. XXXII и LIII), А. Геллий (кн. III, XV и др.), а также Диагор Родосский, Хилон, Софокл, Дионисий, тиран Сицилийский, Филиппид, Филемон, Поликрат, Филистион, М. Ювенций и многие другие, умершие от радости, или же, как указывает Авиценна во II трактате Канона и в книге De viribus cordis[38], от шафрана, сильная доза которого так возбуждает человека, что он умирает от расширения и разрыва сердца. Об этом вы можете прочитать у Александра Афродисийского в его Problematum[39] (кн. 1, гл. XIX). Что и требовалось доказать.
Впрочем, я увлекся и наговорил по этому поводу больше, чем предполагал вначале. Итак, я убираю паруса, докончу же я свое рассуждение в особой книге и докажу в немногих словах, что голубой цвет означает небо и все к нему относящееся и что связь символическая здесь та же, что и между белым цветом, с одной стороны, и радостью и наслаждением — с другой.

Глава XI.
О детстве Гаргантюа

В возрасте от трех до пяти лет Гаргантюа растили и воспитывали по всем правилам, ибо такова была воля его отца, и время он проводил, как все дети в том краю, а именно: пил, ел и спал; ел, спал и пил; спал, пил и ел.
Вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо, стаптывал башмаки, ловил частенько мух и с увлечением гонялся за мотыльками, подвластными его отцу. Писал себе на башмаки, какал в штаны, утирал рукавом нос, сморкался в суп, шлепал по всем лужам, пил из туфли и имел обыкновение тереть себе живот корзинкой. Точил зубы о колодку, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом, садился между двух стульев, укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аукали, так он и откликался, кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец, лопался от жира, нападал на своих, от дождя прятался в воде, ковал, когда остывало, ловил в небе журавля, прикидывался тихоней, драл козла, имел привычку бормотать себе под нос, возвращался к своим баранам, перескакивал из пятого в десятое, бил собаку в назидание льву, начинал не с того конца, обжегшись на молоке, дул на воду, выведывал всю подноготную, гонялся за двумя зайцами, любил, чтоб нынче было у него густо, а завтра хоть бы и пусто, толок воду в ступе, сам себя щекотал под мышками, уплетал за обе щеки, жертвовал Богу, что не годилось ему самому, в будний день ударял в большой колокол и находил, что так и надо, целился в ворону, а попадал в корову, не плутал только в трех соснах, переливал из пустого в порожнее, скоблил бумагу, марал пергамент, задавал стрекача, куликал, не спросясь броду, совался в воду, оставался на бобах, полагал, что облака из молока, а луна из чугуна, с одного вола драл две шкуры, дурачком прикидывался, а в дураках оставлял других, прыгал выше носа, черпал воду решетом, клевал по зернышку, даровому коню неукоснительно смотрел в зубы, начинал за здравие, а кончал за упокой, в бочку дегтя подливал ложку меду, хвост вытаскивал, а нос у него завязал в грязи, охранял луну от волков, считал, что если бы да кабы у него во рту росли бобы, то был бы не рот, а целый огород, по одежке протягивал ножки, всегда платил той же монетой, на все чихал с высокого дерева, каждое утро драл козла. Отцовы щенки лакали из его миски, а он ел с ними. Он кусал их за уши, а они ему царапали нос, он им дул в зад, а они его лизали в губы.
И знаете что, дети мои, чтоб вам допиться до белой горячки? Этот маленький потаскун щупал своих нянек почем зря и вверху и внизу, и спереди и сзади и стал уже задавать работу своему гульфику. А няньки ежедневно украшали его гульфик пышными букетами, пышными лентами, пышными цветами, пышными кистями и развлекались тем, что мяли его в руках, точно пластырь, свернутый в трубочку; когда же у гульфика ушки становились на макушке, няньки покатывались со смеху — видно было, что эта игра доставляла им немалое удовольствие.
Одна из них называла его втулочкой, другая — булавочкой, третья — коралловой веточкой, четвертая — пробочкой, пятая — затычечкой, коловоротиком, сверлышком, буравчиком, подвесочком, резвунчиком-попрыгунчиком, стоячком, красненькой колбаской, яичком-невеличком.
— Он мой, — говорила одна.
— Нет, мой, — говорила другая.
— А мне ничего? — говорила третья. — Ну так я его отрежу, ей-ей отрежу!
— Еще чего, отрезать! — говорила четвертая. — Да ведь ему больно будет! Кто же, сударыня, эти штучки детям отрезает? Хочешь, чтобы он бесхвостый вырос?
Сверстники Гаргантюа в тех краях играли в вертушки, и ему тоже смастерили для игры отличную вертушку из крыльев мирбалейской ветряной мельницы.

Глава XII.
Об игрушечных лошадках Гаргантюа
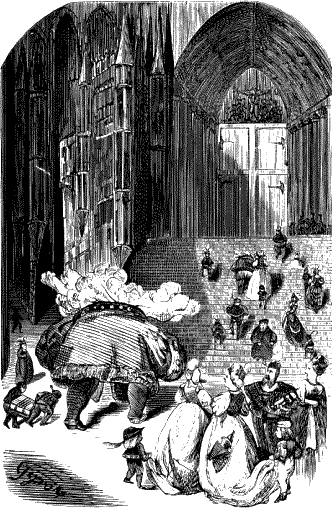
Потом, чтобы из него на всю жизнь вышел хороший наездник, ему сделали красивую большую деревянную лошадь, и он заставлял ее гарцевать, скакать, круто поворачивать, брыкаться, танцевать, и все это одновременно; ходить шагом, бегать рысью, сбитой рысью, галопом, иноходью, полугалопом, тропотом, по-верблюжьему и по-ослиному. Он заставлял ее менять масть, как иеродиаконы меняют в соответствии с праздниками стихари, и она у него была то гнедой, то рыжей, то серой в яблоках, то мышиной, то саврасой, то чалой, то соловой, то игреневой, то пегой, то буланой, то белой.
Сам Гаргантюа своими руками сделал себе из толстого бревна на колесах охотничью лошадь, из балки от давильного чана — коня на каждый день, а из цельного вяза — мула с попоной, для комнатных игр. Еще было у него около десятка лошадей для подставы и семь почтовых. И всех он укладывал с собой спать.
Однажды, в тот самый день, когда отца Гаргантюа посетили герцог де Лизоблюд и граф де Приживаль, в сопровождении пышной и блестящей свиты к нему приехал сеньор де Скупердяй. Откровенно говоря, помещение оказалось тесновато для такого множества гостей, а уж про конюшни и говорить нечего. По сему обстоятельству дворецкий и конюший вышеупомянутого сеньора де Скупердяй, желая узнать, нет ли где тут свободных стойл, обратились к маленькому Гаргантюа и спросили его украдкой, куда бы поставить строевых коней, ибо они были уверены, что уж ребенок-то им все выложит. Гаргантюа повел их по главной лестнице замка, а затем через вторую залу и широкую галерею они проникли в большую башню; когда же они стали подниматься еще выше, конюший сказал дворецкому:
— Обманул нас мальчонка: наверху конюшен не бывает.
— Ты ошибаешься, — возразил дворецкий, — мне точно известно, что в Лионе, Бамете, Шиноне и в других местах есть такие дома, где конюшни на самом верху. Наверно, где-нибудь сзади устроен особый выход для посадки. Впрочем, я его еще раз спрошу для верности.
И он обратился к Гаргантюа:
— Куда ты ведешь нас, малыш?
— В стойло, где мои строевые кони, — отвечал тот. — Это совсем близко отсюда: еще несколько ступенек, и все.
И тут он, пройдя еще одну большую залу, подвел их к своей комнате и, распахнув дверь, сказал:
— Вот она, конюшня. Это мой испанский жеребец, это мерин, это лаведанский жеребец, а это иноходец. — С этими словами он протянул им здоровенную балку. — Дарю вам этого фризского скакуна, — объявил он. — Мне его пригнали из Франкфурта, но теперь он ваш. Это добрая лошадка, очень выносливая. Заведите себе еще кречета, пяток испанских легавых да пару борзых, и вы будете грозой всех зайцев и куропаток.
— Святые угодники! — воскликнули те двое. — Вот тебе раз! Что ж ты, милый, дурака валял?
— Да разве я кого-нибудь из вас валял? — спросил Гаргантюа.
Посудите сами, как в сем случае надлежало поступить дворецкому и конюшему: сквозь землю провалиться от стыда или посмеяться над этим приключением? Когда же они в великом смущении стали спускаться с лестницы, Гаргантюа сказал:
— На приступочке песочек.
— Что такое? — спросили они.
— Откусите дерьма кусочек, — отвечал он.
— Если нынче нас кто-нибудь захочет вздуть, то это будет напрасный труд, — нас и без того порядком надули, заметил дворецкий. — Ах, малыш, малыш, славно провел ты нас за нос! Быть тебе когда-нибудь святейшим владыкою папой!
— Я сам так думаю, — заметил Гаргантюа. — Я буду святейшеством, а ты пустосвятом, а вот из этого свища тоже выйдет изрядный святоша.
— Все может быть, — заметил конюший.
— А вот теперь скажите, — продолжал Гаргантюа, — какого цвета хвост платья у моей матери?
— Про хвост я ничего не могу сказать, — отвечал конюший.
— Сам признался, что ты прохвост, — подхватил Гаргантюа.
— Как так? — спросил конюший.
— Так ли, не так ли, сунь себе в нос пакли, — отвечал Гаргантюа. — Кто слишком много такает, тому птичка в ротик какает.
— Господи помилуй, ну и собеседник нам попался! — воскликнул дворецкий. — Много лет тебе здравствовать, балагур ты этакий, — уж больно ты речист!
Спускаясь второпях с лестницы, дворецкий с конюшим уронили здоровенную балку, которой их нагрузил Гаргантюа.
— Какие же вы после этого наездники, черт бы вас побрал! — воскликнул Гаргантюа. — Вам только на клячах и ездить. Если бы вам предстояло путешествие в Каюзак, что бы вы предпочли: ехать верхом на гусенке или же свинью вести на веревочке?
— Я предпочитаю выпить, — сказал конюший.
Тут они вошли в одну из нижних зал и, застав там остальную компанию, рассказали ей об этом происшествии и чуть не уморили всех со смеху.

Глава XIII.
О том, как Грангузье распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку
К концу пятого года Грангузье, возвратившись после поражения канарийцев, навестил своего сына Гаргантюа. Обрадовался он ему, как только мог обрадоваться такой отец при виде такого сына: он целовал его, обнимал и расспрашивал о всяких его ребячьих делах. Тут же он не упустил случая выпить с ним и с его няньками, поговорил с ними о том о сем, а затем стал подробно расспрашивать, соблюдают ли они в уходе за ребенком чистоту и опрятность. На это ему ответил Гаргантюа, что он сам завел такой порядок, благодаря которому он теперь самый чистый мальчик во всей стране.
— Как так? — спросил Грангузье.
— После долговременных и любопытных опытов я изобрел особый способ подтираться, — отвечал Гаргантюа, — самый, можно сказать, королевский, самый благородный, самый лучший и самый удобный из всех, какие я знаю.
— Что же это за способ? — осведомился Грангузье.
— Сейчас я вам расскажу, — отвечал Гаргантюа. — Как-то раз я подтерся бархатной полумаской одной из ваших притворных, то бишь придворных, дам и нашел, что это недурно, — прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое. В другой раз — шапочкой одной из помянутых дам, — ощущение было то же самое. Затем шейным платком. Затем атласными наушниками, но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали. Антонов огонь ему в зад, этому ювелиру, который их сделал, а заодно и придворной даме, которая их носила! Боль прошла только после того, как я подтерся шляпой пажа, украшенной перьями на швейцарский манер.
Затем как-то раз я присел под кустик и подтерся мартовской кошкой, попавшейся мне под руку, но она мне расцарапала своими когтями всю промежность.
Оправился я от этого только на другой день, после того как подтерся перчатками моей матери, надушенными этим несносным, то бишь росным, ладаном.
Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината, — пользы мне от всего этого было, как от козла молока, — затем пролеской, бурьяном, крапивой, живокостью, но от этого у меня началось кровотечение, тогда я подтерся гульфиком, и это мне помогло.
Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.
— Так, так, — сказал Грангузье, — какая, однако ж, подтирка, по-твоему, самая лучшая?
— Вот к этому-то я и веду, — отвечал Гаргантюа, — сейчас вы узнаете все досконально. Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой, но —
— А как же, ваше величество! — отвечал Гаргантюа. — Понемножку кропаю, но только от стихоплетства у меня язык иной раз заплетается. Вот, не угодно ли послушать, какая надпись висит у нас в нужнике:
Хотите еще?
— Очень даже хочу, — сказал Грангузье.
— Так вот, — продолжал Гаргантюа:
Попробуйте теперь сказать, что я ничего не знаю! Клянусь раками, это не я сочинил стихи, — я слышал, как их читали одной важной даме, и они удержались в охотничьей сумке моей памяти.
— Обратимся к предмету нашего разговора, — сказал Грангузье.
— К какому? — спросил Гаргантюа. — К испражнениям?
— Нет, к подтирке, — отвечал Грангузье.
— А как вы насчет того, чтобы выставить бочонок бретонского, если я вас положу на обе лопатки?
— Выставлю, выставлю, — обещал Грангузье.
— Незачем подтираться, коли нет дерьма, — продолжал Гаргантюа. — А дерьма не бывает, если не покакаешь. Следственно, прежде надобно покакать, а потом уж подтереться.
— Ах, как ты здраво рассуждаешь, мой мальчик! — воскликнул Грангузье. — Ей-Богу, ты у меня в ближайшее же время выступишь на диспуте в Сорбонне, и тебе присудят докторскую степень — ты умен не по летам! Сделай милость, однако ж, продолжай подтиральное свое рассуждение. Клянусь бородой, я тебе выставлю не бочонок, а целых шестьдесят бочек доброго бретонского вина, каковое выделывается отнюдь не в Бретани, а в славном Верроне.
— Потом я еще подтирался, — продолжал Гаргантюа, — головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой, но все это была, доложу я вам, прескверная подтирка! Наконец шляпами. Надобно вам знать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые — кишечные извержения отлично ими отчищаются.
Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатским метком, капюшоном, чепцом, чучелом птицы.
В заключение, однако ж, я должен сказать следующее: лучшая в мире подтирка — это пушистый гусенок, уверяю вас, — только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны асфоделям, амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами, и таково мнение ученейшего Иоанна Скотта.

— Как так? — спросил Грангузье.
— После долговременных и любопытных опытов я изобрел особый способ подтираться, — отвечал Гаргантюа, — самый, можно сказать, королевский, самый благородный, самый лучший и самый удобный из всех, какие я знаю.
— Что же это за способ? — осведомился Грангузье.
— Сейчас я вам расскажу, — отвечал Гаргантюа. — Как-то раз я подтерся бархатной полумаской одной из ваших притворных, то бишь придворных, дам и нашел, что это недурно, — прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое. В другой раз — шапочкой одной из помянутых дам, — ощущение было то же самое. Затем шейным платком. Затем атласными наушниками, но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали. Антонов огонь ему в зад, этому ювелиру, который их сделал, а заодно и придворной даме, которая их носила! Боль прошла только после того, как я подтерся шляпой пажа, украшенной перьями на швейцарский манер.
Затем как-то раз я присел под кустик и подтерся мартовской кошкой, попавшейся мне под руку, но она мне расцарапала своими когтями всю промежность.
Оправился я от этого только на другой день, после того как подтерся перчатками моей матери, надушенными этим несносным, то бишь росным, ладаном.
Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината, — пользы мне от всего этого было, как от козла молока, — затем пролеской, бурьяном, крапивой, живокостью, но от этого у меня началось кровотечение, тогда я подтерся гульфиком, и это мне помогло.
Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.
— Так, так, — сказал Грангузье, — какая, однако ж, подтирка, по-твоему, самая лучшая?
— Вот к этому-то я и веду, — отвечал Гаргантюа, — сейчас вы узнаете все досконально. Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой, но —
— Что я слышу? — воскликнул Грангузье. — Ах, озорник ты этакий! Тишком, тишком уже и до стишков добрался?
Кто подтирает зад бумагой,
Тот весь обрызган желтой влагой.
— А как же, ваше величество! — отвечал Гаргантюа. — Понемножку кропаю, но только от стихоплетства у меня язык иной раз заплетается. Вот, не угодно ли послушать, какая надпись висит у нас в нужнике:
Харкун, Писун, Пачкун!
Не раз
Ты клал,
А кал
Стекал
На нас.
Валяй,
Воняй,
Но знай:
В антоновом огне сгорает,
Кто жир
Из дыр
В сортир,
Не подтираясь, низвергает.
Хотите еще?
— Очень даже хочу, — сказал Грангузье.
— Так вот, — продолжал Гаргантюа:
Рондо
Мой зад свой голос подает,
На зов природы отвечая.
Вокруг клубится вонь такая,
Что я зажал и нос и рот.
О, пусть в сей нужник та придет,
Кого я жду, опорожняя
Мой зад!
Тогда я мочевой проход
Прочищу ей, от счастья тая;
Она ж, рукой меня лаская,
Перстом умелым подотрет
Мой зад.
Попробуйте теперь сказать, что я ничего не знаю! Клянусь раками, это не я сочинил стихи, — я слышал, как их читали одной важной даме, и они удержались в охотничьей сумке моей памяти.
— Обратимся к предмету нашего разговора, — сказал Грангузье.
— К какому? — спросил Гаргантюа. — К испражнениям?
— Нет, к подтирке, — отвечал Грангузье.
— А как вы насчет того, чтобы выставить бочонок бретонского, если я вас положу на обе лопатки?
— Выставлю, выставлю, — обещал Грангузье.
— Незачем подтираться, коли нет дерьма, — продолжал Гаргантюа. — А дерьма не бывает, если не покакаешь. Следственно, прежде надобно покакать, а потом уж подтереться.
— Ах, как ты здраво рассуждаешь, мой мальчик! — воскликнул Грангузье. — Ей-Богу, ты у меня в ближайшее же время выступишь на диспуте в Сорбонне, и тебе присудят докторскую степень — ты умен не по летам! Сделай милость, однако ж, продолжай подтиральное свое рассуждение. Клянусь бородой, я тебе выставлю не бочонок, а целых шестьдесят бочек доброго бретонского вина, каковое выделывается отнюдь не в Бретани, а в славном Верроне.
— Потом я еще подтирался, — продолжал Гаргантюа, — головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой, но все это была, доложу я вам, прескверная подтирка! Наконец шляпами. Надобно вам знать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые — кишечные извержения отлично ими отчищаются.
Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатским метком, капюшоном, чепцом, чучелом птицы.
В заключение, однако ж, я должен сказать следующее: лучшая в мире подтирка — это пушистый гусенок, уверяю вас, — только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны асфоделям, амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами, и таково мнение ученейшего Иоанна Скотта.

Глава XIV.
О том, как некий богослов обучал Гаргантюа латыни
Послушав такие речи и удостоверившись, что Гаргантюа отличается возвышенным складом ума и необычайной сметливостью, добряк Грангузье пришел в совершенный восторг. Он сказал его нянькам:
— Филипп, царь Македонский, понял, насколько умен его сын Александр, по тому, как ловко он правил конем. А ведь конь этот был лихой, с норовом, так что никто не решался на него сесть, — он сбрасывал всех: одному всаднику шею сломает, другому — ноги, этому голову проломит, тому челюсть вывихнет. Александр наблюдал за всем этим на ипподроме (так называлось то место, где вольтижировали и объезжали лошадей) и наконец пришел к заключению, что лошадь бесится от страха, а боится она своей же собственной тени. Тогда, вскочив на коня, он погнал его против солнца, так что тень падала сзади, и таким способом его приручил. И тут отец удостоверился, что у его сына воистину божественный разум, и взял ему в учители не кого другого, как Аристотеля, которого тогда признавали за лучшего греческого философа. Я же скажу вам, что один этот разговор, который я сейчас вел в вашем присутствии с сыном моим Гаргантюа, убеждает меня в том, что ум его заключает в себе нечто божественное, до того он остер, тонок, глубок и ясен; его надобно только обучить всем наукам, и он достигнет высшей степени мудрости. Того ради я намерен приставить к нему какого-нибудь ученого, и пусть ученый преподаст ему все, что только мой сын способен усвоить, а уж я ничего для этого не пожалею.
И точно: мальчику взяли в наставники великого богослова, магистра Тубала Олоферна, и магистр так хорошо сумел преподать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца. Затем учитель прочел с ним Доната, Фацет, Теодоле и Параболы Алана, для чего потребовалось тринадцать лет, шесть месяцев и две недели.
Должно при этом заметить, что одновременно он учил Гаргантюа писать готическими буквами, и тот переписывал все свои учебники, ибо искусство книгопечатания тогда еще не было изобретено.
Большой письменный прибор, который обыкновенно приносил на уроки Гаргантюа, весил более семи тысяч квинталов, его пенал равнялся по величине и объему колоннам аббатства Эне, а чернильница висела на толстых железных цепях, вместимость же ее равнялась вместимости бочки.
Далее Тубал Олоферн прочел с ним De modis significandi[40] с комментариями Пустомелиуса, Оболтуса, Прудпруди, Галео, Жана Теленка, Грошемуцена и пропасть других, для чего потребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев. И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все наизусть в обратном порядке и доказал матери как дважды два, что De modis significandi поп erat scientia[41].
Далее Тубал Олоферн прочел с ним Календарь, для чего потребовалось верных шестнадцать лет и два месяца, и тут означенный наставник скончался:
Его сменил еще один старый хрен, магистр Дурако Простофиль, и тот прочел с ним Гугуция, Греческий язык Эберара, Доктринал, Части речи. Quid est, Supplementum, Бестолкования, De moribus in mensa servandis, De quatuor virtulibus cardinalibus Сенеки, Пассаванти cum commento, в праздничные дни Dormi secure и еще кое-что в этом же роде, отчего Гаргантюа так поумнел, что уж нам с вами никак бы за ним не угнаться.

— Филипп, царь Македонский, понял, насколько умен его сын Александр, по тому, как ловко он правил конем. А ведь конь этот был лихой, с норовом, так что никто не решался на него сесть, — он сбрасывал всех: одному всаднику шею сломает, другому — ноги, этому голову проломит, тому челюсть вывихнет. Александр наблюдал за всем этим на ипподроме (так называлось то место, где вольтижировали и объезжали лошадей) и наконец пришел к заключению, что лошадь бесится от страха, а боится она своей же собственной тени. Тогда, вскочив на коня, он погнал его против солнца, так что тень падала сзади, и таким способом его приручил. И тут отец удостоверился, что у его сына воистину божественный разум, и взял ему в учители не кого другого, как Аристотеля, которого тогда признавали за лучшего греческого философа. Я же скажу вам, что один этот разговор, который я сейчас вел в вашем присутствии с сыном моим Гаргантюа, убеждает меня в том, что ум его заключает в себе нечто божественное, до того он остер, тонок, глубок и ясен; его надобно только обучить всем наукам, и он достигнет высшей степени мудрости. Того ради я намерен приставить к нему какого-нибудь ученого, и пусть ученый преподаст ему все, что только мой сын способен усвоить, а уж я ничего для этого не пожалею.
И точно: мальчику взяли в наставники великого богослова, магистра Тубала Олоферна, и магистр так хорошо сумел преподать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца. Затем учитель прочел с ним Доната, Фацет, Теодоле и Параболы Алана, для чего потребовалось тринадцать лет, шесть месяцев и две недели.
Должно при этом заметить, что одновременно он учил Гаргантюа писать готическими буквами, и тот переписывал все свои учебники, ибо искусство книгопечатания тогда еще не было изобретено.
Большой письменный прибор, который обыкновенно приносил на уроки Гаргантюа, весил более семи тысяч квинталов, его пенал равнялся по величине и объему колоннам аббатства Эне, а чернильница висела на толстых железных цепях, вместимость же ее равнялась вместимости бочки.
Далее Тубал Олоферн прочел с ним De modis significandi[40] с комментариями Пустомелиуса, Оболтуса, Прудпруди, Галео, Жана Теленка, Грошемуцена и пропасть других, для чего потребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев. И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все наизусть в обратном порядке и доказал матери как дважды два, что De modis significandi поп erat scientia[41].
Далее Тубал Олоферн прочел с ним Календарь, для чего потребовалось верных шестнадцать лет и два месяца, и тут означенный наставник скончался:
В год тысяча четыреста двадцатый
От люэса, что он поймал когда-то.
Его сменил еще один старый хрен, магистр Дурако Простофиль, и тот прочел с ним Гугуция, Греческий язык Эберара, Доктринал, Части речи. Quid est, Supplementum, Бестолкования, De moribus in mensa servandis, De quatuor virtulibus cardinalibus Сенеки, Пассаванти cum commento, в праздничные дни Dormi secure и еще кое-что в этом же роде, отчего Гаргантюа так поумнел, что уж нам с вами никак бы за ним не угнаться.

Глава XV.
О том, как Гаргантюа был поручен заботам других воспитателей
Между тем отец стал замечать, что сын его, точно, оказывает большие успехи, что от книг его не оторвешь, но что впрок это ему не идет и что к довершению всего он глупеет, тупеет и час от часу становится рассеяннее и бестолковее.
Грангузье пожаловался на это дону Филиппу де Маре, вице-королю Папелигосскому, и услышал в ответ, что лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам под руководством таких наставников, ибо их наука — бредни, а их мудрость — напыщенный вздор, сбивающий c толку лучшие, благороднейшие умы и губящий цвет юношества.
— Коли на то пошло, — сказал вице-король, — пригласите к себе кого-нибудь из нынешних молодых людей, проучившихся года два, не больше. И вот если он уступит вашему сыну по части здравомыслия, красноречия, находчивости, обходительности и благовоспитанности, можете считать меня последним вралем.
Грангузье эта мысль привела в восхищение, и он изъявил свое согласие.
Грангузье пожаловался на это дону Филиппу де Маре, вице-королю Папелигосскому, и услышал в ответ, что лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам под руководством таких наставников, ибо их наука — бредни, а их мудрость — напыщенный вздор, сбивающий c толку лучшие, благороднейшие умы и губящий цвет юношества.
— Коли на то пошло, — сказал вице-король, — пригласите к себе кого-нибудь из нынешних молодых людей, проучившихся года два, не больше. И вот если он уступит вашему сыну по части здравомыслия, красноречия, находчивости, обходительности и благовоспитанности, можете считать меня последним вралем.
Грангузье эта мысль привела в восхищение, и он изъявил свое согласие.
