Страница:
Над нами долго смеялся весь завод.
— Расскажи, Миш, как ты медведей за уши ловишь? — спрашивали рабочие и доводили Мишку чуть не до слёз.
А я вскоре после этого происшествия написал матери письмо.
Открытие
— Расскажи, Миш, как ты медведей за уши ловишь? — спрашивали рабочие и доводили Мишку чуть не до слёз.
А я вскоре после этого происшествия написал матери письмо.
Милая мама, — писал я. — У меня здесь большой друг Мишка, и мне целое лето будет очень весело. Обо мне не беспокойся. Здесь никаких приключений и опасностей не бывает. Пришли мне, пожалуйста, только плёнок для фотоаппарата и ещё пуль двенадцатого калибра для деда Ивана, а то он свои последние выстрелил в меня, когда мы караулили на дереве Гнедка и Мишка прыгнул на медведя.
Твой сын Серёжа.
Открытие
Корявая ива, подмытая весенним половодьем, наклонилась над самой рекой. Мы сидели в изогнутых её развилинах, как в креслах, и следили за нырявшими поплавками: мелкая рыбёшка так и хватала наживку, и ловить было весело. Утро было раннее, обрывки тумана ещё плавали над рекой и медленно поднимались выше. Я поёжился от влажной свежести и покосился на Мишку. Он удобно развалился в развилине и так болтал босыми ногами, словно уже был жаркий день. Нос у него чуть вздёрнутый и потому всегда кажется, что он сейчас скажет что-то весёлое и чуточку озорное. Нет, никак нельзя ему признаться, что мне холодно — засмеёт. Я осторожно снял с крючка серебристую уклейку, поднял голову и засмотрелся.
— Мишка, — заговорил я медленно, — смотри, какая красивая дорожка идёт от реки вверх, прямо в осинник. Точно идёт она неизвестно куда, просто — никуда.
Мишка фыркнул и сбросил с крючка объеденного червяка.
— Ни-ку-да… — передразнил он меня и насадил на крючок нового червяка. — На Чусовую она, эта дорога, идёт. Вон куда! Думаешь ты всё такое, непутёвое, чего нету… — презрительно договорил он и, размахнувшись, ловко закинул леску в заводь около берега.
Разговор оборвался. Я сидел весь красный, даже уши горели, и делал вид, что слежу за дрожащим в течении поплавком.
И надо же мне было ему говорить! Знаю ведь Мишкин характер. Теперь будет дразниться…
Я, положим, видел, что Мишка больше не смеялся, сам не рад, видит — нехорошо вышло. Даже завозился на своём «кресле» и на меня смотрит. Не знает, как подступиться, чтобы и помириться и себя не уронить. Но мне точно стало жалко расставаться со своей обидой.
— Живцов-то много наловил? — заговорил наконец Мишка с преувеличенным интересом.
— Не знаешь разве, вместе ловили, — пробурчал я не оглядываясь и опять уставился на поплавок.
Помолчали.
— Да клюёт же у тебя, беспонятный! — закричал Мишка уже с раздражением. — Этак до завтра просидишь — ничего не наловишь.
— А мне и ловить не хочется, — отвечал я дрожащим голосом и, вытащив удочку из воды, начал её поспешно сматывать, — домой пойду, там интереснее что найду. Тут и рыбёшка-то кошкина радость.
— Ну и ступай домой, — не выдержал Мишка. Он ловко соскочил с развалины прямо на берег, сунул несмотанную удочку в кусты. — Проваливай! А я и один схожу да не «никуда», а знаю — куда. Вот!
С этими словами Мишка зацарапался вверх по обрыву и исчез. Я и ответить ничего не успел.
Ловить рыбу стало вовсе неинтересно. Я тоже выбрался на высокий берег, остановился и прислушался. Дрозд-рябинник весело свистнул и перелетел с ветки на ветку, ему откликнулась иволга, точно кошка взвизгнула, и опять всё смолкло. В лесу, непрогретом утренним солнцем, было холодно и неуютно. Я ещё постоял, прислушался и, понурившись, пошёл по дорожке.
«Теперь уж, наверно, поссорились навсегда, — подумал я с горечью и, подняв еловую шишку, размахнулся и пустил её по дорожке. — И почему мириться всегда стыдно? А если не мириться — как же тогда играть и ходить на пасеку?.. Или уже мне теперь и на пасеку нельзя, вроде как она Мишкина?»
Трах! С ходу я шлёпнулся на землю, больно ударившись локтем о корень.
— Ай! — невольно вскрикнул я и вдруг осёкся: из-за толстой ёлки выглянула Мишкина смеющаяся физиономия.
— Остыл маненько? — осведомился он добродушно. — Ну полежь, полежь покуда, а я побегу себе.
Я опустил глаза: через тропинку, над самой землёй, тянулась тонкая крепкая верёвка.
Ах, вот оно что! В одну минуту я оказался на ногах и крепко сжал кулаки. Но Мишка со смехом метнулся в сторону и исчез так быстро, что я не успел даже толком рассмотреть — куда он подевался.
Я перевёл дыхание, перешагнул через верёвку и ещё раз осмотрелся. Ну, уж теперь-то я знаю, это — настоящая ссора. На всю жизнь. Навсегда! Всё ещё сжимая кулаки, я обошёл несколько самых толстых ёлок и заглянул за них.
Никого. Пусть же Мишка только явится! Пусть он только…
Я даже не заметил, как спустился с горки, вышел из лесу.
Дома дядя Петя и тётя Варя уже сидели за столом, накрытым пёстрой скатертью.
— А я была уверена, что он опоздает к завтраку, — сказала тётя Варя, и было непонятно: довольна она тем, что я не опоздал, или нет.
«Вот всегда так, — с обидой подумал я, опускаясь на стул. — Что хорошее сделаешь — всё равно не похвалит, не то что мама. И слушаться-то её не интересно».
Я ел молча, угрюмо, не разбирая — что. С первого дня (уже целая неделя прошла) мы с Мишкой всегда были вместе. А теперь как? Я мысленно заглянул вперёд, и день вдруг показался мне таким длинным. Всё равно уж. Теперь никогда…
Мишка не показывался два дня. Я уж один пошёл на речку удить. Рыба куда-то подевалась. Поймал двух рыбёшек — таких только кошке отдать. Она их в минуту съела и ещё стала просить. Я даже рассердился: ишь какая! Поди, сама поймай, тоже хитрая. И сегодня утро началось очень скучно: за завтраком тётя Варя начала меня за что-то отчитывать. И вдруг… один свисток длинный и два коротких. От садовой калитки. Неужели…
Горячая каша застряла у меня в горле, я задохнулся и закашлялся.
— Так кашей только конокрадов в прежнее время кормили, — раздался весёлый дядин бас, и тяжёлая рука ласково хлопнула меня по спине. — Ты хоть немножко передохни. Что? Мишка опять?
— Ну, разумеется, — вмешалась тётка. — Эта дружба не доведёт до добра. Мальчик до такой степени недисциплинирован…
Но я, давясь, уже проглотил последнюю ложку каши и проворно вскочил со стула.
— Всё! Кончил! — крикнул я. — Больше не хочу! Спасибо!
Последние слова я выкрикнул уже на крыльце, сбежал по ступенькам и бросился по дорожке.
Так и есть. Мишкины огненные вихры золотились у садовой калитки. Он стоял и пальцами правой ноги подхватывал камешек: высоко подбросит его и ловко поймает на подъём ноги. Я почти набежал на него.
— Мишка, ты чего же не приходил? — крикнул я.
— Мамка не пускала, — ответил он. — На пасеку даже. «Ты, говорит, там по медведям скачешь, а у меня сердце обрывается. Сиди дома, пока передохну». А кто знает, сколько, она передыхать будет? Я и убег.
— А я-то… — начал было я горячо и вдруг остановился, будто споткнулся.
«А как же ссора? Ведь мы же с Мишкой теперь на всю жизнь…»
Но Мишка посмотрел на меня и усмехнулся. Веснушки на носу у него, казалось, тоже смеялись.
— Серчаешь? — спросил он самым дружелюбным тоном. И, прежде чем я нашёлся что-либо ответить, оглянулся, хотя нас могли подслушать одни лопухи у канавы, и нагнулся к самому моему уху.
— Кирку возьми, — сказал он таинственно. — В сарае у вас валяется которая. И хлеба. А лампу я сам сготовил, горит — во! — Он вытащил из кармана штанишек облезлую коробку из-под зубного порошка, помахал ею в воздухе и опять сунул в карман.
— В пещере-то как без неё разглядишь? — пояснил он. — Руды там, может, есть всякие, ручей текёт…
У меня даже дух захватило: да что ж это Мишка придумал? Но нет, надо выдержать характер. Я отвернулся и сделал вид, что заинтересовался ползущей по створке калитки большой мохнатой гусеницей.
— Кирку? — переспросил я и подставил гусенице зелёный листик. — Тяжёлая она очень, тащить для какой-нибудь пустяковины.
Трах! Червяк с листом взлетели кверху. Это Мишка поддал ладошкой мне под руку.
— Это пещера-то — пустяковина? — кипятился он. — Руды всякие, ручей текёт… Ну и плевать!
Он круто, на одной пятке, повернулся, показывая, что всё теперь между нами порвано. Конец! Но тут уже я не вытерпел и схватил его за руку.
— Мишка! — крикнул я. — Не буду больше. Честное пионерское. Я и сам мириться хотел. Только не знал — как. Какая пещера? Какой ручей?
Мишка живо обернулся, задорно тряхнул хохлом.
— То-то — «какая?» — проговорил он, видно, очень довольный. — Говорю — бежим в сарай.
 В сарае было темно и потому таинственно. Мы любили там собираться «на совет», забираясь в старый тарантас, такой широкий, что в нём можно было сидеть троим в ряд. Но сегодня Мишка направился не к тарантасу, а в угол, где были свалены лопаты и всякий железный лом. Вытащив старую кирку, он осмотрел её и, довольный, кивнул головой.
В сарае было темно и потому таинственно. Мы любили там собираться «на совет», забираясь в старый тарантас, такой широкий, что в нём можно было сидеть троим в ряд. Но сегодня Мишка направился не к тарантасу, а в угол, где были свалены лопаты и всякий железный лом. Вытащив старую кирку, он осмотрел её и, довольный, кивнул головой.
— Крепкая, — сказал он. — А что заржавела — не беда, в горе засветлится. Ты что, отобедался?
— Уже, — ответил я, подражая ему в краткости. — Бежим лучше низом, чтобы тётя Варя не увидала, а то не пустит ещё… А это у тебя что?
— Из дому взял, тоже пригодится. — И Мишка уже на бегу перехватил из одной руки в другую небольшой железный лом.
Ссора была ещё слишком свежа, и потому мы немного дичились друг друга. Даже раздевались и плыли через реку как-то особенно по-деловому, словно мы этим страшно заняты и разговаривать нам вовсе некогда. Но, вылезая из воды, нечаянно схватились за одну ветку, заторопились, стукнулись лбами и рассмеялись радостно: неловкость как рукой сняло.
— Чуднáя она у тебя, тётка-то! — сказал Мишка, когда мы выбрались на берег. — Ну, моя мамка воды велит натаскать, дров нарубить. А твоя — и работать не велит, а вовсе за так привязывается.
— Это она называет — воспитывать, — пояснил я, прыгая на одной ноге и продевая другую в штанишки. — А дядя говорит, воспитывать — это совсем другое, это, это…
Я не знал, как определить дядину систему воспитания, и Мишка меня перебил:
— Моя мамка тоже говорит: трудно мне тебя воспитывать. А сама шанежку сунет, а то блин, редко когда за волосья. Жалеет она меня, — договорил он задумчиво, разгребая ногой влажный песок. — Небось, тебя тётка тоже жалеет, — прибавил он после небольшой паузы и покосился на меня.
Я вспыхнул и отвернулся. Мишка задел моё самое больное место. Для тёти Вари я — помеха, чужой мальчик, — я сам слышал, как она это говорила дяде Пете. И Мишка, значит, это видит и вот — утешает. Ну, пожалуйста, не нужно мне его утешений!
— Это маленьких жалеют, — сказал я зазвеневшим голосом. — И совсем я не нуждаюсь. И даже очень скоро домой поеду, в Москву.
— Ну-у, — удивился Мишка и даже остановился, как аист, на одной ноге, забыв продеть другую в штанишки. — А я-то как?
Но я вместо ответа подхватил с земли кирку и быстро полез на обрыв.
— Не отставай! — крикнул ему.
Выбравшись наверх, мы опять побежали, без тропинки, прямо по лесу. Мишка, видимо, очень торопился, а мне и вовсе говорить не хотелось. Я бежал молча, не слишком нагоняя Мишку, чтобы смыкавшиеся за ним ветки не хлестали меня по лицу.
Мы бежали долго, и я уже совсем задохнулся, когда Мишка вдруг замедлил шаг, оглянулся и остановился.
— Здесь, — сказал он, показывая впереди себя.
Мы подошли к обрыву. Я глянул вниз, потом на Мишку. Он стоял и весело улыбался.
— Как мы с тобой, значит, побрыкались, так я про это место и подумал, — продолжал он и, наклонившись, тоже заглянул вниз. — Один хотел пойти, лампу справил, видал? А потом… скушно стало одному-то, — пояснил он и, толкнув меня в бок локтем, засмеялся. Я вернул ему толчок с такой горячностью, что Мишка даже покачнулся и ухватился за осинку, чтобы не упасть. Этим мы как бы подвели окончательный итог нашей ссоре и поставили на ней точку.
— Теперь гляди в оба. Спускаться-то круто очень, за ёлку дюжей держись, — крикнул Мишка и, сам схватившись за ветку, прицелился прыгнуть вниз. — За ёлку. Она, брат, не выдаст. Она…
— Ай! — крикнул я испуганно и протянул руку, чтобы удержать Мишку, но опоздал: раздался треск, что-то больно хлестнуло меня по лицу и пролетело с обрыва вниз.
— Мишка! — испуганно закричал я нагибаясь. — Да Мишка же! Ушибся? Чего же ты сам за ёлку не держался?
— Я и сейчас за неё держусь, — донеслось до меня снизу после некоторой паузы. — Я за неё учепился, а она ка-ак вырвется… С кореньем. Скоро ты там? Гляди, только лучше за ёлки не шибко держись.
Хватаясь за выступы и камни, я осторожно спустился на дно оврага. Мишка сидел на золотистом песке на берегу ручья и, морщась, растирал ногу, стараясь, однако, сохранить беспечный вид.
— Тут, — указал он около себя. — Как прямо слетел-то! Ровно прицелился!
Ну конечно, разве Мишка признается, что слетел вниз без всякого прицела? Но сейчас было не до споров. Я промолчал, а Мишка ещё потёр ногу, встал и, прихрамывая, подошёл к высокой скале из розового песчаника. Скала сильно наклонилась вперёд, образуя как бы небольшую низкую пещерку, из которой и вытекал ручей. Мишкин лом слетел вниз вместе с хозяином, воткнулся концом в дно ручья перед самой пещерой, и вода с лёгким журчаньем огибала его морщинистыми струйками.
Солнечный свет падал на розовую скалу, золотистый песок, на котором весело искрилась вода, но под скалой была мрачная тень, оттуда веяло холодом и сыростью.
— Видал? — проговорил Мишка и похлопал по скале с такой гордостью, точно она была его собственная. Ручей-то прямо из горы текёт. По нему в самую гору пролезем. А там руды всякие. Открытие мы с тобой сделаем. Вот как!
Я следил за Мишкой затаив дыхание. Что он сделает дальше? Он минуту подумал, потом решительно вытащил из кармана верёвку, опоясался одним концом, к другому привязал лом и кирку. Нагнулся и пошёл под скалу, к отверстию, из которого вытекал ручей; положил лом и кирку в воду и опустился на четвереньки. Оглянулся на меня. «Какой же он бледный», — подумал я.
— Айда! — проговорил Мишка решительно. — За мной ползи!
— Мишка! — крикнул я отчаянно. — Стой! — Но босые Мишкины пятки мелькнули перед моими глазами и исчезли в ручье под скалой. Верёвка натянулась, дрогнула, лом и кирка, как две странные рыбы, зашевелились, плеснули водой и медленно втянулись под скалу той же дорогой.
— Мишка! — повторил я и прислушался.
— А-а-а-а-а… — глухо отозвалось из-под скалы — не то Мишкин голос, не то эхо. Стало страшно, но надо решаться. Ведь Мишка один там! В горе!
Я глубоко вздохнул и тоже ступил в ручей. Вода была холодная как лёд. Я зажмурился, нагнулся. Голова коснулась каменного свода, но дышать можно: вода до самого верха не доходит. Пробираюсь ползком на четвереньках. Вот уже можно и подняться на ноги: каменная труба кончилась, я — в пещере, и перед глазами мигает огонёк.
— Вылазь сюда, к стенке, тут сухо, — слышу я. Это Мишкин голос. И сам он стоит, высоко подняв над головой свою удивительную лампу-жестянку.
Я выбрался к нему на сухое место и огляделся. Пещера была маленькая и довольно узкая, со сводчатым потолком.
Ручей вытекал из отверстия в одной стене пещеры, пересекал её по углублённому дну и исчезал в другом отверстии — том самом, из которого я только что выбрался.
— Видал? — торжествующе спросил Мишка. — Открытие это может быть, — продолжал он, выдержав значительную паузу, чтобы дать мне осмотреться.
Я перевёл глаза со стены на самого Мишку: он успел уже весь перемазаться копотью своей лампы и сам, с блестящими на чумазом лице глазами и зубами, походил на удивительного горного чертёнка.
Ну конечно, — открытие. Такой уж человек Мишка — ему во всём везёт. Если силки ставить, так самые голосистые птицы — Мишкины, если за малиной пойдём, он всегда самой крупной наберёт… Вот и теперь, у меня — ничего, а у Мишки уже — открытие.
При этой мысли что-то вдруг сжало мне сердце и я отвернулся.
— Чего молчишь-то? — заговорил наконец Мишка, — как у нас с тобой всё в делёжку, так и открытия — пополам.
Я почувствовал себя неловко: Мишка будто подслушал мои мысли, а они были не очень-то хорошие…
— Не надо — пополам… — пробормотал я было с раскаянием, но Мишка меня перебил.
— Лампу бери, — сказал он торопливо, — и свети.
Я осторожно опустил колеблющееся пламя к самой земле. Стена, из-под которой ручей втекал в пещеру, имела сильный наклон, и отверстие в ней, через которое ручей пробирался в пещеру, было очень небольшое, вода заполняла его целиком: проползти в него можно было только лёжа ничком и даже опустив голову в воду.
Мишка лёг на пол и старался заглянуть под стенной уступ.
— Ничего не видно, — промолвил он с сожалением и, помолчав, добавил небрежно: — Наверное, и там ещё какое открытие.
Мне стало досадно: уж это Мишка задаётся. Сколько ему ещё открытий надо? И, отвернувшись, с лампой в руках я направился к противоположной стене.
— Куда ты? — воскликнул Мишка, но тут же, вскочив на ноги, договорил поспешно: — Ладно уж, погодить до другого раза, всюду не разорвёшься.
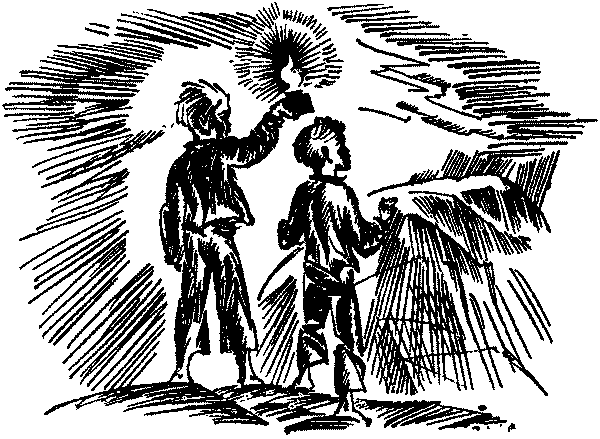 Я понял, что и Мишкино неустрашимое сердце дрогнуло, опускаться с головой в воду и ему боязно. Однако, если дать ему это понять, он из одного самолюбия полезет куда угодно. И потому я быстро отвернулся, поднял коробку кверху, точно хотел рассмотреть стенку, и замер: по стене, над самым выходным из пещеры отверстием, бежали какие-то извилистые яркие прожилки золотистого цвета.
Я понял, что и Мишкино неустрашимое сердце дрогнуло, опускаться с головой в воду и ему боязно. Однако, если дать ему это понять, он из одного самолюбия полезет куда угодно. И потому я быстро отвернулся, поднял коробку кверху, точно хотел рассмотреть стенку, и замер: по стене, над самым выходным из пещеры отверстием, бежали какие-то извилистые яркие прожилки золотистого цвета.
— Мишка, — сказал я, — смотри!
Мишка взглянул, проворно нагнулся и поднял кирку.
— Так я и думал! — сказал он радостно. — Потому что — уж если в гору лаз есть — обязательно в ней чегой-то найдёшь? Золото это, Серёжка. Чегой-то мы на него сделаем? А?
— Заповедник, — сказал я и глубоко вздохнул от волнения. — Как в Аскании. Зверей всяких в него поедем покупать по всему свету. В Африку, например, идёт?
— Идёт! — закричал Мишка. — Я, брат, и сам сколько думал — чегой-то мне в Африку так крепко хочется? Свети, а я как резану… — и, отклонившись назад, он сильно взмахнул киркой и ударил по камню, над самым отверстием, через которое мы пробирались в пещеру.
Звонкий удар смешался с таким гулом и грохотом, что я невольно зажмурился. Фонтан воды ударил мне в лицо, я откинулся назад, оступился и, падая, больно стукнулся затылком о стену.
— Серёжка! — услышал я Мишкин испуганный голос, — да где же ты? Куда ты лампу-то дел? Серёжка!
Я с трудом пошевелился, сел и дотронулся пальцем до глаза. Открыт. И другой — тоже. Но почему же я ничего не вижу? Ведь выходное отверстие немножко светилось, и в пещере раньше было не совсем темно и без лампы…
— Мишка, — заговорил я, — почему так темно?
Мишкина рука нащупала моё плечо.
— Лампа где? — повторил он настойчиво.
— Уронил, — медленно отвечал я, с трудом приходя в себя. — Мишка, что это было? А?
Мишка помедлил с ответом.
— Обвалилось, — наконец отозвался он и добавил с какой-то жуткой торопливостью: — Лампу скорей найти надо. Поглядеть, что случилось.
Я похолодел и крепко сжал Мишкину руку. Я понял: он не хочет говорить того, что сам уже знает.
— Спичку зажги, — сказал я, — при свете скорее найдём.
Мишка смущённо кашлянул.
— Спички не помню куда подевал. В кармане вот одна осталась, годится лампу зажечь. А искать уж так, в потёмках придётся.
Став на колени, мы проползли до стены, повернули, поползли обратно. Мы ощупывали каждый камешек, каждую горсточку песка. Лампа представлялась мне теперь самой большой драгоценностью.
— Не нашёл? — время от времени спрашивал кто-нибудь из нас, и в ответ неизменно слышалось: — Нет!
Мне казалось, что темнота становится всё гуще, всё тяжелее, а самые стены пещеры наклонились над нами, сдвигаются всё ближе, ближе…
Прошло несколько томительных минут… И вдруг у меня вырвался — не крик, кричать было страшно, — а вздох:
— Нашёл! — Пальцы мои схватили жестяную коробку, да так на ней и закостенели.
— Давай, — так же тихо отозвался Мишка. Нащупав мою руку, он потянул её вместе с коробкой,
— Да отпусти ты, — с досадой сказал он. — Чего вцепился? Ишь — сухая, до самой стены долетела. Только бы спичка-то зажглась!
Помолчали.
— Мишка, — зашептал я опять. — Чего же ты не зажигаешь?
— Боюсь, — тихо донеслось до меня. — Вдруг не зажгётся спичка-то?
Я съёжился и замолчал, но слух мой так обострился, что я улавливал каждое Мишкино движение.
Вот он поправил и вытянул побольше фитиль из коробки, вот вынул спичку и поднёс её к стене…
Чирк… Ничего.
И опять, немного погодя, чирк…
Слабый жёлтенький огонёк осветил Мишкину руку, к ней приблизилась другая… фитилёк мигнул, выпустил струйку копоти и разгорелся.
Мы молча, с восхищением смотрели друг на друга. Теперь, когда страшная подземная темнота частично рассеялась, нам на минуту показалось, что с ней ушли и все наши беды.
Первым опомнился Мишка.
— Давай смотреть скорей, — сказал он и, повернувшись, приблизил лампу к стене.
Тут только мы поняли, какая беда нас постигла: большой камень над выходом из пещеры, подточенный сыростью, наверное, едва держался на своём месте и рухнул от удара Мишкиной кирки. Нижняя часть его, выгнутая в виде арки, краями оперлась о берега ручья, и теперь ручей протекал в новом, суженном отверстии, совершенно его заполняя.
Огонёк лампы слабо мигал. Он то вспыхивал, то вдруг съёживался и выпускал тонкую струйку копоти, и тогда я чувствовал, как темнота давит мне на плечи.
Сырость пещеры, сначала незаметная, всё больше пронизывала наши полуголые тела. Иногда капля, срываясь с потолка, звонко шлёпалась об пол. От каждого звука мы вздрагивали и молча прижимались друг к другу. Так стояли мы, наблюдая за единственной жизнью в этом страшном месте — за нашим трепещущим огоньком.
— Сколько он гореть будет? — проговорил вдруг Мишка, не глядя на меня и не шевелясь.
Я вздохнул и ничего не ответил. Стоять и молчать было страшно, но двигаться и говорить казалось ещё страшнее.
Сколько прошло времени, мы не знали, как вдруг что-то холодное коснулось моей ноги. Я отдёрнул её, глянул вниз и, вздрогнув так сильно, что толкнул Мишку плечом, отскочил к стене.
— Ты чего это? — спросил Мишка, выходя из задумчивости. Я молча указал головой на ручей. Вода его, понемногу поднимаясь, приблизилась уже к самым нашим ногам.
Мишка неожиданно свистнул, но тут же зажал рот рукой, так странно и жутко отозвался свист под сводом пещеры. Нагнувшись, я приблизил лампу к заваленному отверстию. Камень, лежавший поперёк ручья, не давал возможности вытекать из пещеры всей воде, и уровень её медленно поднимался. Через некоторое время вода должна была заполнить всю пещеру.
Однако эта новая угроза сослужила нам службу, вырвала нас из странного оцепенения.
— Держи лампу, — сказал Мишка и, шагнув вперёд, решительно ступил в воду. Он потрогал камень, подсунул под него руку и, повернувшись, пытливо посмотрел мне в глаза.
— Мырять надо, — сказал решительно. — Пропадём а то. Зальёт как мышов! У тебя сердце стерпит, мырять-то?
Я почувствовал, точно и вправду, холодная рука сжала мне сердце.
— Нырять… — пробормотал я, но тут же справился с собой и договорил, стараясь не смотреть на Мишку: — Велико дело! Ну, кто первый?
— Я первый, — отвечал Мишка, и голос его вдруг странно дрогнул. — Коли там не пролезть, я… ворочусь, — добавил он, и я вдруг почувствовал, что его рука ищет мою. — Ты не сумлевайся, Серёжа, ну… — Он глубоко вздохнул и, словно боясь, что его решимости не хватит надолго, поспешно выдернул руку из моей и повернулся к камню.
Молча я следил, как Мишка потрогал камень, точно пробуя его поднять. Затем оглянулся на меня, махнул рукой и, наклонившись, исчез в отверстии. Вода слегка запенилась, на ней закружилась воронка. Я остался один…
Теперь, когда Мишки не было, темнота давила ещё сильнее. Слабое пламя лампочки, казалось, гнулось под её тяжестью и иногда пускало струйку копоти, точно задыхаясь в борьбе.
Выбрался ли Мишка? А если… Я не решался договорить даже в душе.
Холодная вода опять коснулась моей ноги. Нужно торопиться.
Я встал и оглянулся. Лампа стояла у стены, слабый жёлтый огонёк её еле мерцал. И опять он показался мне живым существом в этом мёртвом мире. Сейчас он останется один и, вздрагивая, в страхе будет ждать, как к нему подбирается злая свинцовая вода…
В последний раз взглянув на огонёк, я подошёл к разлившемуся ручью. Нырял я и плавал хорошо, но здесь… сама вода казалась не водой, а каким-то ужасным расплавленным металлом.
Глубоко вздохнув, я набрал в грудь воздуха и закрыл глаза.
— Голову ниже, — говорил я себе погружаясь — ближе ко дну, чтобы не зацепиться, ещё… ну…
Я наполовину плыл, наполовину полз, поднимая руку и ощупывая над собой твёрдый гладкий камень. Ещё… ещё… И вдруг меня потянуло назад. Пояс штанишек зацепился за какой-то выступ сверху, а напор воды не давал повернуться. Мои усилия истощили запас воздуха в груди, в ушах зазвенело, потом что-то с силой потянуло меня за волосы… больше я ничего не помнил.
Острая боль заставила меня открыть глаза. Я лежал на песке около ручья, надо мной склонился Мишка, а грудь мою жгло, точно огнём.
Я застонал и пошевелился. Мишка взглянул в мои открытые глаза и, вскрикнув, кинулся меня обнимать.
Он был такой бледный, что веснушки на его лице показались мне чёрными.
— Серёжка, — кричал он, — живой ты, живой!.. — Он тряс и мотал меня, как щенок куклу, а затем вдруг поднял, посадил на песок и в восторге шлёпнул по груди.
— Мишка, — заговорил я медленно, — смотри, какая красивая дорожка идёт от реки вверх, прямо в осинник. Точно идёт она неизвестно куда, просто — никуда.
Мишка фыркнул и сбросил с крючка объеденного червяка.
— Ни-ку-да… — передразнил он меня и насадил на крючок нового червяка. — На Чусовую она, эта дорога, идёт. Вон куда! Думаешь ты всё такое, непутёвое, чего нету… — презрительно договорил он и, размахнувшись, ловко закинул леску в заводь около берега.
Разговор оборвался. Я сидел весь красный, даже уши горели, и делал вид, что слежу за дрожащим в течении поплавком.
И надо же мне было ему говорить! Знаю ведь Мишкин характер. Теперь будет дразниться…
Я, положим, видел, что Мишка больше не смеялся, сам не рад, видит — нехорошо вышло. Даже завозился на своём «кресле» и на меня смотрит. Не знает, как подступиться, чтобы и помириться и себя не уронить. Но мне точно стало жалко расставаться со своей обидой.
— Живцов-то много наловил? — заговорил наконец Мишка с преувеличенным интересом.
— Не знаешь разве, вместе ловили, — пробурчал я не оглядываясь и опять уставился на поплавок.
Помолчали.
— Да клюёт же у тебя, беспонятный! — закричал Мишка уже с раздражением. — Этак до завтра просидишь — ничего не наловишь.
— А мне и ловить не хочется, — отвечал я дрожащим голосом и, вытащив удочку из воды, начал её поспешно сматывать, — домой пойду, там интереснее что найду. Тут и рыбёшка-то кошкина радость.
— Ну и ступай домой, — не выдержал Мишка. Он ловко соскочил с развалины прямо на берег, сунул несмотанную удочку в кусты. — Проваливай! А я и один схожу да не «никуда», а знаю — куда. Вот!
С этими словами Мишка зацарапался вверх по обрыву и исчез. Я и ответить ничего не успел.
Ловить рыбу стало вовсе неинтересно. Я тоже выбрался на высокий берег, остановился и прислушался. Дрозд-рябинник весело свистнул и перелетел с ветки на ветку, ему откликнулась иволга, точно кошка взвизгнула, и опять всё смолкло. В лесу, непрогретом утренним солнцем, было холодно и неуютно. Я ещё постоял, прислушался и, понурившись, пошёл по дорожке.
«Теперь уж, наверно, поссорились навсегда, — подумал я с горечью и, подняв еловую шишку, размахнулся и пустил её по дорожке. — И почему мириться всегда стыдно? А если не мириться — как же тогда играть и ходить на пасеку?.. Или уже мне теперь и на пасеку нельзя, вроде как она Мишкина?»
Трах! С ходу я шлёпнулся на землю, больно ударившись локтем о корень.
— Ай! — невольно вскрикнул я и вдруг осёкся: из-за толстой ёлки выглянула Мишкина смеющаяся физиономия.
— Остыл маненько? — осведомился он добродушно. — Ну полежь, полежь покуда, а я побегу себе.
Я опустил глаза: через тропинку, над самой землёй, тянулась тонкая крепкая верёвка.
Ах, вот оно что! В одну минуту я оказался на ногах и крепко сжал кулаки. Но Мишка со смехом метнулся в сторону и исчез так быстро, что я не успел даже толком рассмотреть — куда он подевался.
Я перевёл дыхание, перешагнул через верёвку и ещё раз осмотрелся. Ну, уж теперь-то я знаю, это — настоящая ссора. На всю жизнь. Навсегда! Всё ещё сжимая кулаки, я обошёл несколько самых толстых ёлок и заглянул за них.
Никого. Пусть же Мишка только явится! Пусть он только…
Я даже не заметил, как спустился с горки, вышел из лесу.
Дома дядя Петя и тётя Варя уже сидели за столом, накрытым пёстрой скатертью.
— А я была уверена, что он опоздает к завтраку, — сказала тётя Варя, и было непонятно: довольна она тем, что я не опоздал, или нет.
«Вот всегда так, — с обидой подумал я, опускаясь на стул. — Что хорошее сделаешь — всё равно не похвалит, не то что мама. И слушаться-то её не интересно».
Я ел молча, угрюмо, не разбирая — что. С первого дня (уже целая неделя прошла) мы с Мишкой всегда были вместе. А теперь как? Я мысленно заглянул вперёд, и день вдруг показался мне таким длинным. Всё равно уж. Теперь никогда…
Мишка не показывался два дня. Я уж один пошёл на речку удить. Рыба куда-то подевалась. Поймал двух рыбёшек — таких только кошке отдать. Она их в минуту съела и ещё стала просить. Я даже рассердился: ишь какая! Поди, сама поймай, тоже хитрая. И сегодня утро началось очень скучно: за завтраком тётя Варя начала меня за что-то отчитывать. И вдруг… один свисток длинный и два коротких. От садовой калитки. Неужели…
Горячая каша застряла у меня в горле, я задохнулся и закашлялся.
— Так кашей только конокрадов в прежнее время кормили, — раздался весёлый дядин бас, и тяжёлая рука ласково хлопнула меня по спине. — Ты хоть немножко передохни. Что? Мишка опять?
— Ну, разумеется, — вмешалась тётка. — Эта дружба не доведёт до добра. Мальчик до такой степени недисциплинирован…
Но я, давясь, уже проглотил последнюю ложку каши и проворно вскочил со стула.
— Всё! Кончил! — крикнул я. — Больше не хочу! Спасибо!
Последние слова я выкрикнул уже на крыльце, сбежал по ступенькам и бросился по дорожке.
Так и есть. Мишкины огненные вихры золотились у садовой калитки. Он стоял и пальцами правой ноги подхватывал камешек: высоко подбросит его и ловко поймает на подъём ноги. Я почти набежал на него.
— Мишка, ты чего же не приходил? — крикнул я.
— Мамка не пускала, — ответил он. — На пасеку даже. «Ты, говорит, там по медведям скачешь, а у меня сердце обрывается. Сиди дома, пока передохну». А кто знает, сколько, она передыхать будет? Я и убег.
— А я-то… — начал было я горячо и вдруг остановился, будто споткнулся.
«А как же ссора? Ведь мы же с Мишкой теперь на всю жизнь…»
Но Мишка посмотрел на меня и усмехнулся. Веснушки на носу у него, казалось, тоже смеялись.
— Серчаешь? — спросил он самым дружелюбным тоном. И, прежде чем я нашёлся что-либо ответить, оглянулся, хотя нас могли подслушать одни лопухи у канавы, и нагнулся к самому моему уху.
— Кирку возьми, — сказал он таинственно. — В сарае у вас валяется которая. И хлеба. А лампу я сам сготовил, горит — во! — Он вытащил из кармана штанишек облезлую коробку из-под зубного порошка, помахал ею в воздухе и опять сунул в карман.
— В пещере-то как без неё разглядишь? — пояснил он. — Руды там, может, есть всякие, ручей текёт…
У меня даже дух захватило: да что ж это Мишка придумал? Но нет, надо выдержать характер. Я отвернулся и сделал вид, что заинтересовался ползущей по створке калитки большой мохнатой гусеницей.
— Кирку? — переспросил я и подставил гусенице зелёный листик. — Тяжёлая она очень, тащить для какой-нибудь пустяковины.
Трах! Червяк с листом взлетели кверху. Это Мишка поддал ладошкой мне под руку.
— Это пещера-то — пустяковина? — кипятился он. — Руды всякие, ручей текёт… Ну и плевать!
Он круто, на одной пятке, повернулся, показывая, что всё теперь между нами порвано. Конец! Но тут уже я не вытерпел и схватил его за руку.
— Мишка! — крикнул я. — Не буду больше. Честное пионерское. Я и сам мириться хотел. Только не знал — как. Какая пещера? Какой ручей?
Мишка живо обернулся, задорно тряхнул хохлом.
— То-то — «какая?» — проговорил он, видно, очень довольный. — Говорю — бежим в сарай.

— Крепкая, — сказал он. — А что заржавела — не беда, в горе засветлится. Ты что, отобедался?
— Уже, — ответил я, подражая ему в краткости. — Бежим лучше низом, чтобы тётя Варя не увидала, а то не пустит ещё… А это у тебя что?
— Из дому взял, тоже пригодится. — И Мишка уже на бегу перехватил из одной руки в другую небольшой железный лом.
Ссора была ещё слишком свежа, и потому мы немного дичились друг друга. Даже раздевались и плыли через реку как-то особенно по-деловому, словно мы этим страшно заняты и разговаривать нам вовсе некогда. Но, вылезая из воды, нечаянно схватились за одну ветку, заторопились, стукнулись лбами и рассмеялись радостно: неловкость как рукой сняло.
— Чуднáя она у тебя, тётка-то! — сказал Мишка, когда мы выбрались на берег. — Ну, моя мамка воды велит натаскать, дров нарубить. А твоя — и работать не велит, а вовсе за так привязывается.
— Это она называет — воспитывать, — пояснил я, прыгая на одной ноге и продевая другую в штанишки. — А дядя говорит, воспитывать — это совсем другое, это, это…
Я не знал, как определить дядину систему воспитания, и Мишка меня перебил:
— Моя мамка тоже говорит: трудно мне тебя воспитывать. А сама шанежку сунет, а то блин, редко когда за волосья. Жалеет она меня, — договорил он задумчиво, разгребая ногой влажный песок. — Небось, тебя тётка тоже жалеет, — прибавил он после небольшой паузы и покосился на меня.
Я вспыхнул и отвернулся. Мишка задел моё самое больное место. Для тёти Вари я — помеха, чужой мальчик, — я сам слышал, как она это говорила дяде Пете. И Мишка, значит, это видит и вот — утешает. Ну, пожалуйста, не нужно мне его утешений!
— Это маленьких жалеют, — сказал я зазвеневшим голосом. — И совсем я не нуждаюсь. И даже очень скоро домой поеду, в Москву.
— Ну-у, — удивился Мишка и даже остановился, как аист, на одной ноге, забыв продеть другую в штанишки. — А я-то как?
Но я вместо ответа подхватил с земли кирку и быстро полез на обрыв.
— Не отставай! — крикнул ему.
Выбравшись наверх, мы опять побежали, без тропинки, прямо по лесу. Мишка, видимо, очень торопился, а мне и вовсе говорить не хотелось. Я бежал молча, не слишком нагоняя Мишку, чтобы смыкавшиеся за ним ветки не хлестали меня по лицу.
Мы бежали долго, и я уже совсем задохнулся, когда Мишка вдруг замедлил шаг, оглянулся и остановился.
— Здесь, — сказал он, показывая впереди себя.
Мы подошли к обрыву. Я глянул вниз, потом на Мишку. Он стоял и весело улыбался.
— Как мы с тобой, значит, побрыкались, так я про это место и подумал, — продолжал он и, наклонившись, тоже заглянул вниз. — Один хотел пойти, лампу справил, видал? А потом… скушно стало одному-то, — пояснил он и, толкнув меня в бок локтем, засмеялся. Я вернул ему толчок с такой горячностью, что Мишка даже покачнулся и ухватился за осинку, чтобы не упасть. Этим мы как бы подвели окончательный итог нашей ссоре и поставили на ней точку.
— Теперь гляди в оба. Спускаться-то круто очень, за ёлку дюжей держись, — крикнул Мишка и, сам схватившись за ветку, прицелился прыгнуть вниз. — За ёлку. Она, брат, не выдаст. Она…
— Ай! — крикнул я испуганно и протянул руку, чтобы удержать Мишку, но опоздал: раздался треск, что-то больно хлестнуло меня по лицу и пролетело с обрыва вниз.
— Мишка! — испуганно закричал я нагибаясь. — Да Мишка же! Ушибся? Чего же ты сам за ёлку не держался?
— Я и сейчас за неё держусь, — донеслось до меня снизу после некоторой паузы. — Я за неё учепился, а она ка-ак вырвется… С кореньем. Скоро ты там? Гляди, только лучше за ёлки не шибко держись.
Хватаясь за выступы и камни, я осторожно спустился на дно оврага. Мишка сидел на золотистом песке на берегу ручья и, морщась, растирал ногу, стараясь, однако, сохранить беспечный вид.
— Тут, — указал он около себя. — Как прямо слетел-то! Ровно прицелился!
Ну конечно, разве Мишка признается, что слетел вниз без всякого прицела? Но сейчас было не до споров. Я промолчал, а Мишка ещё потёр ногу, встал и, прихрамывая, подошёл к высокой скале из розового песчаника. Скала сильно наклонилась вперёд, образуя как бы небольшую низкую пещерку, из которой и вытекал ручей. Мишкин лом слетел вниз вместе с хозяином, воткнулся концом в дно ручья перед самой пещерой, и вода с лёгким журчаньем огибала его морщинистыми струйками.
Солнечный свет падал на розовую скалу, золотистый песок, на котором весело искрилась вода, но под скалой была мрачная тень, оттуда веяло холодом и сыростью.
— Видал? — проговорил Мишка и похлопал по скале с такой гордостью, точно она была его собственная. Ручей-то прямо из горы текёт. По нему в самую гору пролезем. А там руды всякие. Открытие мы с тобой сделаем. Вот как!
Я следил за Мишкой затаив дыхание. Что он сделает дальше? Он минуту подумал, потом решительно вытащил из кармана верёвку, опоясался одним концом, к другому привязал лом и кирку. Нагнулся и пошёл под скалу, к отверстию, из которого вытекал ручей; положил лом и кирку в воду и опустился на четвереньки. Оглянулся на меня. «Какой же он бледный», — подумал я.
— Айда! — проговорил Мишка решительно. — За мной ползи!
— Мишка! — крикнул я отчаянно. — Стой! — Но босые Мишкины пятки мелькнули перед моими глазами и исчезли в ручье под скалой. Верёвка натянулась, дрогнула, лом и кирка, как две странные рыбы, зашевелились, плеснули водой и медленно втянулись под скалу той же дорогой.
— Мишка! — повторил я и прислушался.
— А-а-а-а-а… — глухо отозвалось из-под скалы — не то Мишкин голос, не то эхо. Стало страшно, но надо решаться. Ведь Мишка один там! В горе!
Я глубоко вздохнул и тоже ступил в ручей. Вода была холодная как лёд. Я зажмурился, нагнулся. Голова коснулась каменного свода, но дышать можно: вода до самого верха не доходит. Пробираюсь ползком на четвереньках. Вот уже можно и подняться на ноги: каменная труба кончилась, я — в пещере, и перед глазами мигает огонёк.
— Вылазь сюда, к стенке, тут сухо, — слышу я. Это Мишкин голос. И сам он стоит, высоко подняв над головой свою удивительную лампу-жестянку.
Я выбрался к нему на сухое место и огляделся. Пещера была маленькая и довольно узкая, со сводчатым потолком.
Ручей вытекал из отверстия в одной стене пещеры, пересекал её по углублённому дну и исчезал в другом отверстии — том самом, из которого я только что выбрался.
— Видал? — торжествующе спросил Мишка. — Открытие это может быть, — продолжал он, выдержав значительную паузу, чтобы дать мне осмотреться.
Я перевёл глаза со стены на самого Мишку: он успел уже весь перемазаться копотью своей лампы и сам, с блестящими на чумазом лице глазами и зубами, походил на удивительного горного чертёнка.
Ну конечно, — открытие. Такой уж человек Мишка — ему во всём везёт. Если силки ставить, так самые голосистые птицы — Мишкины, если за малиной пойдём, он всегда самой крупной наберёт… Вот и теперь, у меня — ничего, а у Мишки уже — открытие.
При этой мысли что-то вдруг сжало мне сердце и я отвернулся.
— Чего молчишь-то? — заговорил наконец Мишка, — как у нас с тобой всё в делёжку, так и открытия — пополам.
Я почувствовал себя неловко: Мишка будто подслушал мои мысли, а они были не очень-то хорошие…
— Не надо — пополам… — пробормотал я было с раскаянием, но Мишка меня перебил.
— Лампу бери, — сказал он торопливо, — и свети.
Я осторожно опустил колеблющееся пламя к самой земле. Стена, из-под которой ручей втекал в пещеру, имела сильный наклон, и отверстие в ней, через которое ручей пробирался в пещеру, было очень небольшое, вода заполняла его целиком: проползти в него можно было только лёжа ничком и даже опустив голову в воду.
Мишка лёг на пол и старался заглянуть под стенной уступ.
— Ничего не видно, — промолвил он с сожалением и, помолчав, добавил небрежно: — Наверное, и там ещё какое открытие.
Мне стало досадно: уж это Мишка задаётся. Сколько ему ещё открытий надо? И, отвернувшись, с лампой в руках я направился к противоположной стене.
— Куда ты? — воскликнул Мишка, но тут же, вскочив на ноги, договорил поспешно: — Ладно уж, погодить до другого раза, всюду не разорвёшься.
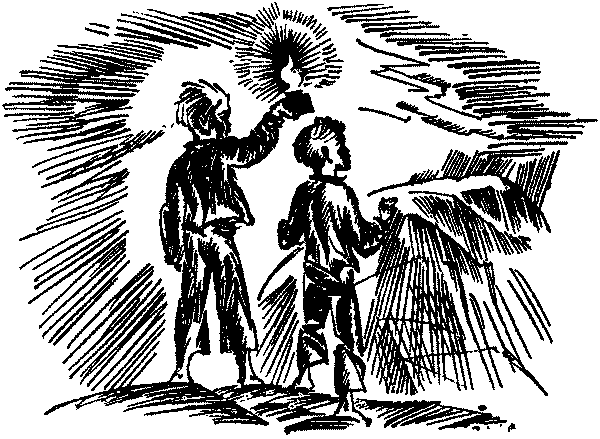
— Мишка, — сказал я, — смотри!
Мишка взглянул, проворно нагнулся и поднял кирку.
— Так я и думал! — сказал он радостно. — Потому что — уж если в гору лаз есть — обязательно в ней чегой-то найдёшь? Золото это, Серёжка. Чегой-то мы на него сделаем? А?
— Заповедник, — сказал я и глубоко вздохнул от волнения. — Как в Аскании. Зверей всяких в него поедем покупать по всему свету. В Африку, например, идёт?
— Идёт! — закричал Мишка. — Я, брат, и сам сколько думал — чегой-то мне в Африку так крепко хочется? Свети, а я как резану… — и, отклонившись назад, он сильно взмахнул киркой и ударил по камню, над самым отверстием, через которое мы пробирались в пещеру.
Звонкий удар смешался с таким гулом и грохотом, что я невольно зажмурился. Фонтан воды ударил мне в лицо, я откинулся назад, оступился и, падая, больно стукнулся затылком о стену.
— Серёжка! — услышал я Мишкин испуганный голос, — да где же ты? Куда ты лампу-то дел? Серёжка!
Я с трудом пошевелился, сел и дотронулся пальцем до глаза. Открыт. И другой — тоже. Но почему же я ничего не вижу? Ведь выходное отверстие немножко светилось, и в пещере раньше было не совсем темно и без лампы…
— Мишка, — заговорил я, — почему так темно?
Мишкина рука нащупала моё плечо.
— Лампа где? — повторил он настойчиво.
— Уронил, — медленно отвечал я, с трудом приходя в себя. — Мишка, что это было? А?
Мишка помедлил с ответом.
— Обвалилось, — наконец отозвался он и добавил с какой-то жуткой торопливостью: — Лампу скорей найти надо. Поглядеть, что случилось.
Я похолодел и крепко сжал Мишкину руку. Я понял: он не хочет говорить того, что сам уже знает.
— Спичку зажги, — сказал я, — при свете скорее найдём.
Мишка смущённо кашлянул.
— Спички не помню куда подевал. В кармане вот одна осталась, годится лампу зажечь. А искать уж так, в потёмках придётся.
Став на колени, мы проползли до стены, повернули, поползли обратно. Мы ощупывали каждый камешек, каждую горсточку песка. Лампа представлялась мне теперь самой большой драгоценностью.
— Не нашёл? — время от времени спрашивал кто-нибудь из нас, и в ответ неизменно слышалось: — Нет!
Мне казалось, что темнота становится всё гуще, всё тяжелее, а самые стены пещеры наклонились над нами, сдвигаются всё ближе, ближе…
Прошло несколько томительных минут… И вдруг у меня вырвался — не крик, кричать было страшно, — а вздох:
— Нашёл! — Пальцы мои схватили жестяную коробку, да так на ней и закостенели.
— Давай, — так же тихо отозвался Мишка. Нащупав мою руку, он потянул её вместе с коробкой,
— Да отпусти ты, — с досадой сказал он. — Чего вцепился? Ишь — сухая, до самой стены долетела. Только бы спичка-то зажглась!
Помолчали.
— Мишка, — зашептал я опять. — Чего же ты не зажигаешь?
— Боюсь, — тихо донеслось до меня. — Вдруг не зажгётся спичка-то?
Я съёжился и замолчал, но слух мой так обострился, что я улавливал каждое Мишкино движение.
Вот он поправил и вытянул побольше фитиль из коробки, вот вынул спичку и поднёс её к стене…
Чирк… Ничего.
И опять, немного погодя, чирк…
Слабый жёлтенький огонёк осветил Мишкину руку, к ней приблизилась другая… фитилёк мигнул, выпустил струйку копоти и разгорелся.
Мы молча, с восхищением смотрели друг на друга. Теперь, когда страшная подземная темнота частично рассеялась, нам на минуту показалось, что с ней ушли и все наши беды.
Первым опомнился Мишка.
— Давай смотреть скорей, — сказал он и, повернувшись, приблизил лампу к стене.
Тут только мы поняли, какая беда нас постигла: большой камень над выходом из пещеры, подточенный сыростью, наверное, едва держался на своём месте и рухнул от удара Мишкиной кирки. Нижняя часть его, выгнутая в виде арки, краями оперлась о берега ручья, и теперь ручей протекал в новом, суженном отверстии, совершенно его заполняя.
Огонёк лампы слабо мигал. Он то вспыхивал, то вдруг съёживался и выпускал тонкую струйку копоти, и тогда я чувствовал, как темнота давит мне на плечи.
Сырость пещеры, сначала незаметная, всё больше пронизывала наши полуголые тела. Иногда капля, срываясь с потолка, звонко шлёпалась об пол. От каждого звука мы вздрагивали и молча прижимались друг к другу. Так стояли мы, наблюдая за единственной жизнью в этом страшном месте — за нашим трепещущим огоньком.
— Сколько он гореть будет? — проговорил вдруг Мишка, не глядя на меня и не шевелясь.
Я вздохнул и ничего не ответил. Стоять и молчать было страшно, но двигаться и говорить казалось ещё страшнее.
Сколько прошло времени, мы не знали, как вдруг что-то холодное коснулось моей ноги. Я отдёрнул её, глянул вниз и, вздрогнув так сильно, что толкнул Мишку плечом, отскочил к стене.
— Ты чего это? — спросил Мишка, выходя из задумчивости. Я молча указал головой на ручей. Вода его, понемногу поднимаясь, приблизилась уже к самым нашим ногам.
Мишка неожиданно свистнул, но тут же зажал рот рукой, так странно и жутко отозвался свист под сводом пещеры. Нагнувшись, я приблизил лампу к заваленному отверстию. Камень, лежавший поперёк ручья, не давал возможности вытекать из пещеры всей воде, и уровень её медленно поднимался. Через некоторое время вода должна была заполнить всю пещеру.
Однако эта новая угроза сослужила нам службу, вырвала нас из странного оцепенения.
— Держи лампу, — сказал Мишка и, шагнув вперёд, решительно ступил в воду. Он потрогал камень, подсунул под него руку и, повернувшись, пытливо посмотрел мне в глаза.
— Мырять надо, — сказал решительно. — Пропадём а то. Зальёт как мышов! У тебя сердце стерпит, мырять-то?
Я почувствовал, точно и вправду, холодная рука сжала мне сердце.
— Нырять… — пробормотал я, но тут же справился с собой и договорил, стараясь не смотреть на Мишку: — Велико дело! Ну, кто первый?
— Я первый, — отвечал Мишка, и голос его вдруг странно дрогнул. — Коли там не пролезть, я… ворочусь, — добавил он, и я вдруг почувствовал, что его рука ищет мою. — Ты не сумлевайся, Серёжа, ну… — Он глубоко вздохнул и, словно боясь, что его решимости не хватит надолго, поспешно выдернул руку из моей и повернулся к камню.
Молча я следил, как Мишка потрогал камень, точно пробуя его поднять. Затем оглянулся на меня, махнул рукой и, наклонившись, исчез в отверстии. Вода слегка запенилась, на ней закружилась воронка. Я остался один…
Теперь, когда Мишки не было, темнота давила ещё сильнее. Слабое пламя лампочки, казалось, гнулось под её тяжестью и иногда пускало струйку копоти, точно задыхаясь в борьбе.
Выбрался ли Мишка? А если… Я не решался договорить даже в душе.
Холодная вода опять коснулась моей ноги. Нужно торопиться.
Я встал и оглянулся. Лампа стояла у стены, слабый жёлтый огонёк её еле мерцал. И опять он показался мне живым существом в этом мёртвом мире. Сейчас он останется один и, вздрагивая, в страхе будет ждать, как к нему подбирается злая свинцовая вода…
В последний раз взглянув на огонёк, я подошёл к разлившемуся ручью. Нырял я и плавал хорошо, но здесь… сама вода казалась не водой, а каким-то ужасным расплавленным металлом.
Глубоко вздохнув, я набрал в грудь воздуха и закрыл глаза.
— Голову ниже, — говорил я себе погружаясь — ближе ко дну, чтобы не зацепиться, ещё… ну…
Я наполовину плыл, наполовину полз, поднимая руку и ощупывая над собой твёрдый гладкий камень. Ещё… ещё… И вдруг меня потянуло назад. Пояс штанишек зацепился за какой-то выступ сверху, а напор воды не давал повернуться. Мои усилия истощили запас воздуха в груди, в ушах зазвенело, потом что-то с силой потянуло меня за волосы… больше я ничего не помнил.
Острая боль заставила меня открыть глаза. Я лежал на песке около ручья, надо мной склонился Мишка, а грудь мою жгло, точно огнём.
Я застонал и пошевелился. Мишка взглянул в мои открытые глаза и, вскрикнув, кинулся меня обнимать.
Он был такой бледный, что веснушки на его лице показались мне чёрными.
— Серёжка, — кричал он, — живой ты, живой!.. — Он тряс и мотал меня, как щенок куклу, а затем вдруг поднял, посадил на песок и в восторге шлёпнул по груди.
