Страница:
Интересно отметить, что по строению поверхности и свойству льда гималайские ледники значительно отличаются от ледников других горных систем. На больших высотах снег очень сухой, но резкие перепады температур часто способствуют образованию на поверхности снежного покрова тончайшей ледовой корки. Под такой коркой происходит сублимация[15], при которой кристаллики льда увеличиваются от оседания водяного пара на нижней поверхности ледяной корочки, которая вследствие этого утолщается и образует наст. Такие условия весьма благоприятны для образования лавин, которые и являются характерным явлением в Гималаях.
На меньших высотах влияние высоких дневных температур оказывается еще сильнее. Так, во-первых, там происходит очень быстрый процесс фирнизации снега и дальнейшее превращение фирна в лед. Во-вторых, на меньших высотах быстро происходит процесс испарения снега с поверхности, что, особенно в некоторых районах (Ладак), обусловливает недолговечность снежного покрова, образовавшегося от выпадения снега в долинах и на нижних склонах (2—3 дня).
И третья особенность заключается в том, что ледники почти всегда открыты и на их поверхности почти совершенно нет снега и фирна. Лишь в фирновых бассейнах питания ледников могут быть значительные скопления снега и фирна. Но их поверхность быстро уплотняется, и передвижение людей по такой поверхности не представляет больших трудностей. Только в периоды снегопадов горные склоны покрываются значительным слоем сухого снега, который удерживается короткое время после снегопада, а затем или сходит в виде лавин, или уплотняется под действием высоких дневных температур, или переносится сильными ветрами в углубленные части ледника или склона.
Вероятно, в связи с условиями образования и своеобразным режимом лед гималайских ледников обладает большой пластичностью. На крутых перегибах ложа основных потоков ледников трещин бывает очень мало. Там, где в других горных районах обычно образуются ледопады или большое количество трещин, на гималайских ледниках имеются, как правило, редкие трещины, и они не достигают больших размеров. Лишь иногда при слиянии двух ледников, протекающих по склонам различной крутизны, или при больших сжатиях ложа, а также на крутых изгибах ледников встречается значительная расчлененность ледовых масс.
Эта особенность гималайских ледников весьма характерна для северных склонов горной системы. На южных склонах достаточно часто встречаются сильно расчлененные ледники (Кхумбу, Даулагири, Ракиот и др.). Подобное состояние в значительной степени объясняется крутым Падением их Ложа, а в ряде случаев сильным сжатием его скальными выступами отрогов хребта.
Лед гималайских ледников не только пластичнее, чем на ледниках других горных районов, он также плотнее и имеет большую вязкость. Скорость движения ледников здесь значительно выше, чем на Кавказе или в Альпах.
В этом горном районе в зонах соприкосновения снега или льда со скалами таяние происходит весьма интенсивно. В результате этого между ледником и скалами образуются своеобразные «коридоры» до нескольких метров ширины, которые в некоторых случаях могут быть использованы для передвижения на значительном их протяжении. Все это особенно характерно для ледников района Кангченджунги.
Таким образом, высокогорная область Гималаев представляет собой мощные скальные хребты, вздымающиеся до высот 8000 м и более. Эти хребты то ослепительно белые от покрывающих их снегов, то мрачные и темные от обнаженных скал. А ниже снеговой линии гигантскими языками спускаются мощные ледники, глубоко врезаясь в зеленое царство высокогорных лугов или лесов на южных склонах Гималаев или в монотонно-серые склоны северной их стороны, покрытые многочисленными серыми осыпями и почти такой же серой бедной травянистой растительностью.
Климатические особенности Индии определяют также растительный и животный мир различных участков как всей страны, так и горных областей Гималаев. Известно, что по богатству и разнообразию растительности Индия занимает одно из первых мест в мире. Здесь насчитывается свыше 21 тысячи видов растительности, из которых около 17 тысяч видов цветковых. Однако не на всем протяжении Гималаев и не на всех высотах их склонов, как это и следовало бы ожидать, растительность одинакова. Она зависит от высоты местности над уровнем моря и ориентировки склонов по отношению к странам света.
Наиболее богата растительность Восточных Гималаев (включая Сикким). Только в Сиккиме насчитывается около 4000 видов цветковых и до 250 видов папоротников, из которых 8 видов древовидных. Здесь отчетливо выражена вертикальная зональность — тропическая зона расположена до высоты 2000 м, далее — до 3750 м располагается умеренная зона, выше которой вплоть до снеговой линии простираются высокогорные луга.
Часто заболоченные подножья Восточных Гималаев покрыты густыми лиственными лесами, из крупных (высотой до 40 м и до 2 м в обхвате) деревьев, называемых сал. Такие леса носят местное название «тераи». Они состоят не только из саловых деревьев. Здесь произрастают многие тропические виды — веерные пальмы, манговые деревья, бамбук, банан и кокосовые пальмы. Обычно деревья перевиты лианами, а подлесок, состоящий из различных кустарников, густо проросший высокими травами, делает такие леса труднопроходимыми.
С подъемом заболоченность уменьшается, а в связи с этим изменяется и характер растительности. Наряду с названными породами появляются мыльное дерево, мимоза, магнолия и конский каштан. Количество лиан здесь резко увеличивается. Они, как длинные и толстые канаты, то вьются вокруг стволов деревьев, то перебрасываются с одного дерева на другое. Стволы лиан увиты орхидеями различных видов (в Сиккиме, например, насчитывается 440 видов их). Стволы деревьев обвиваются здесь также диким виноградом и диким перцем. Пальм становится все меньше. Наиболее характерна для верхней части тропической зоны лазающая пальма (ротанг) с тонким, но очень длинным стволом (до 100 м). Во влажных затененных ущельях в большом количестве растут бананы, апельсиновые и лимонные деревья.
Еще выше, при переходе к умеренной зоне в лесах начинают появляться дубы с вечнозеленой листвой и древовидные папоротники. Тропическая зона распространяется здесь до высоты 2000 м, чему способствует не только тепло, но и большая влажность воздуха.
Умеренная зона, располагающаяся выше, начинается лиственными лесами из дуба, каштана, березы, вяза, клена, вишни, черемухи и яблони. Среди них до некоторой высоты еще встречаются тропические виды, но они постепенно исчезают. В лесу много магнолий, орхидей и лавровых деревьев. Здесь же огромные рододендроны с большими белыми цветами. Одна из характерных черт лесов этой зоны — обилие мхов и лишайников; почва, стволы и ветви деревьев покрыты мхами; лишайники свешиваются с ветвей длинными гирляндами.
Выше 3000 м в лесах господствуют хвойные породы — гималайские пихты, ель и лиственница. Большие пространства заняты густыми зарослями бамбука, иногда сильно углубляющимися в умеренную зону. Из кустарников здесь наиболее многочисленны смородина, шиповник, можжевельник, барбарис и рододендроны.
Расположенная выше высокогорная область представляет царство цветковых (до 380 видов). Лишь в нижней части ее есть древесная растительность, которой заканчивается лесная умеренная зона. По мере подъема к высокогорным лугам деревья становятся все ниже и реже. Затем они начинают совсем исчезать, и в луговую зону изредка вклиниваются лишь карликовые березки да рододендроны. На известной высоте исчезают и они. Выше начинается безраздельное царство цветов с преобладанием примул. Здесь же распространены горечавки, типчак и другие травы.
Луга продолжаются обычно до высоты 4800—5000 м, но наивысший предел их распространения отмечался и на более значительных высотах. До высоты 5580 м встречается типчак, до высоты 6100 м находили эдельвейсы, а отдельных представителей цветковых встречали до высоты 6200 м.
В Западных Гималаях граница тропической зоны на 300—400 м ниже, чем в Восточных. Наиболее типичны здесь гранатовое дерево и олеандр.
Умеренная зона также спускается ниже на 300—400 м. Растительность предгорий более сухолюбива. Здесь растут акация, вечнозеленый дуб, а в более влажных местах — бамбук, пальма и в подлеске — олеандр. А выше царство хвойных с широким распространением деодара (гималайский кедр), сосны длиннохвойной и македонской голубой сосны. Наибольших высот достигает распространение дуба (до 3500 м). К востоку, с углублением в горы и значительным увеличением высоты растительность резко меняется. Здесь преобладают тополь, осина, клен, чинар, ясень, сосна, а подлесок из ломоноса, жимолости, шиповника, боярышника, барбариса и облепихи.
По разнообразию видов горные луга Западных Гималаев значительно богаче, чем луга Восточных Гималаев. Они представляют собой прекрасные пастбища. В остальном растительный мир Западных Гималаев близок к флоре Центральных Гималаев. Но он скромнее, менее ярок.
В отдельных внутренних районах, расположенных среди Гималайских хребтов, где климат более суровый, чем на южных склонах, растительность все же значительно богаче, чем на северных склонах.
В Кашмире климат теплый и весьма благоприятный в сельскохозяйственном отношении. Здесь возделываются рис, чай и другие теплолюбивые культуры. Весна в этом районе обычно сопровождается ветрами и дождями. Небо летом всегда чистое; бывают редкие, но сильные и непродолжительные дожди. Зима снежная, но почти безветренная и очень теплая. Годовых осадков примерно 1000 мм в год.
Климат северных склонов сухой и суровый. В Читрале и Гильгите резко выражена смена ночных и дневных температур. Часты сильные ветры. В Читрале выпадает в среднем 391 мм осадков в год, а в Гильгите — лишь до 125 мм.
В Ладаке еще суше, а перепад температур более резок. Даже днем разница в температурах поразительна — в тени замерзает вода, а на солнце невозможно находиться в теплой одежде. Лето в горно-пустынном Ладаке теплое, но осадков очень мало (до 80 мм). Растительность весьма скудная. Только в северо-западной части этой области климат несколько смягчается. Здесь часто встречаются луга и даже в отдельных местах произрастают деодаровые и сосновые леса. Осадков выпадает вчетверо больше, чем в пустынном Ладаке.
Растительность на северных, тибетских склонах исключительно бедна. Лесов здесь нет, только вдоль рек можно видеть редкую древовидную растительность. Кустарники имеют большее распространение, но они низкорослы и однообразны. Трав немного, они тоже однообразны, не ярки. Поэтому северные склоны носят характер однотонной полупустыни.
Животный мир Индии, так же как и растительный, богат и разнообразен. Но животные расселены, особенно в горной зоне[16], весьма неравномерно. Фауна этой области особенно отличается от животного мира всей остальной территории Индии.
В долинах Ганга и Брахмапутры и в предгорьях Гималаев достаточно широко распространены обезьяны, тигры, дикие слоны, носороги, леопарды (полосатый, пятнистый, дымчатый и черный), волки, гиены, шакалы, медведи, лисы, дикие быки (гаур, гаял, бантанг), антилопы (горал, сирау, черная индийская), олени (мунтажак, болотный лень, самбар, белопятнистый олень, свиной олень), кабаны.
Среди пернатых много попугаев (15 видов), огромная птица носорог, птица буль-буль, яркие питты, много голубей. Богато представлена здесь порода куриных: павлин, фазан, банкивская курочка, красная курочка, серая лесная курочка. Из голенастых встречаются дрофа, журавль, цапля, колпик. Очень много хищных птиц — грифы, орлы, коршуны (хищных насчитывается 82 вида). Животные располагаются в долинах, в предгорьях, достигая нижней части горной зоны, где животный мир также богат. Здесь обитают некоторые виды обезьян — короткохвостая бенгальская, ассамская, хануман и лангур. Тигры редко попадают в горную зону, но леопарды распространены широко. Много здесь медведей, волков, лисиц, диких собак. Богато представлены и копытные — дикие бараны — тибетский, памирский (архар), уриал, бахрал и др. Не менее характерны для этой зоны дикие козлы — азиатский козел-ибекс (с запада до бассейна Сетледжа), синдский ибекс (во всех частях Гималаев), маркхор (винторогий козел) и тар. Антилопы в Гималаях относятся к видам — горал (в лесах умеренной зоны), сирау (на лугах той же зоны), четырехрогая антилопа (в предгорьях и в умеренной зоне), тибетская антилопа (в высокогорной зоне). Встречается здесь и грациозная тибетская газель.
В горных лесах умеренной зоны много оленей — кашмирский (или хангал), самбар (или джарау). На тибетских склонах достаточно широко распространены дикие овцы, меньше — яки, газели, антилопы.
Такое многообразие животного и растительного мира делает путешествие в Гималаях чрезвычайно заманчивым и увлекательным. Но вместе с тем ограниченность относительно доступных путей через эту грандиозную горную систему делает такие путешествия чрезвычайно трудными, а потому и редкими.
Наиболее исследованы те части этой горной системы, по которым издавна существовали пути сообщения из Индии в Тибет.
Значительные высоты и сложность горного рельефа не помешали народам Индии и Тибета еще с давних пор проложить через них пути сообщения.
Еще в VII в. китайскими купцами были проложены пути в Индию через Непальские Гималаи. Были открыты пути и через Восточные Гималаи. Пользовались известностью пути по долине реки Сетледж (с обходом ряда теснин через соседние хребты) через перевал Шипки или путь через перевал Зоджи-ля из Кашмира в Тибет. Были и другие вполне проходимые пути. Но все же самым простым и известным путем была дорога через перевал Танг-ла, ведущая из долины Ганга в столицу Тибета город Лхасу. Этот путь, представлявший прежде собой вьючную тропу, в настоящее время имеет вид колесной дороги; он не утратил своего значения до наших дней[17].
Казалось бы, наиболее надежными путями через хребты Гималаев являются ущелья прорезающих их рек. Но они непригодны для прокладки путей. Эти ущелья узки, а склоны их почти отвесны. Поэтому большинство дорог проходит, минуя ущелья рек, по более удобным склонам хребтов. Важность путей через Гималаи подчеркивается и тем, что английское правительство, несмотря на вполне очевидные и большие трудности, принимало решение в 1936 г. о строительстве железной дороги через Гималайские хребты. Но этого намерения оно так и не выполнило.
Особенности данной горной системы значительно затрудняли проникновение альпинистов в глубь горной системы. Они были вынуждены организовывать громоздкие экспедиции и тратить значительное время только на то, чтобы добраться до района восхождения и на месяцы отрываться от баз снабжения.
Все это серьезно ограничивает возможности развития альпинизма в Гималаях. Но главным препятствием на пути к освоению этой горной системы являлось то, что для восхождений приезжали иностранные альпинисты, а представители индийского и тибетского народа работали на них в качестве носильщиков. Правда, это были необычные носильщики. Они с тяжелыми грузами доходили с альпинистами до больших высот, покоряли мощные вершины: Тенсинг Норки (Джомолунгма), Гиальцен Нурбу (Макалу), Пасанг Дава лама (Чо-Уйю).
В отношении альпинизма Гималаи являлись и являются районом мировых проблем. И в дальнейшем можно ожидать широкого развития альпинистских восхождений, особенно тогда, когда с ростом благосостояния и дальнейшего культурного развития населения этих районов, освободившегося от гнета и бесправия, так же как в наши дни добились свободы народы Тибета, сами народы Индии не в качестве носильщиков и рабов, а в качестве равноправных граждан своей страны будут успешно побеждать гигантские вершины своих родных гор.
В дело исследования высочайших горных систем мира вложено много усилий как со стороны альпинистов различных стран, так и жителей Тибета, Непала, Балтистана, Кашмира и других районов. Их трудом обеспечивалась возможность проведения всех экспедиций. В приводимых ниже описаниях восхождений на восьмитысячники показываются как условия проведения, так и все трудности штурма высочайших вершин мира, а также роль местных жителей в успешном осуществлении этих экспедиций.
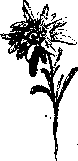
II. ПОБЕДА НАД ПЕРВЫМ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОМ
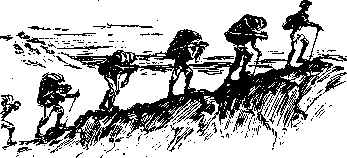
ВКЛАД ФРАНЦУЗСКИХ ВЫСОТНИКОВ
На меньших высотах влияние высоких дневных температур оказывается еще сильнее. Так, во-первых, там происходит очень быстрый процесс фирнизации снега и дальнейшее превращение фирна в лед. Во-вторых, на меньших высотах быстро происходит процесс испарения снега с поверхности, что, особенно в некоторых районах (Ладак), обусловливает недолговечность снежного покрова, образовавшегося от выпадения снега в долинах и на нижних склонах (2—3 дня).
И третья особенность заключается в том, что ледники почти всегда открыты и на их поверхности почти совершенно нет снега и фирна. Лишь в фирновых бассейнах питания ледников могут быть значительные скопления снега и фирна. Но их поверхность быстро уплотняется, и передвижение людей по такой поверхности не представляет больших трудностей. Только в периоды снегопадов горные склоны покрываются значительным слоем сухого снега, который удерживается короткое время после снегопада, а затем или сходит в виде лавин, или уплотняется под действием высоких дневных температур, или переносится сильными ветрами в углубленные части ледника или склона.
Вероятно, в связи с условиями образования и своеобразным режимом лед гималайских ледников обладает большой пластичностью. На крутых перегибах ложа основных потоков ледников трещин бывает очень мало. Там, где в других горных районах обычно образуются ледопады или большое количество трещин, на гималайских ледниках имеются, как правило, редкие трещины, и они не достигают больших размеров. Лишь иногда при слиянии двух ледников, протекающих по склонам различной крутизны, или при больших сжатиях ложа, а также на крутых изгибах ледников встречается значительная расчлененность ледовых масс.
Эта особенность гималайских ледников весьма характерна для северных склонов горной системы. На южных склонах достаточно часто встречаются сильно расчлененные ледники (Кхумбу, Даулагири, Ракиот и др.). Подобное состояние в значительной степени объясняется крутым Падением их Ложа, а в ряде случаев сильным сжатием его скальными выступами отрогов хребта.
Лед гималайских ледников не только пластичнее, чем на ледниках других горных районов, он также плотнее и имеет большую вязкость. Скорость движения ледников здесь значительно выше, чем на Кавказе или в Альпах.
В этом горном районе в зонах соприкосновения снега или льда со скалами таяние происходит весьма интенсивно. В результате этого между ледником и скалами образуются своеобразные «коридоры» до нескольких метров ширины, которые в некоторых случаях могут быть использованы для передвижения на значительном их протяжении. Все это особенно характерно для ледников района Кангченджунги.
Таким образом, высокогорная область Гималаев представляет собой мощные скальные хребты, вздымающиеся до высот 8000 м и более. Эти хребты то ослепительно белые от покрывающих их снегов, то мрачные и темные от обнаженных скал. А ниже снеговой линии гигантскими языками спускаются мощные ледники, глубоко врезаясь в зеленое царство высокогорных лугов или лесов на южных склонах Гималаев или в монотонно-серые склоны северной их стороны, покрытые многочисленными серыми осыпями и почти такой же серой бедной травянистой растительностью.
Климатические особенности Индии определяют также растительный и животный мир различных участков как всей страны, так и горных областей Гималаев. Известно, что по богатству и разнообразию растительности Индия занимает одно из первых мест в мире. Здесь насчитывается свыше 21 тысячи видов растительности, из которых около 17 тысяч видов цветковых. Однако не на всем протяжении Гималаев и не на всех высотах их склонов, как это и следовало бы ожидать, растительность одинакова. Она зависит от высоты местности над уровнем моря и ориентировки склонов по отношению к странам света.
Наиболее богата растительность Восточных Гималаев (включая Сикким). Только в Сиккиме насчитывается около 4000 видов цветковых и до 250 видов папоротников, из которых 8 видов древовидных. Здесь отчетливо выражена вертикальная зональность — тропическая зона расположена до высоты 2000 м, далее — до 3750 м располагается умеренная зона, выше которой вплоть до снеговой линии простираются высокогорные луга.
Часто заболоченные подножья Восточных Гималаев покрыты густыми лиственными лесами, из крупных (высотой до 40 м и до 2 м в обхвате) деревьев, называемых сал. Такие леса носят местное название «тераи». Они состоят не только из саловых деревьев. Здесь произрастают многие тропические виды — веерные пальмы, манговые деревья, бамбук, банан и кокосовые пальмы. Обычно деревья перевиты лианами, а подлесок, состоящий из различных кустарников, густо проросший высокими травами, делает такие леса труднопроходимыми.
С подъемом заболоченность уменьшается, а в связи с этим изменяется и характер растительности. Наряду с названными породами появляются мыльное дерево, мимоза, магнолия и конский каштан. Количество лиан здесь резко увеличивается. Они, как длинные и толстые канаты, то вьются вокруг стволов деревьев, то перебрасываются с одного дерева на другое. Стволы лиан увиты орхидеями различных видов (в Сиккиме, например, насчитывается 440 видов их). Стволы деревьев обвиваются здесь также диким виноградом и диким перцем. Пальм становится все меньше. Наиболее характерна для верхней части тропической зоны лазающая пальма (ротанг) с тонким, но очень длинным стволом (до 100 м). Во влажных затененных ущельях в большом количестве растут бананы, апельсиновые и лимонные деревья.
Еще выше, при переходе к умеренной зоне в лесах начинают появляться дубы с вечнозеленой листвой и древовидные папоротники. Тропическая зона распространяется здесь до высоты 2000 м, чему способствует не только тепло, но и большая влажность воздуха.
Умеренная зона, располагающаяся выше, начинается лиственными лесами из дуба, каштана, березы, вяза, клена, вишни, черемухи и яблони. Среди них до некоторой высоты еще встречаются тропические виды, но они постепенно исчезают. В лесу много магнолий, орхидей и лавровых деревьев. Здесь же огромные рододендроны с большими белыми цветами. Одна из характерных черт лесов этой зоны — обилие мхов и лишайников; почва, стволы и ветви деревьев покрыты мхами; лишайники свешиваются с ветвей длинными гирляндами.
Выше 3000 м в лесах господствуют хвойные породы — гималайские пихты, ель и лиственница. Большие пространства заняты густыми зарослями бамбука, иногда сильно углубляющимися в умеренную зону. Из кустарников здесь наиболее многочисленны смородина, шиповник, можжевельник, барбарис и рододендроны.
Расположенная выше высокогорная область представляет царство цветковых (до 380 видов). Лишь в нижней части ее есть древесная растительность, которой заканчивается лесная умеренная зона. По мере подъема к высокогорным лугам деревья становятся все ниже и реже. Затем они начинают совсем исчезать, и в луговую зону изредка вклиниваются лишь карликовые березки да рододендроны. На известной высоте исчезают и они. Выше начинается безраздельное царство цветов с преобладанием примул. Здесь же распространены горечавки, типчак и другие травы.
Луга продолжаются обычно до высоты 4800—5000 м, но наивысший предел их распространения отмечался и на более значительных высотах. До высоты 5580 м встречается типчак, до высоты 6100 м находили эдельвейсы, а отдельных представителей цветковых встречали до высоты 6200 м.
В Западных Гималаях граница тропической зоны на 300—400 м ниже, чем в Восточных. Наиболее типичны здесь гранатовое дерево и олеандр.
Умеренная зона также спускается ниже на 300—400 м. Растительность предгорий более сухолюбива. Здесь растут акация, вечнозеленый дуб, а в более влажных местах — бамбук, пальма и в подлеске — олеандр. А выше царство хвойных с широким распространением деодара (гималайский кедр), сосны длиннохвойной и македонской голубой сосны. Наибольших высот достигает распространение дуба (до 3500 м). К востоку, с углублением в горы и значительным увеличением высоты растительность резко меняется. Здесь преобладают тополь, осина, клен, чинар, ясень, сосна, а подлесок из ломоноса, жимолости, шиповника, боярышника, барбариса и облепихи.
По разнообразию видов горные луга Западных Гималаев значительно богаче, чем луга Восточных Гималаев. Они представляют собой прекрасные пастбища. В остальном растительный мир Западных Гималаев близок к флоре Центральных Гималаев. Но он скромнее, менее ярок.
В отдельных внутренних районах, расположенных среди Гималайских хребтов, где климат более суровый, чем на южных склонах, растительность все же значительно богаче, чем на северных склонах.
В Кашмире климат теплый и весьма благоприятный в сельскохозяйственном отношении. Здесь возделываются рис, чай и другие теплолюбивые культуры. Весна в этом районе обычно сопровождается ветрами и дождями. Небо летом всегда чистое; бывают редкие, но сильные и непродолжительные дожди. Зима снежная, но почти безветренная и очень теплая. Годовых осадков примерно 1000 мм в год.
Климат северных склонов сухой и суровый. В Читрале и Гильгите резко выражена смена ночных и дневных температур. Часты сильные ветры. В Читрале выпадает в среднем 391 мм осадков в год, а в Гильгите — лишь до 125 мм.
В Ладаке еще суше, а перепад температур более резок. Даже днем разница в температурах поразительна — в тени замерзает вода, а на солнце невозможно находиться в теплой одежде. Лето в горно-пустынном Ладаке теплое, но осадков очень мало (до 80 мм). Растительность весьма скудная. Только в северо-западной части этой области климат несколько смягчается. Здесь часто встречаются луга и даже в отдельных местах произрастают деодаровые и сосновые леса. Осадков выпадает вчетверо больше, чем в пустынном Ладаке.
Растительность на северных, тибетских склонах исключительно бедна. Лесов здесь нет, только вдоль рек можно видеть редкую древовидную растительность. Кустарники имеют большее распространение, но они низкорослы и однообразны. Трав немного, они тоже однообразны, не ярки. Поэтому северные склоны носят характер однотонной полупустыни.
Животный мир Индии, так же как и растительный, богат и разнообразен. Но животные расселены, особенно в горной зоне[16], весьма неравномерно. Фауна этой области особенно отличается от животного мира всей остальной территории Индии.
В долинах Ганга и Брахмапутры и в предгорьях Гималаев достаточно широко распространены обезьяны, тигры, дикие слоны, носороги, леопарды (полосатый, пятнистый, дымчатый и черный), волки, гиены, шакалы, медведи, лисы, дикие быки (гаур, гаял, бантанг), антилопы (горал, сирау, черная индийская), олени (мунтажак, болотный лень, самбар, белопятнистый олень, свиной олень), кабаны.
Среди пернатых много попугаев (15 видов), огромная птица носорог, птица буль-буль, яркие питты, много голубей. Богато представлена здесь порода куриных: павлин, фазан, банкивская курочка, красная курочка, серая лесная курочка. Из голенастых встречаются дрофа, журавль, цапля, колпик. Очень много хищных птиц — грифы, орлы, коршуны (хищных насчитывается 82 вида). Животные располагаются в долинах, в предгорьях, достигая нижней части горной зоны, где животный мир также богат. Здесь обитают некоторые виды обезьян — короткохвостая бенгальская, ассамская, хануман и лангур. Тигры редко попадают в горную зону, но леопарды распространены широко. Много здесь медведей, волков, лисиц, диких собак. Богато представлены и копытные — дикие бараны — тибетский, памирский (архар), уриал, бахрал и др. Не менее характерны для этой зоны дикие козлы — азиатский козел-ибекс (с запада до бассейна Сетледжа), синдский ибекс (во всех частях Гималаев), маркхор (винторогий козел) и тар. Антилопы в Гималаях относятся к видам — горал (в лесах умеренной зоны), сирау (на лугах той же зоны), четырехрогая антилопа (в предгорьях и в умеренной зоне), тибетская антилопа (в высокогорной зоне). Встречается здесь и грациозная тибетская газель.
В горных лесах умеренной зоны много оленей — кашмирский (или хангал), самбар (или джарау). На тибетских склонах достаточно широко распространены дикие овцы, меньше — яки, газели, антилопы.
Такое многообразие животного и растительного мира делает путешествие в Гималаях чрезвычайно заманчивым и увлекательным. Но вместе с тем ограниченность относительно доступных путей через эту грандиозную горную систему делает такие путешествия чрезвычайно трудными, а потому и редкими.
Наиболее исследованы те части этой горной системы, по которым издавна существовали пути сообщения из Индии в Тибет.
Значительные высоты и сложность горного рельефа не помешали народам Индии и Тибета еще с давних пор проложить через них пути сообщения.
Еще в VII в. китайскими купцами были проложены пути в Индию через Непальские Гималаи. Были открыты пути и через Восточные Гималаи. Пользовались известностью пути по долине реки Сетледж (с обходом ряда теснин через соседние хребты) через перевал Шипки или путь через перевал Зоджи-ля из Кашмира в Тибет. Были и другие вполне проходимые пути. Но все же самым простым и известным путем была дорога через перевал Танг-ла, ведущая из долины Ганга в столицу Тибета город Лхасу. Этот путь, представлявший прежде собой вьючную тропу, в настоящее время имеет вид колесной дороги; он не утратил своего значения до наших дней[17].
Казалось бы, наиболее надежными путями через хребты Гималаев являются ущелья прорезающих их рек. Но они непригодны для прокладки путей. Эти ущелья узки, а склоны их почти отвесны. Поэтому большинство дорог проходит, минуя ущелья рек, по более удобным склонам хребтов. Важность путей через Гималаи подчеркивается и тем, что английское правительство, несмотря на вполне очевидные и большие трудности, принимало решение в 1936 г. о строительстве железной дороги через Гималайские хребты. Но этого намерения оно так и не выполнило.
Особенности данной горной системы значительно затрудняли проникновение альпинистов в глубь горной системы. Они были вынуждены организовывать громоздкие экспедиции и тратить значительное время только на то, чтобы добраться до района восхождения и на месяцы отрываться от баз снабжения.
Все это серьезно ограничивает возможности развития альпинизма в Гималаях. Но главным препятствием на пути к освоению этой горной системы являлось то, что для восхождений приезжали иностранные альпинисты, а представители индийского и тибетского народа работали на них в качестве носильщиков. Правда, это были необычные носильщики. Они с тяжелыми грузами доходили с альпинистами до больших высот, покоряли мощные вершины: Тенсинг Норки (Джомолунгма), Гиальцен Нурбу (Макалу), Пасанг Дава лама (Чо-Уйю).
В отношении альпинизма Гималаи являлись и являются районом мировых проблем. И в дальнейшем можно ожидать широкого развития альпинистских восхождений, особенно тогда, когда с ростом благосостояния и дальнейшего культурного развития населения этих районов, освободившегося от гнета и бесправия, так же как в наши дни добились свободы народы Тибета, сами народы Индии не в качестве носильщиков и рабов, а в качестве равноправных граждан своей страны будут успешно побеждать гигантские вершины своих родных гор.
В дело исследования высочайших горных систем мира вложено много усилий как со стороны альпинистов различных стран, так и жителей Тибета, Непала, Балтистана, Кашмира и других районов. Их трудом обеспечивалась возможность проведения всех экспедиций. В приводимых ниже описаниях восхождений на восьмитысячники показываются как условия проведения, так и все трудности штурма высочайших вершин мира, а также роль местных жителей в успешном осуществлении этих экспедиций.
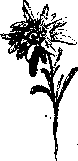
II. ПОБЕДА НАД ПЕРВЫМ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОМ
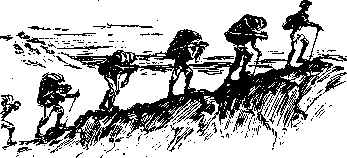
ВКЛАД ФРАНЦУЗСКИХ ВЫСОТНИКОВ
К 1950 г. борьба за восьмитысячники имела уже свою большую историюСсылки18]. От первых робких попыток восхождений на вершины подобной высоты прошло уже более ста лет. За эти годы альпинисты различных стран мира настойчиво стремились совершить восхождения на 8 восьмитысячников из четырнадцати известных. Особенно упорны были атаки на Джомолунгму, Кангченджунгу, Нанга-Парбат и Чогори (К2).
Французские альпинисты принимали в этой борьбе сравнительно небольшое участие, но именно они были первыми победителями вершины такой высоты.
Впервые альпинисты Франции попытались совершить восхождение на восьмитысячник в 1936 г. То была французская экспедиция в Каракорум с целью восхождения на один из восьмитысячников этой горной системы. Альпинисты, возглавляемые Сегоном, пытались достичь вершины Гидден-пика (8068 м) с востока. Однако продвижение было прекращено на высоте 7000 м.
Следовательно, их опыт в этом отношении сравнительно невелик. Но международный опыт восхождений на семитысячники и упорное стремление преодолеть восьмитысячники позволяли альпинистам к 1950 г. не только ставить такую задачу, но и надеяться на завоевание победы.
Хотя французские альпинисты не имели достаточного опыта высотных восхождений, но они имели значительное количество высококвалифицированных спортсменов, постоянно тренировавшихся в пределах Французских Альп. Кроме того, они смогли использовать богатый опыт высотных восхождений альпинистов Англии, Германии, Италии и Швейцарии.
Планируя гималайскую экспедицию, Французский альпинистский клуб несомненно учитывал все эти трудности. Большое внимание было обращено на изготовление специального снаряжения, выбор и заготовку продуктов питания, а также на предварительную тренировку личного состава экспедиции.
Как указывал в 1949 г. председатель Французского альпинистского клуба Люсьен Деви, выдвигая идею восхождения на восьмитысячник, основное затруднение составляет не отсутствие опыта подобных восхождений, а крайне слабая изученность и района восхождения и самого объекта. Никто еще не пытался взойти на избранную экспедицией вершину Даулагири, и ни одна вершина здесь не была взята альпинистами.
Все это несомненно усложняло задачи экспедиции и не могло не повлиять на ее исход.
Ввиду этих трудностей и серьезности задачи состав экспедиции подбирался чрезвычайно внимательно и серьезно. Так как Люсьен Деви не смог принять участие в экспедиции, ее начальником был утвержден секретарь Французского альпинистского клуба Морис Эрцог. Он же возглавил и штурмовую группу экспедиции, в которую вошли: Луи Лашеналь, Леонель Терри, Гастон Ребюффа, Марсель Шац и Жан Кузи.
Все это были сильные и опытные альпинисты. Сильнейшие альпинисты-проводники и инструкторы Луи Лашеналь и Леонель Терри в числе других выдающихся восхождений осуществили в очень сложных условиях штурм вершины Эйгер по ее северной стене.
Гастон Ребюффа также профессиональный проводник в Альпах и высококвалифицированный альпинист. В число его лучших восхождений входит подъем на Маттергорн по северной стене.
Жан Кузи и Марсель Шац также известны как выдающиеся французские альпинисты и отличные скалолазы.
В состав экспедиции входили Марсель Ихас — известный альпинист и киноработник, выполнявший в экспедиции обязанности кинооператора, и врач Жак Удо, который был также признанным во Франции альпинистом.
Все участники штурмовой группы экспедиции были (в возрасте от 25 до 31 года) зрелыми и полными сил спортсменами, способными добиваться высоких спортивных результатов. Только М. Ихасу было 43 года, а Ж. Удо 37 лет. Но их роль в экспедиции была вспомогательной, а следовательно, они не определяли спортивных возможностей экспедиции.
В то же время весьма характерно для состава экспедиции было и то, что только Ихас имел опыт высотных высотных восхождений в Гималаях. Остальные же участники восхождения были новичками в этом деле, что в значительной степени увеличивало предстоящие трудности.
Первое требование, которое было предъявлено к снаряжению, заключалось в обеспечении минимального веса. Это требование удалось выполнить благодаря использованию легких и прочных новейших материалов.
Экспедиция выбрала маленькие палатки из нейлона со складывающимися стойками из дюраля. Такие палатки имели двойные стенки и весили по 2 кг. Из нейлона были изготовлены и штормовые костюмы. Покрой их достаточно широк для того, чтобы можно было надевать их поверх теплой одежды. Были заготовлены также пуховые и меховые жилеты и меховые брюки с нейлоновым верхом.
Для обеспечения нормального отдыха при движении по маршруту были взяты пуховые спальные мешки из нейлона и надувные резиновые матрацы, а также специальные пуховые мешки для ног (для ночевок в высотных лагерях).
Рукавицы были тоже нейлоновые, пуховые. На ноги предполагалось надевать шерстяные чулки и ботинки с профилированной резиновой подметкой. Ботинки не были утеплены, но альпинисты, очевидно, считали такую обувь вполне подходящей. У всех альпинистов были станковые рюкзаки. Веревки также нейлоновые: основная веревка диаметром 8 и 9 мм, вспомогательная — 5 и 5,5 мм.
Участники восхождения были снабжены облегченными кошками со специальным приспособлением для быстрого снятия их, ледовыми молотками и специальными якореобразными крючьями, которые забиваются в лед для прикрепления к ним перильных веревок.
Для участников штурмовой группы были предусмотрены кислородные приборы и малогабаритные радиостанции. Для приготовления пищи служили бензиновые кухни и герметически закрывающиеся кастрюли.
Большое внимание было уделено проверке качества снаряжения, для чего проводилась специальная поездка в Альпы. Здесь в зимних условиях всесторонне исследовались выбранные образцы и особенно кислородные приборы. Эти испытания помогли выявить недочеты в снаряжении, которые в дальнейшем были устранены.
Для нижних лагерей взяли большие палатки. Они освещались электричеством от электроагрегата. В этих лагерях имелись даже большие пуховые одеяла.
Таким образом, снаряжением и оборудованием экспедиция была обеспечена достаточно.
Вопросы питания альпинистов были также хорошо продуманы. Большой выбор высококалорийных и качественных продуктов подбирался с учетом особенностей питания на различных высотах. В целях лучшей организации питания все продовольствие было рассортировано и упаковано в ящики. Каждый из этих ящиков имел надписи «долина» или «высота» и был укомплектован такими продуктами, которые должны расходоваться на подходах к вершине или на высотных этапах восхождения.
Усилиями доктора Удо имущество экспедиции было пополнено значительным количеством медикаментов. Общий вес снаряжения и продуктов питания экспедиции был невелик, что выгодно отличало ее от всех предыдущих.
Груз экспедиции составлял всего три тонны, а вместе с вспомогательным оборудованием — шесть тонн, в то время как у других гималайских экспедиций он достигал 13—15 т и более (экспедиция на Нанга-Парбат 1934 г. вышла из Сринагара с грузом более чем в 15 т, экспедиция на Джомолунгму в 1924 г. имела при выходе из Дарджилинга груз весом 18—20 т). Гималайский комитет и руководство экспедиции справедливо считали, что минимальный вес груза потребует меньшего числа носильщиков, что в свою очередь сделает экспедицию более подвижной и маневренной, а следовательно, увеличит шансы на успех.
К марту 1950 г. сборы были закончены.
Руководство Французского альпинистского клуба, учитывая малую изученность района и отсутствие опыта восхождений, предупреждало участников о трудностях выполнения задачи. Даже на последнем заседании Гималайского комитета, специально созданного клубом для проведения этой экспедиции, его председатель Люсьен Деви, подчеркивая трудности экспедиции в Гималаи, говорил, что Гималаи по своим масштабам и трудности передвижения заслуживают названия «третьего полюса»Ссылки19]. 22 экспедиции различных стран, по словам Деви, предпринимали попытки восхождений на восьмитысячники в полностью или частично исследованных районах. Направляясь в неизведанный район, только с прибытием в Такуха (конечный пункт каравана экспедиции) можно ознакомиться с объектами.
Французские альпинисты принимали в этой борьбе сравнительно небольшое участие, но именно они были первыми победителями вершины такой высоты.
Впервые альпинисты Франции попытались совершить восхождение на восьмитысячник в 1936 г. То была французская экспедиция в Каракорум с целью восхождения на один из восьмитысячников этой горной системы. Альпинисты, возглавляемые Сегоном, пытались достичь вершины Гидден-пика (8068 м) с востока. Однако продвижение было прекращено на высоте 7000 м.
Следовательно, их опыт в этом отношении сравнительно невелик. Но международный опыт восхождений на семитысячники и упорное стремление преодолеть восьмитысячники позволяли альпинистам к 1950 г. не только ставить такую задачу, но и надеяться на завоевание победы.
Хотя французские альпинисты не имели достаточного опыта высотных восхождений, но они имели значительное количество высококвалифицированных спортсменов, постоянно тренировавшихся в пределах Французских Альп. Кроме того, они смогли использовать богатый опыт высотных восхождений альпинистов Англии, Германии, Италии и Швейцарии.
Планируя гималайскую экспедицию, Французский альпинистский клуб несомненно учитывал все эти трудности. Большое внимание было обращено на изготовление специального снаряжения, выбор и заготовку продуктов питания, а также на предварительную тренировку личного состава экспедиции.
Как указывал в 1949 г. председатель Французского альпинистского клуба Люсьен Деви, выдвигая идею восхождения на восьмитысячник, основное затруднение составляет не отсутствие опыта подобных восхождений, а крайне слабая изученность и района восхождения и самого объекта. Никто еще не пытался взойти на избранную экспедицией вершину Даулагири, и ни одна вершина здесь не была взята альпинистами.
Все это несомненно усложняло задачи экспедиции и не могло не повлиять на ее исход.
Ввиду этих трудностей и серьезности задачи состав экспедиции подбирался чрезвычайно внимательно и серьезно. Так как Люсьен Деви не смог принять участие в экспедиции, ее начальником был утвержден секретарь Французского альпинистского клуба Морис Эрцог. Он же возглавил и штурмовую группу экспедиции, в которую вошли: Луи Лашеналь, Леонель Терри, Гастон Ребюффа, Марсель Шац и Жан Кузи.
Все это были сильные и опытные альпинисты. Сильнейшие альпинисты-проводники и инструкторы Луи Лашеналь и Леонель Терри в числе других выдающихся восхождений осуществили в очень сложных условиях штурм вершины Эйгер по ее северной стене.
Гастон Ребюффа также профессиональный проводник в Альпах и высококвалифицированный альпинист. В число его лучших восхождений входит подъем на Маттергорн по северной стене.
Жан Кузи и Марсель Шац также известны как выдающиеся французские альпинисты и отличные скалолазы.
В состав экспедиции входили Марсель Ихас — известный альпинист и киноработник, выполнявший в экспедиции обязанности кинооператора, и врач Жак Удо, который был также признанным во Франции альпинистом.
Все участники штурмовой группы экспедиции были (в возрасте от 25 до 31 года) зрелыми и полными сил спортсменами, способными добиваться высоких спортивных результатов. Только М. Ихасу было 43 года, а Ж. Удо 37 лет. Но их роль в экспедиции была вспомогательной, а следовательно, они не определяли спортивных возможностей экспедиции.
В то же время весьма характерно для состава экспедиции было и то, что только Ихас имел опыт высотных высотных восхождений в Гималаях. Остальные же участники восхождения были новичками в этом деле, что в значительной степени увеличивало предстоящие трудности.
Первое требование, которое было предъявлено к снаряжению, заключалось в обеспечении минимального веса. Это требование удалось выполнить благодаря использованию легких и прочных новейших материалов.
Экспедиция выбрала маленькие палатки из нейлона со складывающимися стойками из дюраля. Такие палатки имели двойные стенки и весили по 2 кг. Из нейлона были изготовлены и штормовые костюмы. Покрой их достаточно широк для того, чтобы можно было надевать их поверх теплой одежды. Были заготовлены также пуховые и меховые жилеты и меховые брюки с нейлоновым верхом.
Для обеспечения нормального отдыха при движении по маршруту были взяты пуховые спальные мешки из нейлона и надувные резиновые матрацы, а также специальные пуховые мешки для ног (для ночевок в высотных лагерях).
Рукавицы были тоже нейлоновые, пуховые. На ноги предполагалось надевать шерстяные чулки и ботинки с профилированной резиновой подметкой. Ботинки не были утеплены, но альпинисты, очевидно, считали такую обувь вполне подходящей. У всех альпинистов были станковые рюкзаки. Веревки также нейлоновые: основная веревка диаметром 8 и 9 мм, вспомогательная — 5 и 5,5 мм.
Участники восхождения были снабжены облегченными кошками со специальным приспособлением для быстрого снятия их, ледовыми молотками и специальными якореобразными крючьями, которые забиваются в лед для прикрепления к ним перильных веревок.
Для участников штурмовой группы были предусмотрены кислородные приборы и малогабаритные радиостанции. Для приготовления пищи служили бензиновые кухни и герметически закрывающиеся кастрюли.
Большое внимание было уделено проверке качества снаряжения, для чего проводилась специальная поездка в Альпы. Здесь в зимних условиях всесторонне исследовались выбранные образцы и особенно кислородные приборы. Эти испытания помогли выявить недочеты в снаряжении, которые в дальнейшем были устранены.
Для нижних лагерей взяли большие палатки. Они освещались электричеством от электроагрегата. В этих лагерях имелись даже большие пуховые одеяла.
Таким образом, снаряжением и оборудованием экспедиция была обеспечена достаточно.
Вопросы питания альпинистов были также хорошо продуманы. Большой выбор высококалорийных и качественных продуктов подбирался с учетом особенностей питания на различных высотах. В целях лучшей организации питания все продовольствие было рассортировано и упаковано в ящики. Каждый из этих ящиков имел надписи «долина» или «высота» и был укомплектован такими продуктами, которые должны расходоваться на подходах к вершине или на высотных этапах восхождения.
Усилиями доктора Удо имущество экспедиции было пополнено значительным количеством медикаментов. Общий вес снаряжения и продуктов питания экспедиции был невелик, что выгодно отличало ее от всех предыдущих.
Груз экспедиции составлял всего три тонны, а вместе с вспомогательным оборудованием — шесть тонн, в то время как у других гималайских экспедиций он достигал 13—15 т и более (экспедиция на Нанга-Парбат 1934 г. вышла из Сринагара с грузом более чем в 15 т, экспедиция на Джомолунгму в 1924 г. имела при выходе из Дарджилинга груз весом 18—20 т). Гималайский комитет и руководство экспедиции справедливо считали, что минимальный вес груза потребует меньшего числа носильщиков, что в свою очередь сделает экспедицию более подвижной и маневренной, а следовательно, увеличит шансы на успех.
К марту 1950 г. сборы были закончены.
Руководство Французского альпинистского клуба, учитывая малую изученность района и отсутствие опыта восхождений, предупреждало участников о трудностях выполнения задачи. Даже на последнем заседании Гималайского комитета, специально созданного клубом для проведения этой экспедиции, его председатель Люсьен Деви, подчеркивая трудности экспедиции в Гималаи, говорил, что Гималаи по своим масштабам и трудности передвижения заслуживают названия «третьего полюса»Ссылки19]. 22 экспедиции различных стран, по словам Деви, предпринимали попытки восхождений на восьмитысячники в полностью или частично исследованных районах. Направляясь в неизведанный район, только с прибытием в Такуха (конечный пункт каравана экспедиции) можно ознакомиться с объектами.
