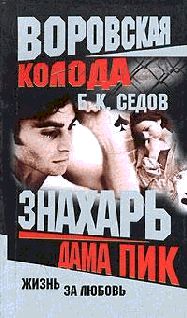
Б. К. Седов
Дама Пик (Роман)
Б. К. Седов
Дама Пик (Роман)
Пролог
Я не знаю, когда было построено это мрачное кирпичное здание.
В плане оно похоже на крест, вроде того, который красовался когда-то на башне «Тигра», стоявшего на Пулковских высотах. Пушка танка была направлена на Город и угрожала ему, но Город не желал быть покоренным и не стал им.
Я не помню, кто написал стихотворение, несколько строчек из которого нелепо врезались в память с самого детства:
Каменщик, каменщик в фартуке белом… Эй, не мешай нам, мы заняты делом - Строим мы, строим тюрьму.
Помню только, что написано оно было очень давно. Примерно в позапрошлом веке, а может быть, и еще раньше. Хотя, если хорошенько подумать, что для истории каких-то двести-триста лет? Да просто ничто.
Маленький пыльный смерч.
Миг.
А этот поэт, имени которого я даже не знаю, он ведь тоже давно превратился в пыль… Или червяки его съели… Да и какая разница!
Гораздо интереснее было бы узнать, о какой именно тюрьме он писал.
Может быть, и об этой. Все поэты жили, или, во всяком случае, старались жить в Петербурге, потому что он был да и остается культурной столицей России. А если кто не согласен, что вся культура России именно здесь, - тогда пусть чешет в эту самую Москву и попробует окультуриться там.
Желаю успеха.
Ну, поэт - он на то поэт и есть, чтобы писать о том, что видит, вроде какого-нибудь узбекского акына, который, обкурившись гашиша до того, что ему уже мерещатся джинны и ифриты, едет на пархатом ишаке по замусоренной пустыне и поет о том, что видит.
Он, понятное дело, безграмотен, университетов и всяких там лицеев не кончал, и поэтому стихи у него - соответствующие. Про верблюжью колючку, на которую он случайно сел, отойдя от дороги по большой нужде, про то, как он сегодня удачно обманул на базаре простоватого покупателя, всучив ему лавровишню вместо лаврового листа, про всякое такое другое разное, ну и, конечно же, про свою зазнобу, у которой косичек, что долгов у картежника.
Видел я этих девушек. И не только видел.
Могу с уверенностью сказать, что лет в тринадцать они еще ничего, а потом начинают стремительно полнеть, обзаводиться черными усами и к тридцати годам превращаются в толстопятых увесистых теток. Да еще и крикливых к тому же. В общем, узбечки не для меня.
А вот для этого самого поэта, который пишет… Тьфу, что я говорю - да ничего он не пишет! Он и писать-то не умеет.
Так вот для этого стихоплета, едущего на спящем ишаке и тянущего уже восемнадцатый косяк за этот день, для него какая-нибудь толстозадая Гюльчатай или там Альгуль - в самый раз. Вот и флаг ему в руки.
О чем это я…
Да!
Поэты, говорю, пишут о том, что видят.
Пушкин, например, видел Петра творенье, джентльменов всяких дворянских, столичную культуру, прекрасных дам, статуи в Царском Селе и прочий возвышающий душу инвентарь. Вот и писал стихи о высоком и прекрасном.
А другие поэты, не обремененные талантом создавать бессмертные творения, неожиданные и удивительные, как некоторые стороны жизни, были этим весьма расстроены и от расстройства этого принимались бичевать социальные язвы, искать везде несправедливость и воспевать ее.
Несправедливости-то все эти стишки по барабану, она как была, так и есть, никуда не делась, зато эти поэты прославились как вскрыватели общественных язв и политических трупов.
Трупов…
Когда я работал реаниматологом…
О, Господи, как же давно это было!
Это ведь даже не просто давно, а в какой-то другой жизни, в другой вселенной, да и было ли это вообще? Может, и было, но тот, с кем все это происходило, исчез с морщинистого лица Земли, а вместо него ходит-бродит какой-то Знахарь, неизвестно откуда взявшийся, палит из пистолетов, таскает мешками невообразимые богатства, в общем, тоже интересный тип. Для поэта - в самый раз.
Когда я работал реаниматологом, мой друг, патологоанатом Мишка Шукис, вспарывая брюшину очередного покойничка, говаривал:
- Ну-с, посмотрим, что за общественные язвы найдутся у этого политического трупа!
Ну, ладно, поэты - хрен с ними.
А вот каменщик этот, который строил тюрьму, да еще и в двух одинаковых экземплярах, вот с ним бы я повидался. И я спросил бы его - что же ты, сука, строишь? Ты вроде как честно деньги зарабатываешь? А о том, что здесь будут сидеть люди, причем по большей части ни в чем не виноватые, ты подумал? Ну и потом объяснил бы я ему кое-что на самом понятном языке. Без слов.
Да ведь он тоже давно уже помер, истлел, и на его костях выросла какая-нибудь березка. На кладбищах обычно хорошие деревья растут. Большие такие, красивые… И в этом нет ничего удивительного. Удобрение качественное!
А что касается тюрьмы, то она и на самом деле добротно выстроена. Стоит уже лет двести и ничего с ней не делается. Ну, там, водопровод сгниет, проводка сгорит, так ведь это к тому каменщику никак не относится. Он свое дело на совесть сделал. А о том, что лично мне известно, так это уже воры наши советские распоряжались. Причем не те воры, которые на свой страх и риск лопатники у граждан тягают, а те, кто, загородившись беспредельными вооруженными отморозками, готовыми гасить собственный народ до последнего человечка, разворовали целую огромную страну.
Петр Первый таких на кол сажал.
Вот только Меншикова почему-то не тронул. Как-то раз зашел тут в камере разговор об этом, так Санька Скелет высказал интересное мнение. Петр Первый, говорит, этого Меншикова тянул помаленьку. Поэтому и не тронул. Любовь у них была, говорит. Не знаю, не знаю… А вообще, чем черт не шутит, может, так оно и было. Сам не видел, так что ничего не скажу. А то, что педики со времен сотворения мира существуют, - факт. Так что, может, и Петр Алексеевич Алексашку своего потягивал. А может, и Алексашка императору кожаный шприц по тухлой вене гонял. Не знаю…
Один из последних коммунистических паханов, когда совку уже кранты корячились, сказанул, что экономика должна быть экономной. Понятно, блин! Политика должна быть политичной, вор - вороватым, а говно - говнистым.
Здорово завернул!
Так вот, наши начальнички кремлевские, и пониже, и еще пониже, и еще, аж до самого распоганого начальника ЖЭКа, приняли этот лозунг близко к сердцу и поняли его всей душой и всем своим убогим мозжечком.
Много чего они наэкономили, а кроме всего прочего, - и посадочные места в «Крестах». Так что в камере на двадцать рыл сидит нас семьдесят девять человечков плюс два мадагаскарских таракана в коробке из-под мобильного телефона Nokia и еще одна белая крыса, которую все без исключения зэки любят и берегут, как зеницу ока, отдавая ей крошки самой вкусной бациллы.
Телефончик-то сам давно уже перекочевал к вертухаям, еще когда полгода назад закрутили гайки по самое некуда, а тараканы живут. Интересные такие твари! Здоровые, чуть ли не со «Сникерс» размером, и цветом, как палисандр, а пощекочешь ему пальцем бок, он шипит. И без крыльев.
В общем, имеется тут и живность, которая скрашивает зэкам однообразие тюремной жизни. Так что, как говорится, и в тюрьме люди живут. Правда, в гробу я видал такую жизнь, и если кому она нравится, а есть и такие, гадом буду, то это их личное несчастье. Или счастье. Это - как посмотреть.
- Слышь, Знахарь, - Педальный прервал мои невеселые размышления, перегнувшись через спинку трехъярусной койки, - тут бациллу прислали. Будешь яблочко?
Я вздохнул и ответил:
- Давай. Чего ж не съесть яблочко-то…
- Ага, - сказал Педальный и исчез.
С того самого дня, как меня повязали на набережной и привезли в «Кресты», прошло уже полторы недели.
Вообще - интересная история получается.
Меня молча привезли в тюрьму и молча посадили в камеру, набитую людьми, как папироса табаком. Я молча сел и даже не спросил ничего типа «за что повязали, волки позорные?» или «что шьешь, начальник?»
То есть вроде как все все понимают и молча играют в игру, правила которой известны обеим сторонам. А правила и на самом деле известны.
За мной тянется хвост подвигов, как за бредущим по полю парашютистом, забывшим отстегнуть парашют после приземления. И этот хвост не виден разве что слепому. И спрашивать у тех, кто меня посадил в камеру, за что? - просто себя не уважать. Задашь такой вопрос - так они смеяться будут. Я бы и сам посмеялся, но, похоже, тут не до смеха.
И покойников за моей спиной столько, будто я промчался на грузовике сквозь первомайскую демонстрацию.
Так что все как бы нормально. Лучше уж я помолчу.
Они тоже молчат, и это действует на нервы, но тут уж ничего не поделаешь. Козыри у них, ключики от камеры - тоже, так что наши не пляшут.
Пока не пляшут. А там - посмотрим.
Но тут есть интересный нюансик.
Сдается мне, что это не менты отличились, вычислив популярного одноглазого рецидивиста, и не федералы-педералы сняли с меня защитное заклинание после бесславной гибели генерала Губанова.
Не-е-ет…
Тут из другой щели сквознячком тянет.
А из какой именно, я примерно представляю. И чем это мне грозит - тоже.
Помнится, когда я в последний раз видел восставшего из мертвых Стилета, в его маленьких глазках мелькнуло какое-то странное выражение. И мелькнуло оно уже при нашем нелюбезном расставании.
Когда я перебрасывался с Дядей Пашей зловещими обещаниями, то, взглянув на Стилета, увидел, что он пристально смотрит на меня, соображая что-то свое. И теперь я понял, какие мысли рождались в его темной голове.
Три недели сроку, двадцать миллионов баксов - это все ерунда.
Никому это уже не нужно. У них и своих денег хватает.
На самом деле Стилет в ту самую минуту приговорил меня. Видимо, решил, что спокойнее ему будет жить не с деньгами, которые я то ли принесу, то ли нет, а без меня. То есть, чтобы меня нигде не было. Живого, естественно. Чтобы я не маячил на его горизонте, чтобы не дразнил его своим богатством, чтобы не провоцировал на конфликты, которые закончатся для него однозначно плохо. Он прекрасно понимал, что раз уж мы с ним теперь повязаны принадлежностью к одному и тому же обществу, то ужиться уже не сможем. И, как говорится, в живых останется только один. А кто именно - и дураку понятно. Вот он и решил меня опередить.
Да и Дядя Паша, наверное, понял, что дальше играть передо мной уральского добродушного увальня, владельца рубленых теремов и богатых телом девок, - уже не в масть.
И еще получается интересная вещь.
Меня повязали минут через десять после того, как я ушел с этого позорного сходняка. Значит…
Значит - опера были наготове и ждали сигнала. А от кого? Конечно же, от Стилета.
То есть, если бы я повел себя, как спокойный барашек, не полез бы в бутылку, схавал бы все, что они мне там заправляли, кивал и соглашался, да еще и принял бы хвоста в лице Лысогора, то им был бы сыгран отбой, и они поехали бы по домам или еще там куда. Водку жрать. Наверняка Стилет выдал им неплохой гонорар.
Ну, а я, естественно, растопырился, стал хамить, угрожать открытым текстом, вот он и решил, что хватит со мной в игры играть и делать вид, что мы с ним заодно. И когда я вышел из «Балтийского Двора», взял трубочку, нажал кнопочки и сказал ментам своим купленным: берите его, голубчика, и делайте с ним что хотите. А еще вернее - сказал, чтобы они меня держали взаперти и ждали его решения.
Вот оно как получается.
Здесь, в «Крестах», меня пока никто не беспокоит, вертухаи ведут себя так, будто я сижу тут уже года три, будто они уже ко мне привыкли и не обращают на меня особого внимания. Ни на какие допросы не водят, дают хавку, а я, со своей стороны, тоже не дергаюсь, не выступаю, не требую ни прокурора, ни адвоката…
Смешно, ей-богу!
В камере у меня, естественно, никаких проблем нет, авторитет все-таки, да и не просто авторитет, а еще и легендарный, как оказалось…
Тут я краем уха послушал, какие обо мне героические байки среди молодежи ходят, так у меня аж глаза на лоб полезли. Прямо Горец какой-то бессмертный! Разве что не летаю, как Бэтмен, и по воде не хожу. А так - даже самому интересно.
А уж благородный я в этих байках - дальше ехать некуда.
Да-а-а…
Ладно, пусть себе тешатся, не ломать же им кайф, на самом деле! Ну что еще в камере делать, как не языки чесать?
Когда вертухаи привели меня в камеру, смотрящий по хате без всяких разговоров отвел мне одну из лучших шконок, в сухом и чистом углу, среди авторитетов, которые спокойно потеснились и доброжелательно предложили чифирку.
Я поблагодарил и вежливо отказался.
Что-то в последнее время меня не тянет на такие сильные вещи. Сердце надо беречь, да и не хочется поганить чифиром мои белоснежные голливудские зубы, которые обошлись мне почти в двадцать штук бакинских.
Авторитеты не настаивали, и я спокойно залез на шконку.
Повалявшись пару дней и успокоившись, я принял участие в неторопливой беседе уважающих себя и друг друга мужчин, и между делом выяснилось, что их беспокоит вопрос, как теперь быть со смотрящим по камере. Кому-то из них пришла в голову идея выдвинуть на эту почетную должность меня, и вот теперь они терли этот, в общем-то, дурацкий вопрос.
Послушал я их и говорю:
- У меня своих проблем хватает. Так что пусть себе человек занимается своим ответственным делом и не надо его беспокоить. Кроме того, пробуду я здесь неизвестно сколько. И неизвестно, в каком виде покину эту уютную обитель. Так что давайте лучше поговорим о бабах. Или о генералах. Я одного такого знал, что любо-дорого. Могу рассказать.
Толик Козырь, а он за убийство двух ментов суда уже второй год ждал, засмеялся и говорит:
- Про генералов я и сам тебе могу рассказать. А вот лучше ты, Знахарь, расскажи, как ты в океане корабль в одиночку захватил и как на нем полгода в Тихом океане пиратствовал.
Я от смеха чуть с койки не свалился.
- Да я уж слышал, что тут про меня молодняк рассказывает, - сказал я, отсмеявшись, - но только это все байки. Интересные, не спорю, но - сказки. Было у меня, конечно, много всякого, но пиратство… Это уже слишком. Тут народная молва сильно через край хватила.
И разговор перешел на автомобили.
Хозяйничал в камере Дуст - человек Саши Сухумского.
А сам Саша Сухумский был смотрящим по «Крестам».
И это мне сразу же не очень понравилось. А точнее - очень не понравилось. Именно тогда, в первый же день, у меня появилось ощущение, что менты выполняют воровской заказ. И теперь это ощущение не ослабевало, а, наоборот, постепенно превращалось в железную уверенность, что для меня дело пахнет керосином.
Но внешне все было нормально. Меня уважали, обращались за советом, а иногда приходилось решать конфликты, которые неминумо возникают, если в камеру площадью тридцать метров посадить без малого восемьдесят человек.
Лежу я как-то раз на шконке, в стенку пялюсь, думы свои невеселые думаю, и вдруг слышу - в противоположном углу шум, свара, крики, в общем, драчка случилась. А потом Дуст и говорит:
- Давайте к Знахарю, мерины безрогие, как он скажет, так и будет.
Подходят ко мне двое урок, обоим лет по тридцать, у одного под глазом слива зреет, другой за яйца держится, и видно, что кисло ему не понарошку.
А еще мне видно, что твари они ничтожные, и повесить бы их без суда и следствия, чтобы не воняли, да некому…
Ладно, думаю, поиграем в царя Соломона.
- Ну, - говорю, - что случилось, почему беспорядок нарушаете?
А сам вспомнил, как на корабле этом, на холодильнике «Нестор Махно», вот так же стояли передо мной два моремана, а я им так заправлял, что самому интересно было.
Оба одновременно открыли рты, но я остановил их жестом и сказал:
- По очереди. Ты - первый, - и указываю пальцем на того, у которого бланш под глазом.
Пусть, думаю, тот, у которого яйца пострадали, оклемается пока.
- Погонялово имеешь? - спрашиваю.
- Имею, - отвечает урка, - Шустрым кличут.
- Действительно шустрый. По бейцам ловко попал. Может, ты еще куда ловко попадаешь?
- Если надо, то и попадаю, - отвечает Шустрый, а сам ногу в сторону отставил и большие пальцы за пояс засунул.
Хочет, значит, показать, что хоть и перед авторитетом стоит, но и сам чего-то стоит.
- А за что, тебя, бедного, в тюрягу-то посадили? Небось, по ошибке?
- Нет, не по ошибке, - отвечает, - вооруженный грабеж.
- Ух ты! Вот здорово! И кого же ты ограбил? Трех здоровых мужиков? Или вооруженного инкассатора ножичком на понт взял? А может, прорвался через охрану и вынес из кабинета депутата сейф с наворованными у народа деньгами?
Шустрый угас, ногу прибрал и говорит:
- Да нет, Знахарь, я поскромнее.
- Ну так давай рассказывай, не томи.
Он помялся и говорит:
- Шубу с бабы снял, и сумочку еще…
- Вот это да! Герой! - восхитился я, - И не испугался? Хотя ты же вооруженный был… А что за оружие?
- Что за оружие… Нож охотничий.
- А где ножик-то взял?
Вся камера молча и с интересом следила за происходящим, и вдруг с верхнего яруса раздался чейто голос:
- А ножик он у корефана своего двинул, пока тот пьяный на хате валялся.
- Заткнись, Пахарь, тебя не спрашивают, - огрызнулся Шустрый.
- Не затыкайся, Пахарь, - возразил я, не сводя взгляда с Шустрого, - откуда ты об этом знаешь?
- А он сам рассказывал, как геройствовал в тот вечер. Что, Шустрый, не рассказывал разве? И про то, как кореш твой, козел, ты ведь его так называл, вырубился, а ты у него, у козла, ножичек-то и прибрал. Ты еще сказал, что это инструмент для настоящего мужчины, а кореш твой типа не настоящий. Забыл?
- Ну, охотничий нож - это и на самом деле для настоящего мужчины, - рассудительно заметил я. - Ты ведь настоящий мужчина? Правда, Шустрый? Ты ведь женщины с сумочкой не испугался? Или все-таки было страшно, но ты смог себя перебороть. А?
Смотрю, а Шустрый и вовсе завял, пальцы из-за пояса вынул, руки по бокам висят, а сам ссутулился, как плакучая ива… Урка, блин!
- Ладно, - говорю, - о том, что ты за урка, мы еще поговорим. А сейчас скажи мне, почему ты сокамерникам отдыхать мешаешь? Что вы там с этим не поделили?
И киваю в сторону второго орла.
А тот уже вроде очухался, за бейцы больше не держится, порозовел…
- Тебя как кличут? - спрашиваю.
- Берендей я.
- Ага… Так вроде бы какого-то царя звали, то ли у Пушкина, то ли у кого-то еще.
- Не знаю я никакого Пушкина, а звать меня - Санек, а братва Берендеем кличет.
- Понятно, - говорю, - ну, ты помолчи пока, а потом ответишь, когда тебя спросят.
И перевожу взгляд на Шустрого.
- Ну, так в чем у вас проблемы?
- А Берендей свою бациллу петушиным ножом резал. Он Марго тянет, и за это прикармливает. А раз петушиный ножик в руки взял, то это - косяк. Не по понятиям, значит. Он сам теперь…
- Что - он сам? - вскинулся Берендей.
- Заткнись, - оборвал его я, - а ты продолжай.
- Если он какую-то вещь из рук пидара принял, то, значит, сам испоганился. Вот что это значит, - уверенно выдал Шустрый, и по его лицу было видно, что он доволен собой, потому что следует понятиям.
Марго был опущенным, а попросту говоря - петухом. А еще проще - пассивным гомосексуалистом. Но его это не напрягало, потому что попал он сюда как раз за это самое, и тут для него просто рай наступил. Зэков, которые не гнушались прогуляться в шоколадный цех, было хоть отбавляй, так что для Марго, а в обычной жизни его звали Петя Донских, настала полная благодать.
Стоячих членов - целая толпа. Хочешь - в очко принимай любимую игрушку, хочешь - в рот, в общем, полный кайф!
Я подумал и неторопливо, как бы рассуждая сам с собой, сказал:
- Значит, тот, кого в очко тянут, - пидар. Так, Шустрый?
- А как же, - поддержал он, - конечно.
- Ага. А ты сам этого Марго потягиваешь небось?
- Ну-у-у… - замялся Шустрый.
- Ты не нукай, не запряг, - подстегнул его я, - Тянешь?
- А кто ж его не тянет?
- Значит, тянешь. Я правильно понял?
- Правильно.
- Та-ак. И Берендей тянет.
- Ну, а уж он-то просто как любимую шалаву.
- А что, шалава бывает любимая?
- А как же? Обязательно, - пустился в расуждения Шустрый, - вот если ты приходишь с дела, а твоя маруха тебя встречает, стол накрыт, бутылочка запотела, то разве она не любимая шалава? У каждого настоящего урки такая есть.
О, Господи, подумал я, это какой-то бред. Этого просто не может быть.
Или я в своих европейских и американских миллионерских приключениях напрочь забыл, что в мире, а особенно в тюрьмах, полным-полно такой вот первобытной швали, которая теперь, как я по своей одноглазой наивности думал, встречается только в старых советских фильмах?
Я вдруг потерял зашевелившийся было интерес к роли этакого третейского судьи и, поморщившись, сказал:
- Значит, так. Тот, кого в очко тянут, - пидар?
- Пидар, - уверенно ответил Шустрый.
- А ты, Берендей, что скажешь?
- Конечно, пидар, - подтвердил Берендей.
- Тогда ответьте мне, бараны, на один вопросик, да не спешите с ответом.
Берендей дернулся было, но я бросил на него презрительный взгляд и, поправив под головой серую плоскую подушку, сказал:
- А вопросик вот какой. А сами-то вы кто после того, что сделали?
В камере настала мертвая тишина.
Может быть, кому-то и не нравилось то, что я наезжаю на пацанов, которые вроде бы и не сделали ничего особенного. Тут, в камере, все не ангелы сидят. Но я играл свою игру, и мне было наплевать, кто что думает. Мне нужно было разозлить воров, потому что…
В общем, я хотел спровоцировать их на открытый конфликт.
Шустрый открыл было рот, но я жестом остановил его и сказал:
- Не надо спешить с ответом. Сроку вам - два часа. Подумайте пока, а потом, не торопясь, ответите. А тот, кто неправильный ответ даст, пойдет с Марго брататься да место у параши обживать. Сгиньте.
Оба мгновенно исчезли, а я, откинувшись на подушку, уставился в грязный потолок и вдруг почувствовал, что мне ужасно хочется курить.
Я не курил уже почти два года, и, конечно же, это было весьма полезно для моего молодого еще пока организма. Но все это время, если вспомнить, я, несмотря на умопомрачительные зигзаги, которые выписывала моя окончательно спятившая судьба, был богат, находился на воле и почти уже забыл о том, какой омерзительной может быть жизнь за решеткой.
Повернув голову направо, я посмотрел на поседевшего в тюрьмах и на зонах авторитета Тюрю, который медленно и аккуратно вышивал черным и белым бисером полоски на маленькой тряпичной зебре, уставив сильные плюсовые очки на свое занятие. И получалось у него здорово.
В последний раз он попал за решетку месяц назад за то, что, несмотря на свои пятьдесят восемь лет, в одиночку поставил на гоп-стоп кассу Ленинградского зоопарка и унес не только недельную выручку, но и весь черный нал, переведенный в доллары и бережливо сложенный в пачечки вороватым сотрудником Зоопарка, неким Болтовским, неприятным типом с острым носиком, ускользающим ментовским взглядом и погаными младшесержантскими усиками. Я как-то видел Болтовского по телевизору, и когда Тюря рассказал о своем подвиге, то сразу же вспомнил этого темного сквалыгу.
Когда Тюрю задержали, возникла неприятная ситуация.
При нем нашли триста десять тысяч рублей и шесть тысяч двести долларов. Припертый к стенке, Тюря клятвенно заявил, что все эти деньги взял в сейфе. Бухгалтеры и Болтовский били себя в груди и присягали на чем попало, что никаких долларов в кассе не было, а Тюря врет.
Тюря оскорбительно смеялся и на очной ставке говорил, что врет как раз не он, а Болтовский, который все время прятал глаза, и было видно, что он разрывается между жестокой жадностью и разумным пониманием, что признаваться в том, что доллары принадлежат ему, нельзя ни в коем случае. В общем, Болтовский отмазался, доллары канули неизвестно куда, а Тюря сидел в «Крестах» под следствием.
- Слышь, Тюря, - нерешительно сказал я, - угости сигареткой, а то у меня нету.
Тюря удивленно покосился на меня, сдвинул очки на лоб и сказал:
- Так ведь ты, Знахарь, вроде не куришь…
Я вздохнул и ответил:
- Не курил два года, пока на воле бегал. А тут чего-то засвербило. Да так, что сил нет как курить хочется.
Тюря покачал головой и сказал:
- Мне, конечно, не жалко, но может, не стоит?
- Да нет, Тюря, стоит. Неизвестно, как у меня дело повернется, а я еще буду лишать себя такого удовольствия… Так что давай, будь другом.
- Да ради бога, - сказал Тюря и протянул мне пачку «Парламента».
Достав сигарету, я вернул пачку Тюре и, прежде чем закурить, понюхал ее, проведя сигаретой под носом.
Давно забытый пряный запах сухого табака напомнил мне, как много-много лет назад, когда мы были мальчишками и наши обоняние и вкус еще не были притуплены табаком, алкоголем и прочими благами цивилизации, мы нюхали сигареты и все они были разными.
