Через несколько дней я демобилизовался, а летом Чумаченко уже жил в нашей московской квартире (на балконе). Моя мама была счастлива. Она наконец нашла человека, которого не надо было уговаривать доедать то, что лежит на тарелке.
Мишка поступил на режиссерский к Марии Осиповне Кнебель.
А спустя десять лет – уже в другой стране, через цепь шапочных приятелей – на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью. В общем, что-то у них эшелонами шло куда-то в обмен на гуманитарку, которая, в свою очередь, на что-то обменивалась… Короче, эти братаны, измученные внезапно появившейся наличностью, решили построить под Новосибирском Голливуд и выражали готовность со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка денег.)
А мы с Мишкой как раз в это время пробалтывали, без ясных целей, симпатичный сюжет для кино – и поняли, что это судьба!
Через какое-то время я был приглашен зайти в офис к браткам, поговорить.
Офис оказался номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!
Так и не понял, зачем звали.
Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное, счет шел на миллионы).
Хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо». Это был человек в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он выгрузил дензнаки на кухонный стол и предложил их пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого типа на своей жилплощади, я, помню, только спросил, где расписаться за получение.
Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.
Когда он покинул квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем отчетливо помню, что хотелось еще и привалить ее чем-нибудь для надежности.
Когда я дописал сценарий, на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы…
Директора будущей картины звали Иосиф Сосланд. Сценарий он читал с калькулятором в руках, покрякивая от моих фантазий. После сцены, где камера облетает пансионат, в котором разворачивается действие фильма, Сосланд прямо попросил меня не изображать из себя Микеланджело Антониони, а обойтись простыми планами.
Снимать кино должен был молодой в ту пору Илья Демин (ныне – обладатель всевозможных операторских премий). Роль Деветьярова писалась на малоизвестного актера Домогарова, и огромный портрет его персонажа (актера по профессии) у кинотеатра «Россия», в последних строчках нашего сценария, я прошу считать предвидением домогаровской кинокарьеры…
Маленькую роль Евы Сергеевны мы осмелились предложить Марине Нееловой, но получили отказ – впрочем, вполне доброжелательный. Марина Мстиславовна сказала, что, будь она мужчиной, согласилась бы на любую из двух главных мужских ролей: они ей понравились.
Помимо этих двух главных персонажей в сценарии обитало восемь юных фотомоделей. Пробы шли полным ходом, и к концу 92-го мы с Мишкой могли открывать модельное агентство… Увы, к тому времени это было уже единственным применением накопленного материала – когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет.
Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал, а в их офисе обитали другие энтузиасты первоначального накопления капитала.
Братков смыло, как и принесло, мутной волной начала девяностых, и я удивлюсь, если вдруг окажется, что они пережили эти годы. Там, где шли эшелоны с глиноземом и загадочной красной ртутью, убивали в те годы чаще, чем мыли руки.
А тут мы, два лоха со своим кино про любовь.
Удивительно (хотя, если вдуматься, как раз ничего удивительного): в самом сценарии, как в воде, отразились лица очень похожих лохов на фоне очень похожего социального фона. И как конкурс фотомоделей – героям фильма, наше кино нам с Мишкой будто привиделось…
Остался сценарий. Да еще в шкафу, среди прочего хлама на память о прожитой жизни, лежит унесенная с Киностудии имени Горького дверная табличка: «Бон шанс», режиссер М. Чумаченко».
Несколько фотографий на память
 В буфете Дома Актера молодой человек у стойки выскребал из кошелька последнюю медь.
В буфете Дома Актера молодой человек у стойки выскребал из кошелька последнюю медь.
– Тридцать пять, тридцать восемь!
Буфетчица, не считая, сбросила мелочь с блюдечка и обратилась к следующему:
– Вам?
– Светонька, – сказал барского вида гражданин, – мне, рыбонька, два с колбаской…
А молодой человек взял свою чашку кофе и отправился вглубь буфета. Там, ласково поглаживая по ладошке стоявшую рядом девушку, его ждал за столиком обаятельного вида блондин.
– Ну Андрюш… – говорила девушка.
– В Пензу – не поеду, – говорил блондин и еще нежнее гладил ладошку.
– Привет, Ириш, – поздоровался Шленский и присел за столик.
– Ну выручи, ну пожалуйста, – просила девушка. – Леня, скажи ему, чтобы он поехал на семинар. Они меня затрахали.
– Поезжай в Пензу, Деветьяров, – сказал Шленский. – Там пензячки.
– Не люблю пензячек, – вздохнул блондин. – Люблю москвичек.
– Ты мой котик, – деловито сказала девушка. – Так я беру тебе билет.
– Два, – томно сказал блондин.
– Не смотри на меня так, Деветьяров, – предупредила она. – Я девушка чувствительная.
За соседним столиком раздался взрыв хохота.
– Борис, ты не прав! – сказал кто-то, и хохот рванул снова.
– Так ты едешь?
– Не-а. – Деветьяров сделал честные глаза. – В театре вилы. Не могу, правда.
– Ты предатель, – сморщила нос девушка. – Ты Брут и Троцкий.
– Он Павлик Морозов, – сообщил Шленский, откусывая от бутерброда. – Убей его!
– Не убивай, – попросил Деветьяров. – Я тебе еще пригожусь.
– Нахал, – засмеялась Ириша. – Ладно, живи. – И, поцеловав Деветьярова в макушку, отошла от столика.
– Опять девушку обманул. И за что вас, блондинов, любят? – поинтересовался Шленский.
– Нас видней на темном фоне жизни, – прихлебывая кофе, ответил Деветьяров. – Ну, пошто звал, Мейерхольд?
– Будешь хамить – сниму с ролей.
Деветьяров изобразил лицом испуг.
– Вольно! – скомандовал Шленский. – Объясняю. Захожу я тут к Екатерине, а она мне и говорит: «Леонид Михайлович, зная вас как выдающегося режиссера современности, основоположника школы пережимания…»
– Короче, Станиславский, – попросил Деветьяров.
– Первый в Союзе конкурс фотомоделей, – сухо произнес Шленский. – Финал здесь, в Доме актера, в мае. Телевидение, спонсоры, призы, фигли-мигли. Я всего этого режиссер, а ты – постановщик пластики и ведущий. Месяц живем в цэковском пансионате на полной халяве! Вопросы?
– Сколько? – спросил Деветьяров.
– Это как будешь себя вести, – ответил Шленский. – Обещают по тыще на брата.
Деветьяров меланхолично посмотрел на друга и уточнил вопрос:
– Девушек – сколько?
Девушек было восемь. Их портреты украшали фойе Дома художника, куда наутро пришел Шленский.
– Сюда нельзя, – сурово остановила тетка, караулившая вход.
– Я в оргкомитет, на конкурс, – объяснил Леня. – Я режиссер.
– Вы? – Тетка с сомнением посмотрела на заляпанные грязью ботинки и куртку от «Красной швеи».
– Я, – подтвердил Шленский.
– Как фамилия?
– Зачем вам фамилия? – с полоборота завелся Шленский.
– А что, я буду пускать кого ни попадя? – не особо стесняясь, объяснила тетка. – Спрашиваю – значит, надо!
– Моя фамилия вам ничего не скажет.
– А все-таки?
– Ну, Таиров, – сказал Шленский.
– В первый раз слышу, – удовлетворенно сказала тетка. – Не пущу!
На звуки перепалки откуда-то вышел молодой человек в строгом костюме:
– Слушаю вас.
– Я на конкурс, – сказал Шленский. – Меня приглашали…
– Фамилия.
– Шленский.
– А говорил другую! – наябедничала тетка.
– Шленский, Шленский… Есть Шленский, – глянув список, сказал молодой человек. – Паспорт?
– С собой нет.
Молодой человек секундным пристальным взглядом оценил его.
– Хорошо. Проходите на второй этаж, в двести пятнадцатую.
Огромные пустые залы были увешаны фотографиями будущих участниц финала. В откровенных платьях, в костюмах a-ля модерн и вообще безо всего, неприступные, кокетливые, задумчивые, строгие и соблазнительные, они со всех сторон глядели на Шленского, и он, оторопелый, глядел на них. Потом, отойдя к колонне, присел у столика, на котором стопками были сложены буклеты и фотоальбомы, и начал неторопливо листать их.
– Что, интересно?
Он задрал голову. Наверху, опершись на перила балюстрады, стоял человек в кожаной куртке.
– Да, очень, – сказал Шленский.
– Немедленно положите все на место! – вдруг заорал человек. – Кто разрешил трогать альбомы? Кто вас сюда пустил? Аслан!
Молодой человек, стоявший на входе, уже был тут.
– Он в списке, Евгений Иваныч.
– Значит, в двести пятнадцатую его, а альбомы – убрать! Устроили проходной двор!
Наоравшись, человек исчез. Аслан внимательно посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на Шленского:
– Я говорил вам: на второй этаж…
– О господи! – Шленский наконец обрел дар речи. – Здесь у вас что, Байконур?
– Здесь гораздо серьезнее, – усмехнулся Аслан.
В двести пятнадцатой на появление Шленского почти не среагировали. Тут пили кофе, курили, подписывали какие-то бумаги…
– Здравствуйте, – сказал Шленский. – Здесь оргкомитет конкурса?
– Здесь, здесь, – пронося мимо поднос с чашечками, подтвердила какая-то девица.
– А вы, простите… – поинтересовалась расположившаяся в кресле дама с фиолетовыми губами и ногтями.
– Я режиссер, – коротко отрекомендовался Шленский.
– А-а, – радостно пропела фиолетовая, – проходите, проходите, Катя мне говорила… Господа, – обратилась она к присутствующим, – позвольте представить: режиссер нашего конкурса, Леонид… как вас по батюшке?
– Михайлович.
Все на секунду оторвались от кофе и бумаг.
– Леонид Михайлович Томский, – закончила фиолетовая.
– Шленский, – поправил Шленский.
– Да-да, – ничуть не смутившись, согласилась дама. – И скоро эту фамилию узнает весь мир!
 Шленского перекосило нервной гримасой, но он промолчал.
Шленского перекосило нервной гримасой, но он промолчал.
– Прошу к нам, – обратился к нему дородный мужчина, сидевший рядом с дамой. И, как на пустое, указал на кресло рядом со своим. Сидевший там молодой человек тут же без звука испарился вместе с чашкой и куском торта.
Шленский сел.
– Роман Юрьевич, – представился дородный. – Председатель оргкомитета. Ева Сергеевна. – Фиолетовая улыбнулась, показав зубы. – Добрая фея наших девочек…
– Вам кофе покрепче? – спросила Ева Сергеевна.
– Да, если можно, – ответил Шленский.
– Для вас… – улыбнулась фиолетовая и исчезла.
– Ну-с, – произнес Роман Юрьевич, – к делу…

Деветьяров бесшумно вошел за кулисы. Шел утренник, по сцене прыгали гномы. Дождавшись, когда они утанцуют со сцены, Деветьяров безошибочно выхватил одного из цепочки и сказал:
– Михалыч! Сыграешь за меня в апреле «Сани»?
Михалыч, с деревянным кайлом, в бороде и с наклеенным носом, сказал:
– Чего?
– Островского! – втолковывал Деветьяров. – В апреле за меня – сыграешь?
– Не знаю, – ответил Михалыч. – Надо репертуарку смотреть. А что?
– Халтура хорошая, – скривил лицо Деветьяров.
– Кино?
– Нет! Я тебе потом расскажу.
– Темнишь, жучила! – засмеялся Михалыч.
– Иди, кайлом маши, – ответил Деветьяров. – Шахтер!
– Ерофеев! – диким шепотом крикнула помреж. – На сцену!
– Спокуха, – ответил Михалыч. – Я в курсе. Дождись антракта, – бросил он Деветьярову и, нечеловеческим голосом завопив: – Белоснеежка-а! Иду-у! – рванул на сцену.
– Андрюшенька, солнышко мое, – попросила помреж, – сгинь из-за кулис к такой-то матери, ты мне спектакль сорвешь!
– Светка! – успокоил Деветьяров. – Дети – наше будущее, но они ни черта не замечают…
– Какие дети? – возмутилась Светка. – Сегодня Истомин смотрит!
– Истомин?
С занавесом лавина детей, сметая все на пути, понеслась в буфет. Главреж Истомин, немолодой усталый человек, остался сидеть в задних рядах, наговаривая замечания на диктофон. Деветьяров осторожно присел рядом.
– Владислав Николаевич!
Истомин ласково посмотрел на Деветьярова:
– Здравствуйте, Андрей.
– Добрый день.
– Пришел отпрашиваться, – констатировал Истомин и поглядел еще ласковей.
– Так точно. – Деветьяров улыбнулся виноватой улыбкой любимчика.
– Не отпущу, – предупредил Истомин и улыбнулся, уже с нескрываемой симпатией…
Поймав жест Шленского, Роман Юрьевич протянул ему пачку «Мальборо».
– У меня свои… – начал было Шленский.
– Леонид, – мягко пошутил Р.Ю., – здесь кондишн очень капризный, кубинские не вытягивает…
Шленский, улыбнувшись, сдался и взял сигарету.
– Берите еще, – предложил Р.Ю.
– Спасибо, – ответил Шленский. – Не надо.
– Так вот, – продолжил Р.Ю., – я и говорю: в жюри – элита, ну и в зале, сами понимаете, не Казанский вокзал… Пресса, телевидение – это само собой.
Ева Сергеевна долила кофе в чашечку, стоявшую перед Шленским.
– Насчет вашей оплаты – вопрос еще согласовывается, но в обиде на нас не останетесь.
– Надеюсь, – улыбнулся Шленский.
Он отглотнул кофе, затянулся и откинулся на мягкую спинку кресла. Он чувствовал себя человеком.
– Да! Мне нужен постановщик пластики и ведущий. У меня есть классный вариант… Это будет хорошо, поверьте.
Р. Ю. щелкнул паркером:
– Кто?
– Его фамилия Деветьяров.
– Какие числа? – спросил Истомин.
Деветьяров озабоченно почесал в затылке.
– Ну, апрель…
– Весь? – холодно осведомился Истомин.
– Что вы! – замахал руками Деветьяров. – Там… ну, где-то две недели… в апреле… а потом еще немного в мае…
– Вы пока работаете в театре, – напомнил Истомин.
– Все гонят, – посетовал Деветьяров, траурно покачав головой.
– Никто вас не гонит, Андрей, – удивился Истомин.
– …Все клянут, – продолжил Деветьяров и возвысил голос: – …мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простаков, Старух зловещих, стариков…
Несколько пионеров, открыв рты, слушали монолог Чацкого.
– Вон из Москвы, – вздохнул Деветьяров и всхлипнул.
Истомин махнул рукой и закрыл лицо, всхрюкивая от смеха.

Из двести пятнадцатой Шленский вышел со сценарием в руках, распираемый самоуважением. Играя на губах что-то классическое, он легко сбежал вниз и пошел к выходу, в одиночку заполняя вакуумное пространство залов.
Из-за поворота раздавались голоса рабочих, продолжавших развешивать фотографии, и Шленский зашел туда.
– И вот эту; да нет, вон эту, голую, левее! – кричал один другому, стоящему на стремянке. – Хорош!
Рабочий отошел наконец со своей стремянкой. Теперь на Шленского не отрываясь смотрела с черно-белой фотографии обнаженная девушка.
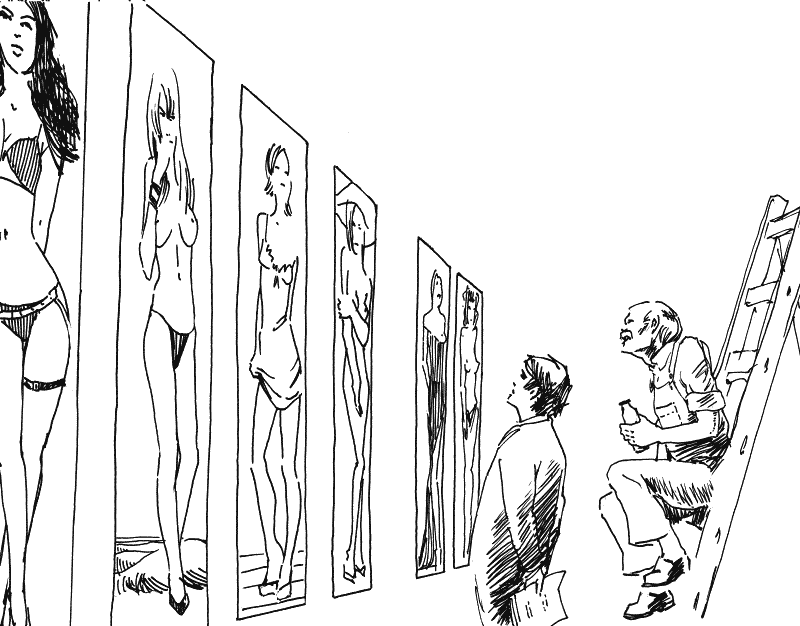 – Ф-фу! – выдохнул Шленский и двинулся дальше вдоль вереницы портретов, но тут же оглянулся на обнаженную.
– Ф-фу! – выдохнул Шленский и двинулся дальше вдоль вереницы портретов, но тут же оглянулся на обнаженную.
– Забирает? – окликнул его рабочий. Он сидел сзади на стремянке с бутылкой кефира. – У меня тоже третий день от них стоит, – поделился он. – Невозможно работать. За стремянку цепляет.
Шленский покраснел и, стараясь не оборачиваться, быстро пошел к выходу. Там, у дверей, его караулила давешняя тетка со списком в руках.
– Как, вы сказали, ваша фамилия? – бдительно прищурившись, спросила она.
– Станиславский, – ответил Шленский.
На улице он обнаружил, что до сих пор держит в руках сценарий, автоматически раскрыл его на первом попавшемся месте – и углубился в чтение. По лицу тут же проскочила гримаса; запихнув сценарий в сумку, Шленский двинулся к автобусной остановке.
В дверь с табличкой «Репертуарная часть» Деветьяров вошел с коробкой конфет. Через секунду оттуда раздался женский смех, через две выпорхнула с чайником миниатюрная девица. Еще через несколько – снова раздался смех. Потом вышел Деветьяров, без конфет, но со следами помады на лице.
– Только с Маштаковым договорись! – крикнула вслед девушка.
– У себя? – спросил Деветьяров пожилую костюмершу, гладившую гору костюмов.
– Там, Андрюша, там.
– Николай Семеныч? – просунул голову Деветьяров.
– А, Андрюшечка! – раздался из-за двери густой бас. – Заходи, заходи!..
Деветьяров вошел; в сумке, ударившейся об косяк, что-то звякнуло. Через минуту изнутри высунулось усатое, с неснятым гномьим гримом лицо Маштакова.
– Люда-а! – крикнул Маштаков. – Стака-ан! – И скрылся внутри.
Пожилая костюмерша успела отгладить гору костюмов, когда Деветьяров и Маштаков появились в коридоре, в самом чудесном настроении.
– Знаешь, кто я? – спрашивал Маштаков.
– Ты – Коля, – отвечал Деветьяров.
– Не угадал, – говорил Маштаков. – Вторая попытка. Кто я?
– Ты – заслуженный артист рэсэфэсэрэ Коля Маштаков!
– Нет, Андрюшечка, – грустно уронил Маштаков. – Опять ты не угадал. Сдаешься?
Деветьяров поднял руки.
– Я – Мочалов, – сообщил Маштаков. – Не веришь?
– Чё ж не верить? – обиделся Деветьяров. – Ежу понятно.
– Вот люблю тебя, – сказал Маштаков и поцеловал Деветьярова в лицо.
– Так я поеду? – спросил Деветьяров.
– Поезжай, Андрюшечка, поезжай. Я сам все сыграю. Один! – И Маштаков погрозил кому-то пальцем.
Утром в коридоре долго звонил телефон. Наконец на него с разбегу упал полуголый и толком не проснувшийся Шленский.
– Алло!
– Бананов кило! – ответили на том конце провода.
– Алло, кто говорит? – сердито крикнул Шленский.
– Вы совсем мозги заспали, Леонид Михайлович! Это Деветьяров, слыхали такую фамилию?
– А, Андрей. Привет.
– Ты что, правда еще спишь?
– Который час?
– «Не спи, не спи, художник»! Начало десятого!
– Ну. И чего звонишь в такую рань? Свинья ты после этого!
– Когда к девкам едем, Мейерхольд? – ничуть не обидевшись на «свинью», весело крикнул Деветьяров. – Я вся горю.
– Никуда мы не едем, Андрюша.
– Не понял.
– Никуда не едем!
В ответ в трубке раздались гудки.
Пожав плечами, Шленский положил ее и снова завалился спать.
Но доспать ему не удалось: через полчаса Деветьяров позвонил уже в дверь.
– Гротовский, – сказал он, стоя на пороге. – Что за номера?
– Я прочел сценарий, – хмуро сообщил Шленский. Он стоял на пороге в тапках, майке и трусах. – Это полная порнография.
– Я войду? – кратко осведомился Деветьяров.
– Входи.
– Так, – резюмировал Деветьяров, усевшись в кресло на кухне. – Значит, порнография. И что?
– «Что, что»… Хочешь, чтобы на тебя пальцами показывали?
– Я об этом мечтаю! – ответил Деветьяров.
– А я нет! – отрезал Шленский.
– Слушай, налей кофе, Стреллер, – поморщился Андрей. – А то мне от твоего вида удавиться охота.
– Ага.
Шленский поставил чайник и поплелся в ванную, откуда тут же раздались шум воды, фырканье и уханье.
– От тебя, Ленчик, сдохнуть можно, – выйдя в коридор, прокричал через дверь Деветьяров. – Я целый день по театру бобиком бегаю, всех на уши ставлю. Я им репертуар на месяц поменял – а он сценарием недоволен! Феллини хренов! Не нравится – сам напиши!
– Чукча не писатель, – проорал из ванной Шленский. – Чукча режиссер!
– Чукча импотент! – крикнул Деветьяров. – Там девки дюжинами, а он сценарии читает! Работать надо, день и ночь!
– Пошляк! – проорал Шленский.
– Леонид Михалыч! – весело пропел Деветьяров. – Ты что, каждый день в цэковских санаториях сачка давишь? Да придумаем мы это шоу! На хрен тебе сценарий с твоей башкой?
Мишка поступил на режиссерский к Марии Осиповне Кнебель.
А спустя десять лет – уже в другой стране, через цепь шапочных приятелей – на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью. В общем, что-то у них эшелонами шло куда-то в обмен на гуманитарку, которая, в свою очередь, на что-то обменивалась… Короче, эти братаны, измученные внезапно появившейся наличностью, решили построить под Новосибирском Голливуд и выражали готовность со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка денег.)
А мы с Мишкой как раз в это время пробалтывали, без ясных целей, симпатичный сюжет для кино – и поняли, что это судьба!
Через какое-то время я был приглашен зайти в офис к браткам, поговорить.
Офис оказался номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!
Так и не понял, зачем звали.
Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное, счет шел на миллионы).
Хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо». Это был человек в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он выгрузил дензнаки на кухонный стол и предложил их пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого типа на своей жилплощади, я, помню, только спросил, где расписаться за получение.
Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.
Когда он покинул квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем отчетливо помню, что хотелось еще и привалить ее чем-нибудь для надежности.
Когда я дописал сценарий, на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы…
Директора будущей картины звали Иосиф Сосланд. Сценарий он читал с калькулятором в руках, покрякивая от моих фантазий. После сцены, где камера облетает пансионат, в котором разворачивается действие фильма, Сосланд прямо попросил меня не изображать из себя Микеланджело Антониони, а обойтись простыми планами.
Снимать кино должен был молодой в ту пору Илья Демин (ныне – обладатель всевозможных операторских премий). Роль Деветьярова писалась на малоизвестного актера Домогарова, и огромный портрет его персонажа (актера по профессии) у кинотеатра «Россия», в последних строчках нашего сценария, я прошу считать предвидением домогаровской кинокарьеры…
Маленькую роль Евы Сергеевны мы осмелились предложить Марине Нееловой, но получили отказ – впрочем, вполне доброжелательный. Марина Мстиславовна сказала, что, будь она мужчиной, согласилась бы на любую из двух главных мужских ролей: они ей понравились.
Помимо этих двух главных персонажей в сценарии обитало восемь юных фотомоделей. Пробы шли полным ходом, и к концу 92-го мы с Мишкой могли открывать модельное агентство… Увы, к тому времени это было уже единственным применением накопленного материала – когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет.
Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал, а в их офисе обитали другие энтузиасты первоначального накопления капитала.
Братков смыло, как и принесло, мутной волной начала девяностых, и я удивлюсь, если вдруг окажется, что они пережили эти годы. Там, где шли эшелоны с глиноземом и загадочной красной ртутью, убивали в те годы чаще, чем мыли руки.
А тут мы, два лоха со своим кино про любовь.
Удивительно (хотя, если вдуматься, как раз ничего удивительного): в самом сценарии, как в воде, отразились лица очень похожих лохов на фоне очень похожего социального фона. И как конкурс фотомоделей – героям фильма, наше кино нам с Мишкой будто привиделось…
Остался сценарий. Да еще в шкафу, среди прочего хлама на память о прожитой жизни, лежит унесенная с Киностудии имени Горького дверная табличка: «Бон шанс», режиссер М. Чумаченко».
Несколько фотографий на память
Мелодрама

– Тридцать пять, тридцать восемь!
Буфетчица, не считая, сбросила мелочь с блюдечка и обратилась к следующему:
– Вам?
– Светонька, – сказал барского вида гражданин, – мне, рыбонька, два с колбаской…
А молодой человек взял свою чашку кофе и отправился вглубь буфета. Там, ласково поглаживая по ладошке стоявшую рядом девушку, его ждал за столиком обаятельного вида блондин.
– Ну Андрюш… – говорила девушка.
– В Пензу – не поеду, – говорил блондин и еще нежнее гладил ладошку.
– Привет, Ириш, – поздоровался Шленский и присел за столик.
– Ну выручи, ну пожалуйста, – просила девушка. – Леня, скажи ему, чтобы он поехал на семинар. Они меня затрахали.
– Поезжай в Пензу, Деветьяров, – сказал Шленский. – Там пензячки.
– Не люблю пензячек, – вздохнул блондин. – Люблю москвичек.
– Ты мой котик, – деловито сказала девушка. – Так я беру тебе билет.
– Два, – томно сказал блондин.
– Не смотри на меня так, Деветьяров, – предупредила она. – Я девушка чувствительная.
За соседним столиком раздался взрыв хохота.
– Борис, ты не прав! – сказал кто-то, и хохот рванул снова.
– Так ты едешь?
– Не-а. – Деветьяров сделал честные глаза. – В театре вилы. Не могу, правда.
– Ты предатель, – сморщила нос девушка. – Ты Брут и Троцкий.
– Он Павлик Морозов, – сообщил Шленский, откусывая от бутерброда. – Убей его!
– Не убивай, – попросил Деветьяров. – Я тебе еще пригожусь.
– Нахал, – засмеялась Ириша. – Ладно, живи. – И, поцеловав Деветьярова в макушку, отошла от столика.
– Опять девушку обманул. И за что вас, блондинов, любят? – поинтересовался Шленский.
– Нас видней на темном фоне жизни, – прихлебывая кофе, ответил Деветьяров. – Ну, пошто звал, Мейерхольд?
– Будешь хамить – сниму с ролей.
Деветьяров изобразил лицом испуг.
– Вольно! – скомандовал Шленский. – Объясняю. Захожу я тут к Екатерине, а она мне и говорит: «Леонид Михайлович, зная вас как выдающегося режиссера современности, основоположника школы пережимания…»
– Короче, Станиславский, – попросил Деветьяров.
– Первый в Союзе конкурс фотомоделей, – сухо произнес Шленский. – Финал здесь, в Доме актера, в мае. Телевидение, спонсоры, призы, фигли-мигли. Я всего этого режиссер, а ты – постановщик пластики и ведущий. Месяц живем в цэковском пансионате на полной халяве! Вопросы?
– Сколько? – спросил Деветьяров.
– Это как будешь себя вести, – ответил Шленский. – Обещают по тыще на брата.
Деветьяров меланхолично посмотрел на друга и уточнил вопрос:
– Девушек – сколько?
Девушек было восемь. Их портреты украшали фойе Дома художника, куда наутро пришел Шленский.
– Сюда нельзя, – сурово остановила тетка, караулившая вход.
– Я в оргкомитет, на конкурс, – объяснил Леня. – Я режиссер.
– Вы? – Тетка с сомнением посмотрела на заляпанные грязью ботинки и куртку от «Красной швеи».
– Я, – подтвердил Шленский.
– Как фамилия?
– Зачем вам фамилия? – с полоборота завелся Шленский.
– А что, я буду пускать кого ни попадя? – не особо стесняясь, объяснила тетка. – Спрашиваю – значит, надо!
– Моя фамилия вам ничего не скажет.
– А все-таки?
– Ну, Таиров, – сказал Шленский.
– В первый раз слышу, – удовлетворенно сказала тетка. – Не пущу!
На звуки перепалки откуда-то вышел молодой человек в строгом костюме:
– Слушаю вас.
– Я на конкурс, – сказал Шленский. – Меня приглашали…
– Фамилия.
– Шленский.
– А говорил другую! – наябедничала тетка.
– Шленский, Шленский… Есть Шленский, – глянув список, сказал молодой человек. – Паспорт?
– С собой нет.
Молодой человек секундным пристальным взглядом оценил его.
– Хорошо. Проходите на второй этаж, в двести пятнадцатую.
Огромные пустые залы были увешаны фотографиями будущих участниц финала. В откровенных платьях, в костюмах a-ля модерн и вообще безо всего, неприступные, кокетливые, задумчивые, строгие и соблазнительные, они со всех сторон глядели на Шленского, и он, оторопелый, глядел на них. Потом, отойдя к колонне, присел у столика, на котором стопками были сложены буклеты и фотоальбомы, и начал неторопливо листать их.
– Что, интересно?
Он задрал голову. Наверху, опершись на перила балюстрады, стоял человек в кожаной куртке.
– Да, очень, – сказал Шленский.
– Немедленно положите все на место! – вдруг заорал человек. – Кто разрешил трогать альбомы? Кто вас сюда пустил? Аслан!
Молодой человек, стоявший на входе, уже был тут.
– Он в списке, Евгений Иваныч.
– Значит, в двести пятнадцатую его, а альбомы – убрать! Устроили проходной двор!
Наоравшись, человек исчез. Аслан внимательно посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на Шленского:
– Я говорил вам: на второй этаж…
– О господи! – Шленский наконец обрел дар речи. – Здесь у вас что, Байконур?
– Здесь гораздо серьезнее, – усмехнулся Аслан.
В двести пятнадцатой на появление Шленского почти не среагировали. Тут пили кофе, курили, подписывали какие-то бумаги…
– Здравствуйте, – сказал Шленский. – Здесь оргкомитет конкурса?
– Здесь, здесь, – пронося мимо поднос с чашечками, подтвердила какая-то девица.
– А вы, простите… – поинтересовалась расположившаяся в кресле дама с фиолетовыми губами и ногтями.
– Я режиссер, – коротко отрекомендовался Шленский.
– А-а, – радостно пропела фиолетовая, – проходите, проходите, Катя мне говорила… Господа, – обратилась она к присутствующим, – позвольте представить: режиссер нашего конкурса, Леонид… как вас по батюшке?
– Михайлович.
Все на секунду оторвались от кофе и бумаг.
– Леонид Михайлович Томский, – закончила фиолетовая.
– Шленский, – поправил Шленский.
– Да-да, – ничуть не смутившись, согласилась дама. – И скоро эту фамилию узнает весь мир!

– Прошу к нам, – обратился к нему дородный мужчина, сидевший рядом с дамой. И, как на пустое, указал на кресло рядом со своим. Сидевший там молодой человек тут же без звука испарился вместе с чашкой и куском торта.
Шленский сел.
– Роман Юрьевич, – представился дородный. – Председатель оргкомитета. Ева Сергеевна. – Фиолетовая улыбнулась, показав зубы. – Добрая фея наших девочек…
– Вам кофе покрепче? – спросила Ева Сергеевна.
– Да, если можно, – ответил Шленский.
– Для вас… – улыбнулась фиолетовая и исчезла.
– Ну-с, – произнес Роман Юрьевич, – к делу…

Деветьяров бесшумно вошел за кулисы. Шел утренник, по сцене прыгали гномы. Дождавшись, когда они утанцуют со сцены, Деветьяров безошибочно выхватил одного из цепочки и сказал:
– Михалыч! Сыграешь за меня в апреле «Сани»?
Михалыч, с деревянным кайлом, в бороде и с наклеенным носом, сказал:
– Чего?
– Островского! – втолковывал Деветьяров. – В апреле за меня – сыграешь?
– Не знаю, – ответил Михалыч. – Надо репертуарку смотреть. А что?
– Халтура хорошая, – скривил лицо Деветьяров.
– Кино?
– Нет! Я тебе потом расскажу.
– Темнишь, жучила! – засмеялся Михалыч.
– Иди, кайлом маши, – ответил Деветьяров. – Шахтер!
– Ерофеев! – диким шепотом крикнула помреж. – На сцену!
– Спокуха, – ответил Михалыч. – Я в курсе. Дождись антракта, – бросил он Деветьярову и, нечеловеческим голосом завопив: – Белоснеежка-а! Иду-у! – рванул на сцену.
– Андрюшенька, солнышко мое, – попросила помреж, – сгинь из-за кулис к такой-то матери, ты мне спектакль сорвешь!
– Светка! – успокоил Деветьяров. – Дети – наше будущее, но они ни черта не замечают…
– Какие дети? – возмутилась Светка. – Сегодня Истомин смотрит!
– Истомин?
С занавесом лавина детей, сметая все на пути, понеслась в буфет. Главреж Истомин, немолодой усталый человек, остался сидеть в задних рядах, наговаривая замечания на диктофон. Деветьяров осторожно присел рядом.
– Владислав Николаевич!
Истомин ласково посмотрел на Деветьярова:
– Здравствуйте, Андрей.
– Добрый день.
– Пришел отпрашиваться, – констатировал Истомин и поглядел еще ласковей.
– Так точно. – Деветьяров улыбнулся виноватой улыбкой любимчика.
– Не отпущу, – предупредил Истомин и улыбнулся, уже с нескрываемой симпатией…
Поймав жест Шленского, Роман Юрьевич протянул ему пачку «Мальборо».
– У меня свои… – начал было Шленский.
– Леонид, – мягко пошутил Р.Ю., – здесь кондишн очень капризный, кубинские не вытягивает…
Шленский, улыбнувшись, сдался и взял сигарету.
– Берите еще, – предложил Р.Ю.
– Спасибо, – ответил Шленский. – Не надо.
– Так вот, – продолжил Р.Ю., – я и говорю: в жюри – элита, ну и в зале, сами понимаете, не Казанский вокзал… Пресса, телевидение – это само собой.
Ева Сергеевна долила кофе в чашечку, стоявшую перед Шленским.
– Насчет вашей оплаты – вопрос еще согласовывается, но в обиде на нас не останетесь.
– Надеюсь, – улыбнулся Шленский.
Он отглотнул кофе, затянулся и откинулся на мягкую спинку кресла. Он чувствовал себя человеком.
– Да! Мне нужен постановщик пластики и ведущий. У меня есть классный вариант… Это будет хорошо, поверьте.
Р. Ю. щелкнул паркером:
– Кто?
– Его фамилия Деветьяров.
– Какие числа? – спросил Истомин.
Деветьяров озабоченно почесал в затылке.
– Ну, апрель…
– Весь? – холодно осведомился Истомин.
– Что вы! – замахал руками Деветьяров. – Там… ну, где-то две недели… в апреле… а потом еще немного в мае…
– Вы пока работаете в театре, – напомнил Истомин.
– Все гонят, – посетовал Деветьяров, траурно покачав головой.
– Никто вас не гонит, Андрей, – удивился Истомин.
– …Все клянут, – продолжил Деветьяров и возвысил голос: – …мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, Рассказчиков неукротимых, Нескладных умников, лукавых простаков, Старух зловещих, стариков…
Несколько пионеров, открыв рты, слушали монолог Чацкого.
– Вон из Москвы, – вздохнул Деветьяров и всхлипнул.
Истомин махнул рукой и закрыл лицо, всхрюкивая от смеха.

Из двести пятнадцатой Шленский вышел со сценарием в руках, распираемый самоуважением. Играя на губах что-то классическое, он легко сбежал вниз и пошел к выходу, в одиночку заполняя вакуумное пространство залов.
Из-за поворота раздавались голоса рабочих, продолжавших развешивать фотографии, и Шленский зашел туда.
– И вот эту; да нет, вон эту, голую, левее! – кричал один другому, стоящему на стремянке. – Хорош!
Рабочий отошел наконец со своей стремянкой. Теперь на Шленского не отрываясь смотрела с черно-белой фотографии обнаженная девушка.
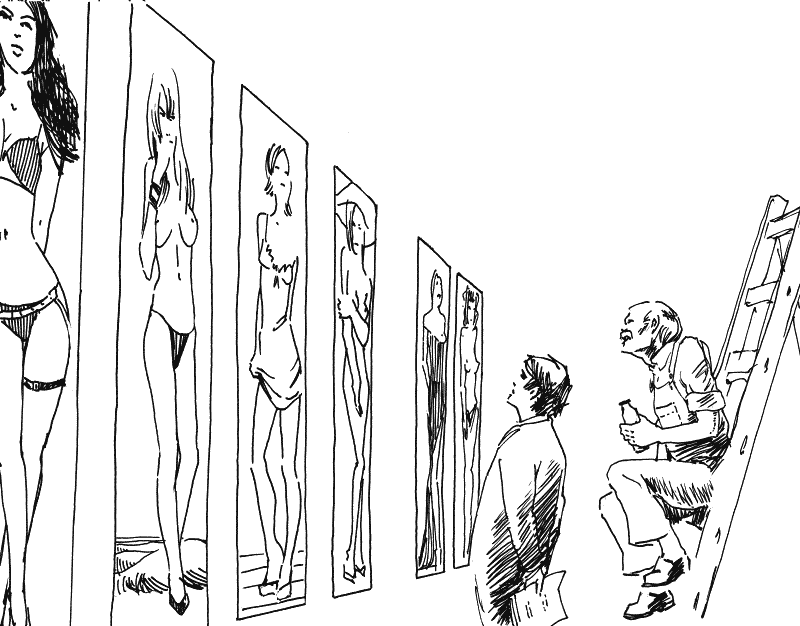
– Забирает? – окликнул его рабочий. Он сидел сзади на стремянке с бутылкой кефира. – У меня тоже третий день от них стоит, – поделился он. – Невозможно работать. За стремянку цепляет.
Шленский покраснел и, стараясь не оборачиваться, быстро пошел к выходу. Там, у дверей, его караулила давешняя тетка со списком в руках.
– Как, вы сказали, ваша фамилия? – бдительно прищурившись, спросила она.
– Станиславский, – ответил Шленский.
На улице он обнаружил, что до сих пор держит в руках сценарий, автоматически раскрыл его на первом попавшемся месте – и углубился в чтение. По лицу тут же проскочила гримаса; запихнув сценарий в сумку, Шленский двинулся к автобусной остановке.
В дверь с табличкой «Репертуарная часть» Деветьяров вошел с коробкой конфет. Через секунду оттуда раздался женский смех, через две выпорхнула с чайником миниатюрная девица. Еще через несколько – снова раздался смех. Потом вышел Деветьяров, без конфет, но со следами помады на лице.
– Только с Маштаковым договорись! – крикнула вслед девушка.
– У себя? – спросил Деветьяров пожилую костюмершу, гладившую гору костюмов.
– Там, Андрюша, там.
– Николай Семеныч? – просунул голову Деветьяров.
– А, Андрюшечка! – раздался из-за двери густой бас. – Заходи, заходи!..
Деветьяров вошел; в сумке, ударившейся об косяк, что-то звякнуло. Через минуту изнутри высунулось усатое, с неснятым гномьим гримом лицо Маштакова.
– Люда-а! – крикнул Маштаков. – Стака-ан! – И скрылся внутри.
Пожилая костюмерша успела отгладить гору костюмов, когда Деветьяров и Маштаков появились в коридоре, в самом чудесном настроении.
– Знаешь, кто я? – спрашивал Маштаков.
– Ты – Коля, – отвечал Деветьяров.
– Не угадал, – говорил Маштаков. – Вторая попытка. Кто я?
– Ты – заслуженный артист рэсэфэсэрэ Коля Маштаков!
– Нет, Андрюшечка, – грустно уронил Маштаков. – Опять ты не угадал. Сдаешься?
Деветьяров поднял руки.
– Я – Мочалов, – сообщил Маштаков. – Не веришь?
– Чё ж не верить? – обиделся Деветьяров. – Ежу понятно.
– Вот люблю тебя, – сказал Маштаков и поцеловал Деветьярова в лицо.
– Так я поеду? – спросил Деветьяров.
– Поезжай, Андрюшечка, поезжай. Я сам все сыграю. Один! – И Маштаков погрозил кому-то пальцем.
Утром в коридоре долго звонил телефон. Наконец на него с разбегу упал полуголый и толком не проснувшийся Шленский.
– Алло!
– Бананов кило! – ответили на том конце провода.
– Алло, кто говорит? – сердито крикнул Шленский.
– Вы совсем мозги заспали, Леонид Михайлович! Это Деветьяров, слыхали такую фамилию?
– А, Андрей. Привет.
– Ты что, правда еще спишь?
– Который час?
– «Не спи, не спи, художник»! Начало десятого!
– Ну. И чего звонишь в такую рань? Свинья ты после этого!
– Когда к девкам едем, Мейерхольд? – ничуть не обидевшись на «свинью», весело крикнул Деветьяров. – Я вся горю.
– Никуда мы не едем, Андрюша.
– Не понял.
– Никуда не едем!
В ответ в трубке раздались гудки.
Пожав плечами, Шленский положил ее и снова завалился спать.
Но доспать ему не удалось: через полчаса Деветьяров позвонил уже в дверь.
– Гротовский, – сказал он, стоя на пороге. – Что за номера?
– Я прочел сценарий, – хмуро сообщил Шленский. Он стоял на пороге в тапках, майке и трусах. – Это полная порнография.
– Я войду? – кратко осведомился Деветьяров.
– Входи.
– Так, – резюмировал Деветьяров, усевшись в кресло на кухне. – Значит, порнография. И что?
– «Что, что»… Хочешь, чтобы на тебя пальцами показывали?
– Я об этом мечтаю! – ответил Деветьяров.
– А я нет! – отрезал Шленский.
– Слушай, налей кофе, Стреллер, – поморщился Андрей. – А то мне от твоего вида удавиться охота.
– Ага.
Шленский поставил чайник и поплелся в ванную, откуда тут же раздались шум воды, фырканье и уханье.
– От тебя, Ленчик, сдохнуть можно, – выйдя в коридор, прокричал через дверь Деветьяров. – Я целый день по театру бобиком бегаю, всех на уши ставлю. Я им репертуар на месяц поменял – а он сценарием недоволен! Феллини хренов! Не нравится – сам напиши!
– Чукча не писатель, – проорал из ванной Шленский. – Чукча режиссер!
– Чукча импотент! – крикнул Деветьяров. – Там девки дюжинами, а он сценарии читает! Работать надо, день и ночь!
– Пошляк! – проорал Шленский.
– Леонид Михалыч! – весело пропел Деветьяров. – Ты что, каждый день в цэковских санаториях сачка давишь? Да придумаем мы это шоу! На хрен тебе сценарий с твоей башкой?
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
