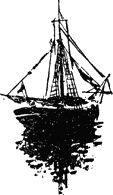— Я хотел бы спросить этого человека… Эрлих — так ведь зовут вас? Вы помните, как в школе разведки вам давали наставления, куда стрелять, куда бить, как скручивать руки, как в «походе» без надлежащего оборудования пытать людей? Вы, конечно, не забыли, как была использована эта наука здесь… Но вы, видно, забыли, что и у моей страны есть счёты с вами. Вы забыли, как однажды ездили отсюда в «командировку на советский фронт», забыли, что творили на нашей советской земле.
— Ни здесь, ни там, у вас, я не совершил ни одного шага без приказа моих начальников, — заявил Эрлих.
— Совершённые вами преступления так же наказуемы, как преступные приказы ваших преступных начальников. И то и другое — уголовно наказуемо.
Эрлих сделал попытку рассмеяться, но смех не удался, преступник выглядел скорее испуганным, чем насмешливым, когда поспешно договорил:
— Но я не русский, я не гражданин вашей страны, меня нельзя судить по советским законам!
— Ни здесь, ни там, у вас, я не совершил ни одного шага без приказа моих начальников, — заявил Эрлих.
— Совершённые вами преступления так же наказуемы, как преступные приказы ваших преступных начальников. И то и другое — уголовно наказуемо.
Эрлих сделал попытку рассмеяться, но смех не удался, преступник выглядел скорее испуганным, чем насмешливым, когда поспешно договорил:
— Но я не русский, я не гражданин вашей страны, меня нельзя судить по советским законам!
Суд, демократия и ответственность
— Можно, Эрлих!
Эти слова Кручинина прозвучали так веско, словно всею тяжестью того, что подразумевалось под ними, он на месте пригвождал фашиста. И ещё раз с тою же спокойной уверенностью Кручинин повторил:
— Можно!.. И не только потому, что мой народ желает и будет вас судить, пользуясь собственной силой, а потому, что это право признано за ним, предоставлено ему народами, чьи права вы, гитлеровцы, попрали, чьи свободы вы разорвали в клочья, чью жизнь вы поставили под угрозу, чью землю залили кровью, чьи жилища и храмы разрушили, чью государственность объявили несуществующей, чьих мужчин и женщин объявили своими рабами…
— Слова, слова, слова! — крикнул Эрлих, но Кручинин не дал себя перебить.
— Конечно, — сказал он, — это выражено в словах, как и любая другая мысль, любая идея, любое чувство, которое люди хотят сделать достоянием себе подобных. Именно пользуясь словами, ещё в тысяча девятьсот сорок втором правительства Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции, подписавшие «Декларацию о наказании за преступления, совершённые во время войны», обратились к советскому правительству с предложением предупредить об ответственности за злодеяния, совершаемые гитлеровцами в оккупированных ими странах. В тысяча девятьсот сорок третьем году правительства Советского Союза, Соединённых Штатов и Великобритании огласили совместную декларацию. В ней есть строки о том, что все немцы, принимавшие участие в массовых расстрелах или в казнях итальянских, французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников или критских крестьян или в истреблении народов Польши, Чехословакии, Советского Союза, должны знать, что они будут отправлены в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми совершали насилия… Я вижу, вам не нравится, Эрлих, что я это так хорошо помню, но я договорю. Я знаю наизусть то, что следует дальше: пусть те, кто ещё не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут в руки обвинителей с тем, чтобы могло свершиться правосудие. Ручаюсь вам, Эрлих, я не спутал ни слова, хотя, казалось бы, каждое из них должно было огненными буквами гореть именно в вашем сознании, а не в моем. Ведь это относилось к вам, а не ко мне…
— И вы воображаете, — все ещё храбрясь, выговорил Эрлих, — что на основании этого вы будете судить меня в вашей стране?.. Так ведь это же только заявление, а не закон! Во всяком случае не закон моей страны. А только ему я подчиняюсь, только ему дано признать меня правым или виноватым.
— И этот момент уже предусмотрен, Эрлих. Уже разработано положение о международном трибунале, который будет судить военных преступников, и в первую голову именно тех, чьи приказы вы исполняли. А за ними и вас.
— Глупости! — запротестовал Эрлих. — Этого никогда не будет!
— Будет, Эрлих. — И снова слова Кручинина прозвучали, как удар. — Будет, и очень скоро. Я даже уверен, что где-нибудь в растерзанной вами Литве или в Калабрии, а может быть, в Шампани или в Ютландии скорбные руки вдов уже треплют пеньку, из которой кто-то в Уэльсе или в Хорватии, а может быть, во Фракии или во Фламандии совьёт крепкую верёвку. И француз или американец, итальянец или югослав, выполняя пренеприятную обязанность всемирного мстителя, завяжет на этой верёвке петлю…
— Перестаньте! — истерически взвизгнул вдруг Эрлих. — Вы не смеете так разговаривать со мной. Я ещё не преступник. Я только ваш пленник. Вы пользуетесь силой, а не правом. Я не пойду в ваш суд.
— Вас приведут туда.
— Я никогда не признаю суда, где нет присяжных!
— Вы говорите это так, словно действительно вне суда присяжных не мыслите себе правосудия. Это замечательно, Эрлих! Можно подумать, что вы не были одним из тех, кто осуществлял на практике каннибальскую теорию Гитлера о том, что жестокость уважается, что народ нуждается в «здоровом страхе», что он всегда должен бояться чего-нибудь и кого-нибудь. Что народ жаждет, чтобы кто-нибудь пугал его и заставлял, содрогаясь от страха, повиноваться! Может быть, вы даже забыли, Эрлих, о том, что исповедовали гитлеровскую формулу о терроре, который является наиболее эффективным политическим оружием?.. Да, вы забыли это?.. Или вы изволили забыть и то, что на территории Советской Карело-Финской республики вы вершили расправу по этим самым гитлеровским формулам устрашения? Вы, насколько я помню, не чужды тому, что у фашистов именовалось юридической «наукой». Вы отдали дань поклонения теориям всяких шарлатанов от юриспруденции, вроде Эткеров, Даммов и Шафштейнов. Вы даже, помнится, высказывали мысли, аналогичные ферриансксму бреду о «прирождённых» преступниках. Разве это не вы, сидя в петрозаводском гестапо, договорились до того, что низкий лоб и тяжёлый подбородок, присущие угро-финнам, — надёжные признаки поголовной врождённой преступности жителей страны? Эти «данные» служили достаточным основанием вашему суждению о виновности тех, кого к вам приводили эсэсовцы… — Кручинин умолк и посмотрел на притихшего Эрлиха. — Или я ошибаюсь — это был другой Эрлих? Не тот, чья фотография хранится у меня?.. Нет, мне сдаётся, что тут вы не станете оспаривать сходство, Стоит ли отрицать, что вы рычали насчёт «слюнявой сентиментальности» коменданта, освободившего из-под ареста нескольких беременных женщин! Это вы вещали от имени командования СС: «Введение виселицы, вывешивание у позорного столба и клеймение, голод и порка должны стать атрибутами нашего господства над этим народом». Это от вас, Эрлих, местные представители «юстиции» вермахта выслушивали наставление, что-де судья обязан считаться с политическими требованиями момента, диктующими то или иное решение по любому уголовному делу, независимо от существа доказательств. «Обязанность судьи, — толковали вы, — состоит в том, чтобы наказывать всех, кто вступает в противоречие с „господствующими интересами“.
— И всё-таки, — глухо проговорил Эрлих, — я не признаю вашего права судить меня. Я не признаю вашего суда. Я буду требовать присяжных.
— Напрасно, Эрлих, — возразил Кручинин. — Только тот судебный приговор или судебное решение оправдывают своё назначение и служат своей цели, которые исключают какое бы то ни было сомнение в их правильности.
— Вот именно! — оживлённо подхватил Эрлих. — Мне должен быть обеспечен такой приговор, который признаете правильным не только вы, вынесшие его, а признает все общество, все, кто может здраво судить о вещах. Приговор должен быть справедливым! А это может обеспечить только суд присяжных.
— Отбросим то, что этим вы сами признали несправедливыми все собственные варварские приговоры, выносившиеся даже без мысли о присяжных, — терпеливо возражал Кручинин. — И все же я должен вам сказать, что форма судилища, которой вы сейчас вдруг стали добиваться для себя, вовсе не является идеальной. Она не обеспечивает именно того, чего добиваемся мы в наших судах. Будучи активной силой государственного строительства, призванной расчищать путь движению нашего общества вперёд, быть учителем жизни, наш советский суд является единственной машиной правосудия, обеспечивающей поистине справедливый приговор. Только он способен тщательным, объективным разбором судебного дела внушить обществу уверенность в справедливости приговора и непоколебимую уверенность в торжестве закона. А что касается вдруг ставшего вам милым суда присяжных, то один из его защитников, Джеймс Стифен, ценил в нём главным образом два качества: первое — способность создавать в обществе уверенность в справедливости приговора и второе — служить, как выражался Стифен, клапаном безопасности для общественных страстей. Это не моё определение, Эрлих, это слова Стифена, Вам не довольно этого?
— Что бы вы ни говорили, а я нахожусь тут не на советской земле; ваш суд и ваши законы тут ни при чем.
— Именно «при чем», Эрлих, — вмешался вдруг фогт. — Мы сами — и никто другой — просили помощи русских друзей в поимке вас. Мы не умеем этого делать. — Он усмехнулся и развёл руками. — Когда-нибудь, может быть, научимся, но пока ещё не умеем. И мы, в соответствии с декларацией трех великих держав, подтверждённой народами всех стран, отправляем вас теперь для суда туда, где вы грешили.
— Действительно, — охотно подтвердил Кручинин, — не воображаете же вы, Эрлих, что мы искали вас только ради удовольствия передать судьям, которые вас оправдают по законам вашей «справедливости». Ведь после того, как вы пролили столько крови, причинили столько горя на советской земле, вы сумели довольно умело скрыться. Вы вернулись сюда, в эту тихую страну, не искушённую в наблюдении за такими, как вы, в розыске их и наказании. Вы знали, что делали, когда вернулись сюда в том же обличье, в каком исчезли отсюда — в одежде пастора. Должен сознаться, было не так-то легко проследить ваш путь. Одно время мы даже думали, что совсем потеряли ваш след и что вы оставили нас в дураках. Это было, когда мы, добравшись до островов, не обнаружили там никаких признаков вашего пребывания. Но, как видите, теория о том, что не родился ещё преступник, который не оставит своих следов на месте преступления и не будет пойман, оказалась верной. Мы пришли сюда.
— Вы дьявольски уверены в себе, не правда ли? — насмешливо проговорил преступник.
— Сознаюсь — да, мы уверены в себе, — с улыбкой ответил Кручинин. — В себе и в своих друзьях. И, как видите, наша уверенность пока оправдывается… Или вы и сейчас ещё не убеждены, что вам не уйти?
По мере того как говорил Кручинин, пленник все больше овладевал собой. Он стал как будто спокоен, не делал попыток освободиться и наконец таким тоном, словно ничего не случилось и он не сидел со связанными ногами, а был таким же гостем, как остальные, попросил папиросу. Голос его был совершенно ровен, когда он, откинувшись в кресле и разглядывая поднимавшиеся к потолку струйки табачного дыма, проговорил:
— К сожалению… я достаточно много знаю о вашей цепкости. Вы меня, конечно, не выпустите… Хотя… Я совершенно не понимаю этих господ, — он кивком головы указал на фогта. — Как могут они протянуть руку вам, своим непримиримым врагам, вместо того чтобы помочь нам, своим единомышленникам и друзьям? Стать сообщниками дикого Востока против западных демократий!.. Разве это не самоубийство?
Кручинин рассмеялся так заразительно, что, глядя на него, заулыбались остальные.
— Минутку внимания, господин фогт! — воскликнул он. — Право, это даже забавно! Этот господин говорит, что он и его сообщники-гитлеровцы — друзья вашего народа, вашей страны!.. Это просто замечательно! — Кручинин обернулся к Грачику: —У тебя далеко сумка с документами, заготовленными для передачи суду?
Эти слова Кручинина прозвучали так веско, словно всею тяжестью того, что подразумевалось под ними, он на месте пригвождал фашиста. И ещё раз с тою же спокойной уверенностью Кручинин повторил:
— Можно!.. И не только потому, что мой народ желает и будет вас судить, пользуясь собственной силой, а потому, что это право признано за ним, предоставлено ему народами, чьи права вы, гитлеровцы, попрали, чьи свободы вы разорвали в клочья, чью жизнь вы поставили под угрозу, чью землю залили кровью, чьи жилища и храмы разрушили, чью государственность объявили несуществующей, чьих мужчин и женщин объявили своими рабами…
— Слова, слова, слова! — крикнул Эрлих, но Кручинин не дал себя перебить.
— Конечно, — сказал он, — это выражено в словах, как и любая другая мысль, любая идея, любое чувство, которое люди хотят сделать достоянием себе подобных. Именно пользуясь словами, ещё в тысяча девятьсот сорок втором правительства Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции, подписавшие «Декларацию о наказании за преступления, совершённые во время войны», обратились к советскому правительству с предложением предупредить об ответственности за злодеяния, совершаемые гитлеровцами в оккупированных ими странах. В тысяча девятьсот сорок третьем году правительства Советского Союза, Соединённых Штатов и Великобритании огласили совместную декларацию. В ней есть строки о том, что все немцы, принимавшие участие в массовых расстрелах или в казнях итальянских, французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников или критских крестьян или в истреблении народов Польши, Чехословакии, Советского Союза, должны знать, что они будут отправлены в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми совершали насилия… Я вижу, вам не нравится, Эрлих, что я это так хорошо помню, но я договорю. Я знаю наизусть то, что следует дальше: пусть те, кто ещё не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут в руки обвинителей с тем, чтобы могло свершиться правосудие. Ручаюсь вам, Эрлих, я не спутал ни слова, хотя, казалось бы, каждое из них должно было огненными буквами гореть именно в вашем сознании, а не в моем. Ведь это относилось к вам, а не ко мне…
— И вы воображаете, — все ещё храбрясь, выговорил Эрлих, — что на основании этого вы будете судить меня в вашей стране?.. Так ведь это же только заявление, а не закон! Во всяком случае не закон моей страны. А только ему я подчиняюсь, только ему дано признать меня правым или виноватым.
— И этот момент уже предусмотрен, Эрлих. Уже разработано положение о международном трибунале, который будет судить военных преступников, и в первую голову именно тех, чьи приказы вы исполняли. А за ними и вас.
— Глупости! — запротестовал Эрлих. — Этого никогда не будет!
— Будет, Эрлих. — И снова слова Кручинина прозвучали, как удар. — Будет, и очень скоро. Я даже уверен, что где-нибудь в растерзанной вами Литве или в Калабрии, а может быть, в Шампани или в Ютландии скорбные руки вдов уже треплют пеньку, из которой кто-то в Уэльсе или в Хорватии, а может быть, во Фракии или во Фламандии совьёт крепкую верёвку. И француз или американец, итальянец или югослав, выполняя пренеприятную обязанность всемирного мстителя, завяжет на этой верёвке петлю…
— Перестаньте! — истерически взвизгнул вдруг Эрлих. — Вы не смеете так разговаривать со мной. Я ещё не преступник. Я только ваш пленник. Вы пользуетесь силой, а не правом. Я не пойду в ваш суд.
— Вас приведут туда.
— Я никогда не признаю суда, где нет присяжных!
— Вы говорите это так, словно действительно вне суда присяжных не мыслите себе правосудия. Это замечательно, Эрлих! Можно подумать, что вы не были одним из тех, кто осуществлял на практике каннибальскую теорию Гитлера о том, что жестокость уважается, что народ нуждается в «здоровом страхе», что он всегда должен бояться чего-нибудь и кого-нибудь. Что народ жаждет, чтобы кто-нибудь пугал его и заставлял, содрогаясь от страха, повиноваться! Может быть, вы даже забыли, Эрлих, о том, что исповедовали гитлеровскую формулу о терроре, который является наиболее эффективным политическим оружием?.. Да, вы забыли это?.. Или вы изволили забыть и то, что на территории Советской Карело-Финской республики вы вершили расправу по этим самым гитлеровским формулам устрашения? Вы, насколько я помню, не чужды тому, что у фашистов именовалось юридической «наукой». Вы отдали дань поклонения теориям всяких шарлатанов от юриспруденции, вроде Эткеров, Даммов и Шафштейнов. Вы даже, помнится, высказывали мысли, аналогичные ферриансксму бреду о «прирождённых» преступниках. Разве это не вы, сидя в петрозаводском гестапо, договорились до того, что низкий лоб и тяжёлый подбородок, присущие угро-финнам, — надёжные признаки поголовной врождённой преступности жителей страны? Эти «данные» служили достаточным основанием вашему суждению о виновности тех, кого к вам приводили эсэсовцы… — Кручинин умолк и посмотрел на притихшего Эрлиха. — Или я ошибаюсь — это был другой Эрлих? Не тот, чья фотография хранится у меня?.. Нет, мне сдаётся, что тут вы не станете оспаривать сходство, Стоит ли отрицать, что вы рычали насчёт «слюнявой сентиментальности» коменданта, освободившего из-под ареста нескольких беременных женщин! Это вы вещали от имени командования СС: «Введение виселицы, вывешивание у позорного столба и клеймение, голод и порка должны стать атрибутами нашего господства над этим народом». Это от вас, Эрлих, местные представители «юстиции» вермахта выслушивали наставление, что-де судья обязан считаться с политическими требованиями момента, диктующими то или иное решение по любому уголовному делу, независимо от существа доказательств. «Обязанность судьи, — толковали вы, — состоит в том, чтобы наказывать всех, кто вступает в противоречие с „господствующими интересами“.
— И всё-таки, — глухо проговорил Эрлих, — я не признаю вашего права судить меня. Я не признаю вашего суда. Я буду требовать присяжных.
— Напрасно, Эрлих, — возразил Кручинин. — Только тот судебный приговор или судебное решение оправдывают своё назначение и служат своей цели, которые исключают какое бы то ни было сомнение в их правильности.
— Вот именно! — оживлённо подхватил Эрлих. — Мне должен быть обеспечен такой приговор, который признаете правильным не только вы, вынесшие его, а признает все общество, все, кто может здраво судить о вещах. Приговор должен быть справедливым! А это может обеспечить только суд присяжных.
— Отбросим то, что этим вы сами признали несправедливыми все собственные варварские приговоры, выносившиеся даже без мысли о присяжных, — терпеливо возражал Кручинин. — И все же я должен вам сказать, что форма судилища, которой вы сейчас вдруг стали добиваться для себя, вовсе не является идеальной. Она не обеспечивает именно того, чего добиваемся мы в наших судах. Будучи активной силой государственного строительства, призванной расчищать путь движению нашего общества вперёд, быть учителем жизни, наш советский суд является единственной машиной правосудия, обеспечивающей поистине справедливый приговор. Только он способен тщательным, объективным разбором судебного дела внушить обществу уверенность в справедливости приговора и непоколебимую уверенность в торжестве закона. А что касается вдруг ставшего вам милым суда присяжных, то один из его защитников, Джеймс Стифен, ценил в нём главным образом два качества: первое — способность создавать в обществе уверенность в справедливости приговора и второе — служить, как выражался Стифен, клапаном безопасности для общественных страстей. Это не моё определение, Эрлих, это слова Стифена, Вам не довольно этого?
— Что бы вы ни говорили, а я нахожусь тут не на советской земле; ваш суд и ваши законы тут ни при чем.
— Именно «при чем», Эрлих, — вмешался вдруг фогт. — Мы сами — и никто другой — просили помощи русских друзей в поимке вас. Мы не умеем этого делать. — Он усмехнулся и развёл руками. — Когда-нибудь, может быть, научимся, но пока ещё не умеем. И мы, в соответствии с декларацией трех великих держав, подтверждённой народами всех стран, отправляем вас теперь для суда туда, где вы грешили.
— Действительно, — охотно подтвердил Кручинин, — не воображаете же вы, Эрлих, что мы искали вас только ради удовольствия передать судьям, которые вас оправдают по законам вашей «справедливости». Ведь после того, как вы пролили столько крови, причинили столько горя на советской земле, вы сумели довольно умело скрыться. Вы вернулись сюда, в эту тихую страну, не искушённую в наблюдении за такими, как вы, в розыске их и наказании. Вы знали, что делали, когда вернулись сюда в том же обличье, в каком исчезли отсюда — в одежде пастора. Должен сознаться, было не так-то легко проследить ваш путь. Одно время мы даже думали, что совсем потеряли ваш след и что вы оставили нас в дураках. Это было, когда мы, добравшись до островов, не обнаружили там никаких признаков вашего пребывания. Но, как видите, теория о том, что не родился ещё преступник, который не оставит своих следов на месте преступления и не будет пойман, оказалась верной. Мы пришли сюда.
— Вы дьявольски уверены в себе, не правда ли? — насмешливо проговорил преступник.
— Сознаюсь — да, мы уверены в себе, — с улыбкой ответил Кручинин. — В себе и в своих друзьях. И, как видите, наша уверенность пока оправдывается… Или вы и сейчас ещё не убеждены, что вам не уйти?
По мере того как говорил Кручинин, пленник все больше овладевал собой. Он стал как будто спокоен, не делал попыток освободиться и наконец таким тоном, словно ничего не случилось и он не сидел со связанными ногами, а был таким же гостем, как остальные, попросил папиросу. Голос его был совершенно ровен, когда он, откинувшись в кресле и разглядывая поднимавшиеся к потолку струйки табачного дыма, проговорил:
— К сожалению… я достаточно много знаю о вашей цепкости. Вы меня, конечно, не выпустите… Хотя… Я совершенно не понимаю этих господ, — он кивком головы указал на фогта. — Как могут они протянуть руку вам, своим непримиримым врагам, вместо того чтобы помочь нам, своим единомышленникам и друзьям? Стать сообщниками дикого Востока против западных демократий!.. Разве это не самоубийство?
Кручинин рассмеялся так заразительно, что, глядя на него, заулыбались остальные.
— Минутку внимания, господин фогт! — воскликнул он. — Право, это даже забавно! Этот господин говорит, что он и его сообщники-гитлеровцы — друзья вашего народа, вашей страны!.. Это просто замечательно! — Кручинин обернулся к Грачику: —У тебя далеко сумка с документами, заготовленными для передачи суду?
Уверенность в себе и дружба
Грачик молча снял и передал Кручинину сумку, висевшую у него через плечо. Кручинин быстро разобрал пачку вынутых из неё бумаг.
— Вот, господа!.. — Он поднял над головой несколько листков. — Сейчас вы увидите, что значат дружеские чувства гитлеровцев к вашей стране…
Однако ему не удалось договорить: дверь комнаты порывисто распахнулась, и на пороге появилась Рагна. Одно мгновение она стояла, держась за ручку двери и не то удивлённо, не то испуганно оглядывая присутствующих. Потом ступила в комнату и захлопнула за собою дверь. Девушка была так взволнована, что не сразу удалось уловить смысл её слов. Оказалось, что когда она привела к гроту в горах отряд горожан и они вскрыли ящики, то нашли в них только камни.
— Ага! — со злорадством воскликнул Эрлих.
— Вы напрасно делаете вид, будто радуетесь, Эрлих, — сказал Кручинин. — Вы никого не обманете. Вы же отлично знаете, что не ради этик камней убили, старого шкипера и покушались на жизнь кассира.
— И всё-таки вы не получили ничего, кроме камней! — со злорадством воскликнул Эрлих.
— Пока да, — спокойно согласился Кручинин. — Но из этого не следует, что тем дело и кончится. Повторяю: не ради же тайны нескольких булыжников вы совершили всё, что произошло здесь в эти дни!.. Или вы сами хорошенько не знали, что творите?
— Я всегда знаю, зачем делаю то или другое, — нагло усмехнулся нацист.
— Вот-вот. Вы давно узнали, что Эдвард проник в вашу тайну, вернее, пока только в тайну вашего клада. Вы испугались того, что он может поделиться ею ещё с кем-нибудь, а там, за кладом, дело дойдёт и до вас. Так?
Пленник пожал плечами.
— Должен сознаться, что этот сюрприз с ящиками меня несколько озадачивает. Но… — Кручинин покрутил кончик бороды. — Я верю в старую поговорку: нет ничего тайного, что не стало бы явным… Право, уж очень не хочется мне допустить мысль, будто вы, Эрлих, были так предусмотрительны, что заблаговременно убрали свой клад из тайника… Кроме этой небольшой загадки, нам остаётся выяснить только, как вы узнали, что шкипер раскрыл тайну клада…
Но фашист перебил его:
— Тут-то уж вы ни при чем: я просто подслушал его разговор с Оле на «Анне».
Старый фогт поднялся со своего места и гневно сказал:
— Вы дерзкий негодяй, Эрлих! По вине предателя Квислинга наш народ достаточно хорошо узнал, чего стоит фашизм, и больше никогда не попадёт в его сети.
— Не будьте так самоуверенны, фогт, — со смехом ответил Эрлих. — Там, где был один Квислинг, может найтись ещё десять.
Фогт в негодовании потряс кулаком:
— Никогда! Слышите вы, никогда!.. Мы обнажаем головы перед могилами советских солдат, проливших кровь за избавление нашей страны от таких, как вы. Народ наш, простой и мудрый народ, всегда был честен и будет честен. Он всегда был храбр и будет храбр. Он всегда любил свободу и свою отчизну и всегда будет их любить. Если тёмные силы помешали нам отстоять честь родины в годы фашизма, то из этого не следует, что в следующий раз мы не сумеем отстоять её. Таким, как вы, конец. Навсегда! Навсегда, говорю вам! — И фогт топнул ногой.
А Эрлих ответил ему издевательским смехом.
— Как жаль, что я не облечён властью тут же вешать таких! — задыхаясь, проговорил фогт.
— Хорошо, что у вас нет такой власти. А то бы вы сгоряча могли совершить этот справедливый, но несвоевременный шаг, — с улыбкой проговорил Кручинин.
— Вы считаете несвоевременным наказание такого преступника? — удивился старик.
— Прежде чем мы не узнали всех, кто стоит за ним? Разумеется! Ведь он не один, и наши народы, все мы хотим знать их имена, хотим знать их планы, хотим…
Но старик в нетерпении перебил:
— Война окончена. Победа за нами. Хозяева Эрлиха нам больше не страшны. Это призраки. У них нет ни власти приказывать, ни средств осуществлять свои планы. С ними покончено. Покончено вашими же руками.
— Я знаю силу наших рук, господин фогт, — спокойно ответил Кручинин. — Знаю силу своего народа, знаю силу народов, которые плечо к плечу с нами шли к победе. Но вы ошиблись дважды. Во-первых, в том, что война окончена…
— Но…
Кручинин остановил его, подняв руку.
— Война продолжается. Она шла, идёт и долго ещё будет идти на фронте, которого никто из нас не видит, на котором нет ни канонады, ни шумных битв. Битва продолжается за кулисами той войны, которая шла у всех на глазах. И, как всякое сражение, особенно тайное, эта битва впотьмах чревата большими неожиданностями. Очень большими неожиданностями, господин фогт.
— Вы намекаете на возможность их победы?
— Нет, я имею в виду совсем другое: речь идёт о расстановке сил. Тот, кто в видимой войне стоял по одну сторону барьера, в тайной может оказаться по другую его сторону. Тот, кто был нашим союзником вчера, сегодня может тайно перейти на сторону врага, а завтра открыто обнажить меч против нас.
— Вы говорите ужасные вещи, господин Кручинин. Просто страшные вещи!
— Лучше узнать о них прежде, чем они произошли, или по крайней мере не закрывать на них глаза, когда это уже случилось.
— И всё-таки я не решаюсь подумать о том, на что вы намекаете.
— Я пока ни на что не намекаю, господин фогт. Мы вообще любим говорить прямо, открыто. Но сейчас я только хочу предупредить вас: не думайте, что на этом Эрлихе кончается зло. Не закрывайте глаза на опасность появления врагов везде и всюду. Они есть и у вашего народа. За рубежами вашей страны и внутри их. Будьте бдительны, господин фогт, если хотите, чтобы ваш народ сохранил свободу и жизнь. Вот и всё, что я хотел сказать.
Фогт подошёл к Кручинину.
— Мы ничего не боимся, господа! Наш народ никогда не согласится продать свою свободу ни дёшево, ни за все блага мира. Он любит свою свободу, свою страну, свою историю. И позвольте мне сказать так: с тех пор, как мы знаем, что рядом с нами по северной границе живут такие друзья, как вы, мы ничего не боимся, право же, ничего!
— Вот, господа!.. — Он поднял над головой несколько листков. — Сейчас вы увидите, что значат дружеские чувства гитлеровцев к вашей стране…
Однако ему не удалось договорить: дверь комнаты порывисто распахнулась, и на пороге появилась Рагна. Одно мгновение она стояла, держась за ручку двери и не то удивлённо, не то испуганно оглядывая присутствующих. Потом ступила в комнату и захлопнула за собою дверь. Девушка была так взволнована, что не сразу удалось уловить смысл её слов. Оказалось, что когда она привела к гроту в горах отряд горожан и они вскрыли ящики, то нашли в них только камни.
— Ага! — со злорадством воскликнул Эрлих.
— Вы напрасно делаете вид, будто радуетесь, Эрлих, — сказал Кручинин. — Вы никого не обманете. Вы же отлично знаете, что не ради этик камней убили, старого шкипера и покушались на жизнь кассира.
— И всё-таки вы не получили ничего, кроме камней! — со злорадством воскликнул Эрлих.
— Пока да, — спокойно согласился Кручинин. — Но из этого не следует, что тем дело и кончится. Повторяю: не ради же тайны нескольких булыжников вы совершили всё, что произошло здесь в эти дни!.. Или вы сами хорошенько не знали, что творите?
— Я всегда знаю, зачем делаю то или другое, — нагло усмехнулся нацист.
— Вот-вот. Вы давно узнали, что Эдвард проник в вашу тайну, вернее, пока только в тайну вашего клада. Вы испугались того, что он может поделиться ею ещё с кем-нибудь, а там, за кладом, дело дойдёт и до вас. Так?
Пленник пожал плечами.
— Должен сознаться, что этот сюрприз с ящиками меня несколько озадачивает. Но… — Кручинин покрутил кончик бороды. — Я верю в старую поговорку: нет ничего тайного, что не стало бы явным… Право, уж очень не хочется мне допустить мысль, будто вы, Эрлих, были так предусмотрительны, что заблаговременно убрали свой клад из тайника… Кроме этой небольшой загадки, нам остаётся выяснить только, как вы узнали, что шкипер раскрыл тайну клада…
Но фашист перебил его:
— Тут-то уж вы ни при чем: я просто подслушал его разговор с Оле на «Анне».
Старый фогт поднялся со своего места и гневно сказал:
— Вы дерзкий негодяй, Эрлих! По вине предателя Квислинга наш народ достаточно хорошо узнал, чего стоит фашизм, и больше никогда не попадёт в его сети.
— Не будьте так самоуверенны, фогт, — со смехом ответил Эрлих. — Там, где был один Квислинг, может найтись ещё десять.
Фогт в негодовании потряс кулаком:
— Никогда! Слышите вы, никогда!.. Мы обнажаем головы перед могилами советских солдат, проливших кровь за избавление нашей страны от таких, как вы. Народ наш, простой и мудрый народ, всегда был честен и будет честен. Он всегда был храбр и будет храбр. Он всегда любил свободу и свою отчизну и всегда будет их любить. Если тёмные силы помешали нам отстоять честь родины в годы фашизма, то из этого не следует, что в следующий раз мы не сумеем отстоять её. Таким, как вы, конец. Навсегда! Навсегда, говорю вам! — И фогт топнул ногой.
А Эрлих ответил ему издевательским смехом.
— Как жаль, что я не облечён властью тут же вешать таких! — задыхаясь, проговорил фогт.
— Хорошо, что у вас нет такой власти. А то бы вы сгоряча могли совершить этот справедливый, но несвоевременный шаг, — с улыбкой проговорил Кручинин.
— Вы считаете несвоевременным наказание такого преступника? — удивился старик.
— Прежде чем мы не узнали всех, кто стоит за ним? Разумеется! Ведь он не один, и наши народы, все мы хотим знать их имена, хотим знать их планы, хотим…
Но старик в нетерпении перебил:
— Война окончена. Победа за нами. Хозяева Эрлиха нам больше не страшны. Это призраки. У них нет ни власти приказывать, ни средств осуществлять свои планы. С ними покончено. Покончено вашими же руками.
— Я знаю силу наших рук, господин фогт, — спокойно ответил Кручинин. — Знаю силу своего народа, знаю силу народов, которые плечо к плечу с нами шли к победе. Но вы ошиблись дважды. Во-первых, в том, что война окончена…
— Но…
Кручинин остановил его, подняв руку.
— Война продолжается. Она шла, идёт и долго ещё будет идти на фронте, которого никто из нас не видит, на котором нет ни канонады, ни шумных битв. Битва продолжается за кулисами той войны, которая шла у всех на глазах. И, как всякое сражение, особенно тайное, эта битва впотьмах чревата большими неожиданностями. Очень большими неожиданностями, господин фогт.
— Вы намекаете на возможность их победы?
— Нет, я имею в виду совсем другое: речь идёт о расстановке сил. Тот, кто в видимой войне стоял по одну сторону барьера, в тайной может оказаться по другую его сторону. Тот, кто был нашим союзником вчера, сегодня может тайно перейти на сторону врага, а завтра открыто обнажить меч против нас.
— Вы говорите ужасные вещи, господин Кручинин. Просто страшные вещи!
— Лучше узнать о них прежде, чем они произошли, или по крайней мере не закрывать на них глаза, когда это уже случилось.
— И всё-таки я не решаюсь подумать о том, на что вы намекаете.
— Я пока ни на что не намекаю, господин фогт. Мы вообще любим говорить прямо, открыто. Но сейчас я только хочу предупредить вас: не думайте, что на этом Эрлихе кончается зло. Не закрывайте глаза на опасность появления врагов везде и всюду. Они есть и у вашего народа. За рубежами вашей страны и внутри их. Будьте бдительны, господин фогт, если хотите, чтобы ваш народ сохранил свободу и жизнь. Вот и всё, что я хотел сказать.
Фогт подошёл к Кручинину.
— Мы ничего не боимся, господа! Наш народ никогда не согласится продать свою свободу ни дёшево, ни за все блага мира. Он любит свою свободу, свою страну, свою историю. И позвольте мне сказать так: с тех пор, как мы знаем, что рядом с нами по северной границе живут такие друзья, как вы, мы ничего не боимся, право же, ничего!
Плут Оле
Друзья собрались в обратный путь. Им уже не было надобности совершать его пешком, хотя Грачик с большим удовольствием закинул бы за спину мешок и с палкой в руках снова промерял своими шагами склоны живописного хребта. Это было бы ему не менее приятно, нежели плыть на «Анне» в обществе закованного в наручники Эрлиха. Правда, тот вёл себя теперь вполне спокойно, видимо смирившись с перспективой путешествия в советский суд, но при всякой встрече с Кручининым или с Грачиком пытался возобновить спор о несовершенстве советской системы правосудия. В последний раз, по-видимому пытаясь дознаться, что его ждёт, он сказал:
— И всё-таки, предстань я перед беспристрастным судом присяжных, они бы меня оправдали. — Он хотел улыбнуться, но это ему плохо удалось. Заискивающе заглядывая снизу в глаза Кручинину, он с трудом выговорил: — Ваши меня… повесят?
Кручинину показалось, что губы Эрлиха плохо его слушаются. Не потому ли, задав этот вопрос, он так плотно сжал их?
— Не знаю, — сказал Кручинин так, словно речь шла о чём-то совсем незначительном. — Право, не знаю… Может быть, и повесят. Но… — Помолчав, он продолжал: — Вы напрасно воображаете, будто оправдательный приговор суда, который вам кажется спасением, действительно явился бы оправданием. Когда оправдательный приговор вынесен за недостаточностью улик, он малого стоит. Это же совсем не то, что доказать невиновность.
Было ясно, что эти отличия сущности оправдательного приговора мало волнуют Эрлиха. Его больше интересовал вопрос — может ли он избежать петли?
— Вы, видимо, издеваетесь надо мной?!
— А вы полагаете, что моральная суть приговора не имеет значения? — спросил Кручинин. — Может быть, и так. Для психологии убийцы важно одно: заплатит ли он своей жизнью за жизнь других или нет?
Наступил последний вечер их пребывания в городке. Было уже поздно, и тишина стекала с гор вместе с сырой вечерней мглой. Она ползла на запад, к едва слышному отсюда шороху моря.
Грачик долго гулял по дороге, ведущей в горы, потом сел на камень и задумался. Ему показалось, что со стороны гор, оттуда, куда убегает светлая полоса шоссе, доносится какой-то странный напев. Он прислушался. Да, это было пение. Сначала один голос, потом целый хор. Когда невидимое шествие приблизилось, Грачик различил среди голосов поющих звонкий молодой баритон. Кто-то задорно и мужественно пел о горах, о море, о чудесных девушках с толстыми золотыми косами, живущих в горах, на берегу моря. Песня показалась Грачику знакомой. Он старался вспомнить, где её слышал. А, вот что! Это та же самая песня, которую певали рыбаки на самом-самом севере этой страны, когда советские солдаты принесли им освобождение от гитлеровской оккупации… Знакомая песня… Чудесная песня чудесных людей.
Но вот до тёмных силуэтов на дороге осталось не больше сотни шагов, и Грачик пошёл им навстречу. Впереди группы шёл Оле. Это его молодой баритон звучал громче всех голосов…
Вот что Оле рассказал Грачику.
В ночь перед убийством шкипера старый Эдвард позвал его и сказал:
— Слушай, мальчик, потерпи ещё немного. О тебе многие думают плохо.
— Я это знаю, дядя Эдвард, — спокойно ответил Оле.
— Ну, и я тоже знаю, откуда они идут, эти слухи. И чего они стоят, я тоже знаю. — Лукаво прищурившись, он погрозил пальцем. — Мне известно, плут ты этакий, и я тебе скажу, мальчик: не прогони советские люди гуннов из нашей страны, быть бы тебе за колючей проволокой.
Оле беспечно махнул рукой и рассмеялся.
— Нет, дядя Эдвард. Таких, как я, гунны не держали в лагерях.
— Ну да, ты хочешь сказать, что таких гунны отводили в горы и стреляли им в затылок.
— Верно, дядя.
— Ну, так и я говорю. Я-то знаю тебя, Оле. Слушай внимательно, племянничек, что тебе скажет брат твоей матери. Я знаю, где гунны спрятали ценности наших людей. Те самые, что были в ломбарде. Ты пойдёшь в горы, найдёшь ценности и перенесёшь их в городской банк.
— Откуда вы знаете? — спросил Оле.
— Пока я тебе ничего не скажу. Вернёшься — узнаешь. Как только мы спасём ценности, мы сможем взять и последнего из гуннов, который ещё топчет нашу землю.
— Вы его знаете?
— Он от нас не уйдёт.
Оле не нужно было дважды повторять предложение. Он созвал людей, с которыми творил уже немало смелых дел, пока здесь были немцы, — тех самых людей, во главе которых он взрывал мосты и водокачки, топил фашистские суда, выкрадывал у гитлеровцев тол, убивал в горах вражеских офицеров и гестаповцев. Шкипер дал ему точные указания, где найти клад и как обмануть агентуру нацистов, взять ценности и заполнить ящик камнями. Оле отправился в путь. Он должен был уйти незаметно. Это ему почти удалось. Единственным человеком, видевшим, как он уходил, была женщина, встретившая его на повороте у могилы старого Ульсона.
Но вот что самое занятное во всем этом деле: ведь вовсе не все ящики оказались наполнены ценностями. Один из них, самый крепкий, железный, который с трудом удалось вскрыть, содержал не золото и не деньги. Он был набит…
— Ну, как вы думаете, чем? — спросил Оле у Грачика.
— Откуда мне знать?
— Бумагой! — многозначительно воскликнул Оле. — «На что нам бумага? — сказали наши люди. — Давай сожжём эту фашистскую грязь. Наверно, тут доносы. В них написана всякая мерзость про наших людей, за которыми следило гестапо». Но я им сказал: «Нет, ребята, бывает бумага, которая дороже золота и камней. Мы возьмём её с собой. Я знаю хороших людей, которые нам скажут спасибо за такую находку».
При этих словах Оле хитро подмигнул Грачику:
— Ну что? Разве я ошибся?
Грачик молча положил ему руку на плечо, а другой рукой крепко сжал широкую ладонь проводника.
— Вот и все… Теперь Оле станет шкипером «Анны» и заменит старого Эдварда, завещавшего шхуну племяннице Рагне.
— Тогда торопитесь занять свой пост у руля, — весело сказал Грачик. — «Анна» должна увезти нас отсюда на юг. Нас и арестованного.
— Просто-таки не знаю, что мне приятней: иметь на борту таких почётных гостей или такого пленника?! Просто не знаю…
И Оле снова запел о том, какою будет жизнь рыбака, если ему удастся поговорить с одной смелой голубоглазой девушкой, у которой такие золотые толстые косы…
Песня затихала вдали. Впереди своей рабочей команды широко шагал к городу Оле Ансен. Первым домиком, который он должен был встретить на своём пути, был домик Рагны Хеккерт. Грачик ясно представил себе эмалированную дощечку на калитке маленького садика «Вилла „Тихая пристань“. В окошке домика уютно светился огонёк.
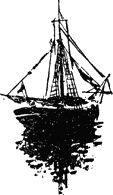
— И всё-таки, предстань я перед беспристрастным судом присяжных, они бы меня оправдали. — Он хотел улыбнуться, но это ему плохо удалось. Заискивающе заглядывая снизу в глаза Кручинину, он с трудом выговорил: — Ваши меня… повесят?
Кручинину показалось, что губы Эрлиха плохо его слушаются. Не потому ли, задав этот вопрос, он так плотно сжал их?
— Не знаю, — сказал Кручинин так, словно речь шла о чём-то совсем незначительном. — Право, не знаю… Может быть, и повесят. Но… — Помолчав, он продолжал: — Вы напрасно воображаете, будто оправдательный приговор суда, который вам кажется спасением, действительно явился бы оправданием. Когда оправдательный приговор вынесен за недостаточностью улик, он малого стоит. Это же совсем не то, что доказать невиновность.
Было ясно, что эти отличия сущности оправдательного приговора мало волнуют Эрлиха. Его больше интересовал вопрос — может ли он избежать петли?
— Вы, видимо, издеваетесь надо мной?!
— А вы полагаете, что моральная суть приговора не имеет значения? — спросил Кручинин. — Может быть, и так. Для психологии убийцы важно одно: заплатит ли он своей жизнью за жизнь других или нет?
Наступил последний вечер их пребывания в городке. Было уже поздно, и тишина стекала с гор вместе с сырой вечерней мглой. Она ползла на запад, к едва слышному отсюда шороху моря.
Грачик долго гулял по дороге, ведущей в горы, потом сел на камень и задумался. Ему показалось, что со стороны гор, оттуда, куда убегает светлая полоса шоссе, доносится какой-то странный напев. Он прислушался. Да, это было пение. Сначала один голос, потом целый хор. Когда невидимое шествие приблизилось, Грачик различил среди голосов поющих звонкий молодой баритон. Кто-то задорно и мужественно пел о горах, о море, о чудесных девушках с толстыми золотыми косами, живущих в горах, на берегу моря. Песня показалась Грачику знакомой. Он старался вспомнить, где её слышал. А, вот что! Это та же самая песня, которую певали рыбаки на самом-самом севере этой страны, когда советские солдаты принесли им освобождение от гитлеровской оккупации… Знакомая песня… Чудесная песня чудесных людей.
Но вот до тёмных силуэтов на дороге осталось не больше сотни шагов, и Грачик пошёл им навстречу. Впереди группы шёл Оле. Это его молодой баритон звучал громче всех голосов…
Вот что Оле рассказал Грачику.
В ночь перед убийством шкипера старый Эдвард позвал его и сказал:
— Слушай, мальчик, потерпи ещё немного. О тебе многие думают плохо.
— Я это знаю, дядя Эдвард, — спокойно ответил Оле.
— Ну, и я тоже знаю, откуда они идут, эти слухи. И чего они стоят, я тоже знаю. — Лукаво прищурившись, он погрозил пальцем. — Мне известно, плут ты этакий, и я тебе скажу, мальчик: не прогони советские люди гуннов из нашей страны, быть бы тебе за колючей проволокой.
Оле беспечно махнул рукой и рассмеялся.
— Нет, дядя Эдвард. Таких, как я, гунны не держали в лагерях.
— Ну да, ты хочешь сказать, что таких гунны отводили в горы и стреляли им в затылок.
— Верно, дядя.
— Ну, так и я говорю. Я-то знаю тебя, Оле. Слушай внимательно, племянничек, что тебе скажет брат твоей матери. Я знаю, где гунны спрятали ценности наших людей. Те самые, что были в ломбарде. Ты пойдёшь в горы, найдёшь ценности и перенесёшь их в городской банк.
— Откуда вы знаете? — спросил Оле.
— Пока я тебе ничего не скажу. Вернёшься — узнаешь. Как только мы спасём ценности, мы сможем взять и последнего из гуннов, который ещё топчет нашу землю.
— Вы его знаете?
— Он от нас не уйдёт.
Оле не нужно было дважды повторять предложение. Он созвал людей, с которыми творил уже немало смелых дел, пока здесь были немцы, — тех самых людей, во главе которых он взрывал мосты и водокачки, топил фашистские суда, выкрадывал у гитлеровцев тол, убивал в горах вражеских офицеров и гестаповцев. Шкипер дал ему точные указания, где найти клад и как обмануть агентуру нацистов, взять ценности и заполнить ящик камнями. Оле отправился в путь. Он должен был уйти незаметно. Это ему почти удалось. Единственным человеком, видевшим, как он уходил, была женщина, встретившая его на повороте у могилы старого Ульсона.
Но вот что самое занятное во всем этом деле: ведь вовсе не все ящики оказались наполнены ценностями. Один из них, самый крепкий, железный, который с трудом удалось вскрыть, содержал не золото и не деньги. Он был набит…
— Ну, как вы думаете, чем? — спросил Оле у Грачика.
— Откуда мне знать?
— Бумагой! — многозначительно воскликнул Оле. — «На что нам бумага? — сказали наши люди. — Давай сожжём эту фашистскую грязь. Наверно, тут доносы. В них написана всякая мерзость про наших людей, за которыми следило гестапо». Но я им сказал: «Нет, ребята, бывает бумага, которая дороже золота и камней. Мы возьмём её с собой. Я знаю хороших людей, которые нам скажут спасибо за такую находку».
При этих словах Оле хитро подмигнул Грачику:
— Ну что? Разве я ошибся?
Грачик молча положил ему руку на плечо, а другой рукой крепко сжал широкую ладонь проводника.
— Вот и все… Теперь Оле станет шкипером «Анны» и заменит старого Эдварда, завещавшего шхуну племяннице Рагне.
— Тогда торопитесь занять свой пост у руля, — весело сказал Грачик. — «Анна» должна увезти нас отсюда на юг. Нас и арестованного.
— Просто-таки не знаю, что мне приятней: иметь на борту таких почётных гостей или такого пленника?! Просто не знаю…
И Оле снова запел о том, какою будет жизнь рыбака, если ему удастся поговорить с одной смелой голубоглазой девушкой, у которой такие золотые толстые косы…
Песня затихала вдали. Впереди своей рабочей команды широко шагал к городу Оле Ансен. Первым домиком, который он должен был встретить на своём пути, был домик Рагны Хеккерт. Грачик ясно представил себе эмалированную дощечку на калитке маленького садика «Вилла „Тихая пристань“. В окошке домика уютно светился огонёк.