Николай Николаевич Шпанов
Дело Ансена
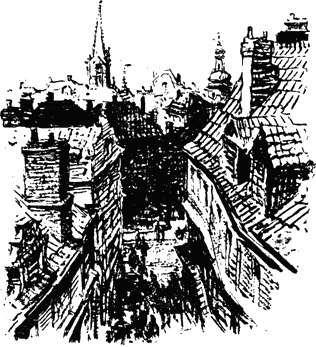

Проводник и дорога
Кручинин и Грачик совершали путешествие через горы, мощный кряж которых рассекает один из северных полуостровов Европы.
Грачик, человек молодой, к тому же уроженец горной страны, шёл легко. Но Кручинину было не так просто в одни сутки стать альпинистом.
Сверкающая поверхность фирнов удесятеряла и без того ослепительное сияние весеннего солнца. Одного этого сияния, казалось Кручинину, достаточно, чтобы утомить непривычного человека. Но на деле угнетающее сверкание сверху, снизу, со всех сторон было лишь незначительным обстоятельством, по-видимому вовсе и не замечаемым спутниками Кручинина.
В течение первого дня пути, Кручинин не переставал про себя удивляться чувству неуверенности, какое овладевало им едва ли не всякий раз, когда он ступал в этих горах на поверхность снега или льда. Он, кажется, никогда не был трусом. А состояние, в котором он сейчас находился, было недалеко от страха. Да, именно от страха! Как иначе можно назвать то, что он испытывал, ступая на снежный покров вблизи перевала? Ему казалось, что этот покров зыбок и непрочен, что он скрывает под собою предательские пропасти и трещины. Разве не достаточно веса его собственного, кручининского тела, чтобы продавить тонкий покров и…
Право, странно! Звонкий хруст снега под ногами или под лыжами всегда бодряще действовал на него дома. А здесь этот же звук вдруг оказался такой нагрузкой для нервов, что они не выходили из состоянии напряжения.
Снежные вершины гор светились розоватой прозрачностью филигранных корон. Все было величественно, холодно-сурово. Но, оказывается, при ближайшем знакомстве горы таили в себе неожиданные для путника-новичка трудности. Кручинин уже не испытывал прежнего гордого ощущения собственной силы, обычно рождающегося у него при взгляде на далёкий горный пейзаж.
Временами, когда путь становился особенно трудным, Кручинину казалось, что сил у него осталось всего на несколько шагов. Вот он сделает их и должен будет, к своему стыду, опуститься на землю и признать себя побеждённым.
Но он собирал силы и давал себе слово сделать ещё несколько шагов. Не дать бы спутникам ничего заметить, прежде чем он не минует вон ту скалу или вон тот провал! Стыд за свою слабость гнал его. Самый обыкновенный стыд перед спутниками.
Страх, испытываемый перед снегом, неуверенность в том, что удастся добраться до следующего бивака, желание броситься наземь и не двигаться — все это представлялось ему плодом отвратительной физической слабости. Такая неполноценность — а иначе он это назвать не мог — появилась в результате сидячей жизни. Вместо лыж, вместо тенниса, велосипеда, охоты — смешные потуги поддержать свои силы, подвижность, выносливость, размахивая по утрам руками и поднимая с пола рассыпанные спички?! Старушечьи, тепличные пустяки! Просто удивительно, как быстро человек размагничивается, как стремительно дрябнут мышцы, дряхлеет тело, стоит лишь забыть о его потребности в воздухе, в движении! И вот расплата: страх перед трещинами, страх перед снегом, перед подъёмами, боль в спине, ноющие ноги, слезящиеся глаза… Стыд, стыд, стыд!
Кручинин решил взять себя в руки. Добравшись до очередной ночёвки, он не позволил Грачику притронуться к своему рюкзаку и вместе с другими принялся за устройство ночлега. Никто не видел, как он стиснул зубы, распрямляя наконец спину в спальном мешке.
С первых же шагов второго дня пути Кручинин был уверен, что его уже ничем не возьмёшь. Он испытывал наслаждение оттого, что сам подкинул на спину свой мешок и застегнул ремни, что ему не понадобилась помощь для преодоления трещины, перегородившей дорогу на первом же километре. Он ещё и сам протянул палку Грачику, замыкавшему шествие.
Сегодня Кручинин шёл, не отставая от остальных, хотя ноги у него болели вдвое больше, чем вчера, и рюкзак казался втрое тяжелее. Особенно трудно приходилось на крутых спусках. Подкованные шипами горные ботинки скользили вместе с осыпающимися камнями. Он спокойно проехал несколько десятков метров на спине вместе с массой выветренного шифера. Если бы не тяжёлый рюкзак, никто бы и не заметил, как трудно ему было подняться на ноги…
Целью путешествия наших друзей был глухой прибрежный приход. Большую часть года он не имел других путей сообщения со страной, кроме троп, идущих через горы.
На подготовку к этому походу Кручинину было дано двадцать четыре часа. Все время ушло на ознакомление с материалами, характеризующими обстановку, в которой предстояло побывать. Военные действия закончились, страна была освобождена от нацистов, и Советская Армия отвела свои части. Несмотря на дружеское отношение населения к советским людям, можно было ждать сюрпризов от прячущейся по щелям агентуры гитлеровцев и от квислинговских последышей.
Выбор снаряжения для похода оказался совсем не простым делом. Как ни странно, но годы войны в горной местности далёкого Севера не заставили наших интендантов задуматься над вопросами одежды и снаряжения. По-видимому, считалось, что сапог, в котором русский солдат 1814 года дошёл до Парижа, вполне пригоден и в наши дни, и в данной обстановке. Кабинетные деятели полагали: рубаха и штаны всегда остаются рубахой и штанами. Это предметы воинского гардероба, предназначенные укрывать наготу тела выше и ниже пояса, будь то под палящим солнцем Средней Азии или на границе Арктики. О специальных же предметах горного, лыжного или иного снаряжения интенданты, к которым пришёл Грачик, просто никогда не слыхали. Они не дали себе труда хотя бы скопировать что-либо у тех, кто занимался этим делом до них. Снабженцы могли предложить путникам комплекты обмундирования, старательно расписанные по номерам от «Формы № 1» до «Формы № 8», но ледорубы и тёмные очки, не говоря уже о рюкзаках и горной обуви, пришлось наспех покупать в городских лавочках.
Друзья шли третий день, они приближались к цели. Вероятно, это было его воображением, но Кручинин мог поклясться, что чует запах моря, которого ещё не было видно, и слышит шорох прибоя. Быть может, только отбрасываемое далёким морем сияние заката стало алее и ярче, чем вчера и позавчера. Вот и все. Но всякий, кому доводилось сильно уставать в дальней дороге, знает, с какой жадностью ловятся любые приметы конца пути. Хочется, чтобы каждая из них означала освобождение от тяжкой ноши на спине, от тяжёлых сапог, от отяжелевшей палки и даже от шапки, тяжелеющей с каждым шагом так, словно она наливается свинцом.
Кручинин мысленно подтрунивал над самим собой и заставлял себя смотреть под ноги, чтобы не искать на горизонте обнадёживающих примет конца пути. Тем более что хорошо понимал: конца ещё не видно, до него далеко.
К удивлению спутников, когда спуски не требовали такого напряжения сил, как подъёмы, Кручинин пробовал даже насвистывать что-то весёлое. Впрочем, удивлялся этому, пожалуй, один только Грачик. Второй спутник делал вид, что в этом нет ничего удивительного. Не поворачивая головы, он продолжал с постоянством и равномерностью робота переставлять ноги, чуть-чуть ссутулив плечи под тяжестью рюкзака, возвышавшегося на его загорбке подобно зеленой горе из ремней и брезента.
Этим вторым был Оле Ансен.
Проводник Оле Ансен был высокий широкоплечий парень с открытым лицом и длинными, зачёсанными назад прядями светлых волос. Лицо его так обветрило, что кожа казалась покрытой тонким слоем блестящего красного металла; глаза его, голубые, с чуть-чуть большей долей хитринки, чем нужно, чтобы внушать доверие, привыкли к яркому свету. Он не щурился даже тогда, когда снег под прямыми лучами солнца вскидывал вверх ослепительные каскады розовых, синих и лиловых искр, заставлявших Кручинина и Грачика загораживаться ладонями, словно в лицо им била вспышка вольтовой дуги.
Платье на Оле было просто, даже грубо, но словно создано специально для него лучшим мастером походного снаряжения. И даже огромные горные ботинки с непомерно толстой подошвой на шипах казались единственной обувью, какая ему пристала и в какой он, вероятно, так же свободно мог пуститься в пляс, как шагал по хрусткому фирну.
Кручинин не мог себе и представить этого детину иначе, нежели вышагивающим, чуть-чуть нагнув голову и сдвинув набекрень шапку, с высоким горбом рюкзака, как бы вросшим в его спину. Но стоило Оле сбросить этот горб и грубую куртку с оттопыренными карманами, как он становился стройным и гибким. Толстый свитер плотно облегал его могучую грудь и мускулистые бугры широких плеч. И это тоже было так органично и естественно для него, точно иначе он никогда не выглядел, да и не мог выглядеть.
Оле не был угрюм, но спутники не слышали от него ни одного лишнего слова. Он охотно отвечал на вопросы, но сам не задал ни одного, кроме тех, какие прямо относились к обстоятельствам пути. Он никому не навязывался с услугами, но без просьб оказывал помощь, стоило лишь ему заметить, что в ней нуждаются. И делал это со снисходительным достоинством сильного среди слабых, ни разу, однако, не подчеркнув своего превосходства.
В последнее утро пути Грачик проснулся, когда уже почти рассвело. Первое, что он увидел в сером сумраке, была фигура Оле. На красной коже его лица плясали едва заметные блики от пламени спиртовки, горевшей внутри глубокой кастрюли. Лёгкий порыв ветра донёс до Грачика запах кофе. По тому, как пар поднимался над кастрюлей — не острой, стремительной струйкой из горлышка кофейника, а едва заметным расплывчатым облачком, — Грачик понял, что кофе ещё не вскипел. Но едва он успел это подумать, как Оле приподнял крышку стоявшего в кастрюле кофейника и сосредоточенно уставился на него, чтобы не пропустить момент, когда вскипевшая жидкость захочет перелиться через край. Он выхватил кофейник из кастрюли со спиртовкой как раз в тот момент, когда кофе вспух бурлящей, пузырящейся шапкой — и ещё секунда, перелился бы через край. Но крышка была уже захлопнута, кофейник поставлен в другую кастрюлю и накрыт брезентовой курткой. Над взвившимся острым синим язычком пламени Оле водрузил сковороду с большим куском маргарина. И опять-таки, едва маргарин растаял, уже готовы были куски тонко нарезанного хлеба. Через две-три минуты они зашипели.
Оле действовал как человек, уверенный в том, что за ним никто не наблюдает: его движения оставались, как всегда, непринуждёнными, свободными, но очень точными.
Грачик с интересом глядел, как во всех своих хозяйственных манипуляциях Оле ловко действует ложкой: ею он отмеривал и мешал кофе, накладывал маргарин, переворачивал гренки, подхватывал под донышко горячий кофейник и даже загораживал пламя спиртовки от ветра. Ложка была в его руках поистине универсальным орудием — большая, загребистая, с толстым, в два пальца, черенком. Отлитая для себя каким-то прожорливым нацистом, она, наверно, показалась ему слишком обременительной, когда пришлось драпать из этой страны. Оле нашёл её в горах на пути отступления гитлеровцев. Это был его трофей. Он считал его единственно полезным из всего, что побросали немцы на пути своего бегства.
Когда над сковородкой поднялся аромат зажаривающегося хлеба, Оле проговорил:
— Он так и будет спать?.. Спирта осталось только на обед.
При этом он движением крепкого подбородка указал на спящего Кручинина. Но именно тут клапан спального мешка, закрывавший лицо Кручинина, откинулся, и тот весело воскликнул:
— Чтобы я прозевал кофе? Ну нет, такого ещё не бывало!
Через девять минут кофейник был опустошён, последний кусок поджаренного хлеба, умело подсунутый Кручинину, съеден, а последняя галета вкусно похрустывала на крепких зубах Оле.
Кручинин отошёл на несколько шагов от бивака и огляделся. Сегодня, в косых лучах низкого солнца, бесконечная панорама гор выглядела ещё более сурово. Их западные склоны были почти чёрными и уходили подножиями в бездонные пропасти. Далеко внизу, там, где уже не было снега и кончалась нежная зелень альпийских лугов, пейзаж утрачивал свою неприветливость. Присутствие леса создавало иллюзию теплоты и, может быть, даже населённости, хотя, насколько хватал глаз, не было видно ни жилья, ни хотя бы струйки дыма. Но сегодня даже вся эта суровость и нерушимая тишина безлюдья уже не только не угнетали Кручинина, а казались ему почти привычными и обязательными атрибутами путешествия. На какой-то миг ему стало даже немного жаль того, что скоро этому путешествию конец.
Оле почистил сковороду, выплеснул гущу из кофейника. Путники собрались и тронулись дальше. Начинался спуск к западному подножию хребта, навстречу морю.
Грачик, человек молодой, к тому же уроженец горной страны, шёл легко. Но Кручинину было не так просто в одни сутки стать альпинистом.
Сверкающая поверхность фирнов удесятеряла и без того ослепительное сияние весеннего солнца. Одного этого сияния, казалось Кручинину, достаточно, чтобы утомить непривычного человека. Но на деле угнетающее сверкание сверху, снизу, со всех сторон было лишь незначительным обстоятельством, по-видимому вовсе и не замечаемым спутниками Кручинина.
В течение первого дня пути, Кручинин не переставал про себя удивляться чувству неуверенности, какое овладевало им едва ли не всякий раз, когда он ступал в этих горах на поверхность снега или льда. Он, кажется, никогда не был трусом. А состояние, в котором он сейчас находился, было недалеко от страха. Да, именно от страха! Как иначе можно назвать то, что он испытывал, ступая на снежный покров вблизи перевала? Ему казалось, что этот покров зыбок и непрочен, что он скрывает под собою предательские пропасти и трещины. Разве не достаточно веса его собственного, кручининского тела, чтобы продавить тонкий покров и…
Право, странно! Звонкий хруст снега под ногами или под лыжами всегда бодряще действовал на него дома. А здесь этот же звук вдруг оказался такой нагрузкой для нервов, что они не выходили из состоянии напряжения.
Снежные вершины гор светились розоватой прозрачностью филигранных корон. Все было величественно, холодно-сурово. Но, оказывается, при ближайшем знакомстве горы таили в себе неожиданные для путника-новичка трудности. Кручинин уже не испытывал прежнего гордого ощущения собственной силы, обычно рождающегося у него при взгляде на далёкий горный пейзаж.
Временами, когда путь становился особенно трудным, Кручинину казалось, что сил у него осталось всего на несколько шагов. Вот он сделает их и должен будет, к своему стыду, опуститься на землю и признать себя побеждённым.
Но он собирал силы и давал себе слово сделать ещё несколько шагов. Не дать бы спутникам ничего заметить, прежде чем он не минует вон ту скалу или вон тот провал! Стыд за свою слабость гнал его. Самый обыкновенный стыд перед спутниками.
Страх, испытываемый перед снегом, неуверенность в том, что удастся добраться до следующего бивака, желание броситься наземь и не двигаться — все это представлялось ему плодом отвратительной физической слабости. Такая неполноценность — а иначе он это назвать не мог — появилась в результате сидячей жизни. Вместо лыж, вместо тенниса, велосипеда, охоты — смешные потуги поддержать свои силы, подвижность, выносливость, размахивая по утрам руками и поднимая с пола рассыпанные спички?! Старушечьи, тепличные пустяки! Просто удивительно, как быстро человек размагничивается, как стремительно дрябнут мышцы, дряхлеет тело, стоит лишь забыть о его потребности в воздухе, в движении! И вот расплата: страх перед трещинами, страх перед снегом, перед подъёмами, боль в спине, ноющие ноги, слезящиеся глаза… Стыд, стыд, стыд!
Кручинин решил взять себя в руки. Добравшись до очередной ночёвки, он не позволил Грачику притронуться к своему рюкзаку и вместе с другими принялся за устройство ночлега. Никто не видел, как он стиснул зубы, распрямляя наконец спину в спальном мешке.
С первых же шагов второго дня пути Кручинин был уверен, что его уже ничем не возьмёшь. Он испытывал наслаждение оттого, что сам подкинул на спину свой мешок и застегнул ремни, что ему не понадобилась помощь для преодоления трещины, перегородившей дорогу на первом же километре. Он ещё и сам протянул палку Грачику, замыкавшему шествие.
Сегодня Кручинин шёл, не отставая от остальных, хотя ноги у него болели вдвое больше, чем вчера, и рюкзак казался втрое тяжелее. Особенно трудно приходилось на крутых спусках. Подкованные шипами горные ботинки скользили вместе с осыпающимися камнями. Он спокойно проехал несколько десятков метров на спине вместе с массой выветренного шифера. Если бы не тяжёлый рюкзак, никто бы и не заметил, как трудно ему было подняться на ноги…
Целью путешествия наших друзей был глухой прибрежный приход. Большую часть года он не имел других путей сообщения со страной, кроме троп, идущих через горы.
На подготовку к этому походу Кручинину было дано двадцать четыре часа. Все время ушло на ознакомление с материалами, характеризующими обстановку, в которой предстояло побывать. Военные действия закончились, страна была освобождена от нацистов, и Советская Армия отвела свои части. Несмотря на дружеское отношение населения к советским людям, можно было ждать сюрпризов от прячущейся по щелям агентуры гитлеровцев и от квислинговских последышей.
Выбор снаряжения для похода оказался совсем не простым делом. Как ни странно, но годы войны в горной местности далёкого Севера не заставили наших интендантов задуматься над вопросами одежды и снаряжения. По-видимому, считалось, что сапог, в котором русский солдат 1814 года дошёл до Парижа, вполне пригоден и в наши дни, и в данной обстановке. Кабинетные деятели полагали: рубаха и штаны всегда остаются рубахой и штанами. Это предметы воинского гардероба, предназначенные укрывать наготу тела выше и ниже пояса, будь то под палящим солнцем Средней Азии или на границе Арктики. О специальных же предметах горного, лыжного или иного снаряжения интенданты, к которым пришёл Грачик, просто никогда не слыхали. Они не дали себе труда хотя бы скопировать что-либо у тех, кто занимался этим делом до них. Снабженцы могли предложить путникам комплекты обмундирования, старательно расписанные по номерам от «Формы № 1» до «Формы № 8», но ледорубы и тёмные очки, не говоря уже о рюкзаках и горной обуви, пришлось наспех покупать в городских лавочках.
Друзья шли третий день, они приближались к цели. Вероятно, это было его воображением, но Кручинин мог поклясться, что чует запах моря, которого ещё не было видно, и слышит шорох прибоя. Быть может, только отбрасываемое далёким морем сияние заката стало алее и ярче, чем вчера и позавчера. Вот и все. Но всякий, кому доводилось сильно уставать в дальней дороге, знает, с какой жадностью ловятся любые приметы конца пути. Хочется, чтобы каждая из них означала освобождение от тяжкой ноши на спине, от тяжёлых сапог, от отяжелевшей палки и даже от шапки, тяжелеющей с каждым шагом так, словно она наливается свинцом.
Кручинин мысленно подтрунивал над самим собой и заставлял себя смотреть под ноги, чтобы не искать на горизонте обнадёживающих примет конца пути. Тем более что хорошо понимал: конца ещё не видно, до него далеко.
К удивлению спутников, когда спуски не требовали такого напряжения сил, как подъёмы, Кручинин пробовал даже насвистывать что-то весёлое. Впрочем, удивлялся этому, пожалуй, один только Грачик. Второй спутник делал вид, что в этом нет ничего удивительного. Не поворачивая головы, он продолжал с постоянством и равномерностью робота переставлять ноги, чуть-чуть ссутулив плечи под тяжестью рюкзака, возвышавшегося на его загорбке подобно зеленой горе из ремней и брезента.
Этим вторым был Оле Ансен.
Проводник Оле Ансен был высокий широкоплечий парень с открытым лицом и длинными, зачёсанными назад прядями светлых волос. Лицо его так обветрило, что кожа казалась покрытой тонким слоем блестящего красного металла; глаза его, голубые, с чуть-чуть большей долей хитринки, чем нужно, чтобы внушать доверие, привыкли к яркому свету. Он не щурился даже тогда, когда снег под прямыми лучами солнца вскидывал вверх ослепительные каскады розовых, синих и лиловых искр, заставлявших Кручинина и Грачика загораживаться ладонями, словно в лицо им била вспышка вольтовой дуги.
Платье на Оле было просто, даже грубо, но словно создано специально для него лучшим мастером походного снаряжения. И даже огромные горные ботинки с непомерно толстой подошвой на шипах казались единственной обувью, какая ему пристала и в какой он, вероятно, так же свободно мог пуститься в пляс, как шагал по хрусткому фирну.
Кручинин не мог себе и представить этого детину иначе, нежели вышагивающим, чуть-чуть нагнув голову и сдвинув набекрень шапку, с высоким горбом рюкзака, как бы вросшим в его спину. Но стоило Оле сбросить этот горб и грубую куртку с оттопыренными карманами, как он становился стройным и гибким. Толстый свитер плотно облегал его могучую грудь и мускулистые бугры широких плеч. И это тоже было так органично и естественно для него, точно иначе он никогда не выглядел, да и не мог выглядеть.
Оле не был угрюм, но спутники не слышали от него ни одного лишнего слова. Он охотно отвечал на вопросы, но сам не задал ни одного, кроме тех, какие прямо относились к обстоятельствам пути. Он никому не навязывался с услугами, но без просьб оказывал помощь, стоило лишь ему заметить, что в ней нуждаются. И делал это со снисходительным достоинством сильного среди слабых, ни разу, однако, не подчеркнув своего превосходства.
В последнее утро пути Грачик проснулся, когда уже почти рассвело. Первое, что он увидел в сером сумраке, была фигура Оле. На красной коже его лица плясали едва заметные блики от пламени спиртовки, горевшей внутри глубокой кастрюли. Лёгкий порыв ветра донёс до Грачика запах кофе. По тому, как пар поднимался над кастрюлей — не острой, стремительной струйкой из горлышка кофейника, а едва заметным расплывчатым облачком, — Грачик понял, что кофе ещё не вскипел. Но едва он успел это подумать, как Оле приподнял крышку стоявшего в кастрюле кофейника и сосредоточенно уставился на него, чтобы не пропустить момент, когда вскипевшая жидкость захочет перелиться через край. Он выхватил кофейник из кастрюли со спиртовкой как раз в тот момент, когда кофе вспух бурлящей, пузырящейся шапкой — и ещё секунда, перелился бы через край. Но крышка была уже захлопнута, кофейник поставлен в другую кастрюлю и накрыт брезентовой курткой. Над взвившимся острым синим язычком пламени Оле водрузил сковороду с большим куском маргарина. И опять-таки, едва маргарин растаял, уже готовы были куски тонко нарезанного хлеба. Через две-три минуты они зашипели.
Оле действовал как человек, уверенный в том, что за ним никто не наблюдает: его движения оставались, как всегда, непринуждёнными, свободными, но очень точными.
Грачик с интересом глядел, как во всех своих хозяйственных манипуляциях Оле ловко действует ложкой: ею он отмеривал и мешал кофе, накладывал маргарин, переворачивал гренки, подхватывал под донышко горячий кофейник и даже загораживал пламя спиртовки от ветра. Ложка была в его руках поистине универсальным орудием — большая, загребистая, с толстым, в два пальца, черенком. Отлитая для себя каким-то прожорливым нацистом, она, наверно, показалась ему слишком обременительной, когда пришлось драпать из этой страны. Оле нашёл её в горах на пути отступления гитлеровцев. Это был его трофей. Он считал его единственно полезным из всего, что побросали немцы на пути своего бегства.
Когда над сковородкой поднялся аромат зажаривающегося хлеба, Оле проговорил:
— Он так и будет спать?.. Спирта осталось только на обед.
При этом он движением крепкого подбородка указал на спящего Кручинина. Но именно тут клапан спального мешка, закрывавший лицо Кручинина, откинулся, и тот весело воскликнул:
— Чтобы я прозевал кофе? Ну нет, такого ещё не бывало!
Через девять минут кофейник был опустошён, последний кусок поджаренного хлеба, умело подсунутый Кручинину, съеден, а последняя галета вкусно похрустывала на крепких зубах Оле.
Кручинин отошёл на несколько шагов от бивака и огляделся. Сегодня, в косых лучах низкого солнца, бесконечная панорама гор выглядела ещё более сурово. Их западные склоны были почти чёрными и уходили подножиями в бездонные пропасти. Далеко внизу, там, где уже не было снега и кончалась нежная зелень альпийских лугов, пейзаж утрачивал свою неприветливость. Присутствие леса создавало иллюзию теплоты и, может быть, даже населённости, хотя, насколько хватал глаз, не было видно ни жилья, ни хотя бы струйки дыма. Но сегодня даже вся эта суровость и нерушимая тишина безлюдья уже не только не угнетали Кручинина, а казались ему почти привычными и обязательными атрибутами путешествия. На какой-то миг ему стало даже немного жаль того, что скоро этому путешествию конец.
Оле почистил сковороду, выплеснул гущу из кофейника. Путники собрались и тронулись дальше. Начинался спуск к западному подножию хребта, навстречу морю.
Как скрещиваются пути
Однако, прежде чем продолжать повествование, необходимо ближе познакомить читателя с тем, кто такие Кручинин и Грачик, рассказать, как сошлись пути их жизни и дружбы, приведшие обоих в эту чужую страну. Первое, что следует сказать: Грачик — вовсе не фамилия Сурена Тиграновича. В паспорте у него совершенно ясно написано «Грачьян». Это и правильно. Но в те времена, когда С. Т. Грачьян бегал ещё в коротких штанишках, он однажды принёс домой подбитого кем-то птенца-грачонка, вылечил его и вырастил. Юный друг птиц был смугл, вертляв и так же доверчиво глядел на людей чёрными бусинками глаз, как его пернатый питомец. Вероятно, поэтому к мальчику легко и пристало как-то брошенное матерью ласковое «Грачик». В семье его стали так называть. Сначала в шутку, потом привыкли. Прозвище осталось за ним в школе, а в университет юноша так и ушёл Грачиком. Быть может, некоторым блюстителям официальности это покажется нарушением порядка, но уютное прозвище оказалось в такой степени подходящим к весёлому нраву доброго и деятельного молодого человека, что со временем кличка стала как бы вторым — дружеским и интимным — именем товарища Грачьяна.
Знакомство Кручинина и Грачика произошло в одном из санаториев, примечательном только тем, что он расположен в весьма живописной местности, на берегу широкой, вольной реки. Сурен Тигранович Грачьян увидел Нила Платоновича Кручинина посреди залитого солнечным светом лужка — там, куда не доставали тени берёзок. Кручинин, прищурившись, глядел на стоящий перед ним мольберт. Время от времени он делал несколько мазков, отходил, склонив голову, и, прицелившись прищуренным глазом, снова прикасался кистью к холсту — словно наносил укол. Опять отходил и, прищурившись, глядел на сделанное.
Грачику понравился этот человек, одинаково благожелательно, но без малейшего оттенка навязчивости относившийся к окружающим. Старые и молодые, стоявшие на самых различных ступенях служебной лестницы, — все встречали в нём одинаково приветливого собеседника и внимательного слушателя. Кстати говоря, Грачик очень скоро отметил ещё одно нечастое в нашем быту качество Кручинина: он удивительно умел слушать людей. Никогда его лицо не отражало досады или нетерпения, как бы скучен и до очевидности неинтересен ни был ему рассказ.
Ни костюм, ни манеры Кручинина, ни его разговоры не позволяли определить его профессию или общественное положение. Это мог быть и врач, и инженер, и учёный — представитель любой интеллигентней профессии и любого вида искусства. Исключалась разве только профессия актёра: лицо Кручинина обрамляла мягкая бородка; аккуратно подстриженные усы скрывали верхнюю губу.
Была во внешности Кручинина одна особенность, мимо которой не мог пройти внимательный наблюдатель: его руки — сильные, но с узкой гладкой кистью и длинными тонкими пальцами. Его руки были, пожалуй, самыми красивыми, какие когда-либо доводилось видеть Грачику. Вероятно, именно такими руками должен был обладать тонкий ваятель или вдохновенный музыкант. И именно такие чуткие, длинные, словно живущие самостоятельной одухотворённой жизнью пальцы должны были наносить на нотные строки нервные мелодии Скрябина.
Основательно или нет, но Грачик считал музыку самым рафинированным видом искусства. А в музыке для него не было ничего рафинированней скрябинского наследия.
Кручинин не принадлежал к числу тех, кто встречает людей только по наружности. Тем не менее изучение внешности всегда имело существенное влияние на его отношение к собеседнику. По мнению Кручинина, пословица «по одёжке встречают…» совершенно незаслуженно применяется с оттенком некоторой обиды или пренебрежения к людям якобы поверхностным, не умеющим ценить душевных качеств ближних. «Одежда, — говорил Кручинин, — довольно верный выразитель внутреннего мира человека. Во всяком случае более надёжный, нежели паспорт или служебное удостоверение».
Позже Грачик узнал, что с самого момента своего приезда в санаторий стал предметом внимания Кручинина. Нил Платонович был большим человеколюбом. Появление на горизонте всякой новой фигуры интересовало его.
Итак, появившись на полянке перед Кручининым, Грачик не мог знать, что тот уже составил себе о нем некоторое представление. И, надо сказать, довольно верное. Тем более что ярко выраженные внешние данные молодого человека облегчали задачу. После двух-трех дней наблюдения за понравившимся ему с первого взгляда молодым человеком Кручинин определил, что нервность и темпераментность, которыми дышала наружность Грачика, находились под вполне надёжным замком воли и хорошего воспитания.
Когда Грачик перешёл полянку, Кручинин встретил его прямым взглядом весело искрящихся глаз. Вместо приветствия добродушно спросил:
— Что скажете? — и указал кистью на свой этюд.
Грачик зашёл ему за спину и взглянул на холст, ожидая увидеть берёзки, перед которыми стоял мольберт. Но, к его удивлению, там было изображено нечто совсем иное: церковь, заброшенный погост с покосившимися крестами.
Вокруг Грачика сияла радость ясного солнечного утра, а пейзаж на холсте был освещён розовато-сиреневой грустью заката.
— Разве не удобнее писать с натуры? — удивлённо спросил Сурен.
— Прежде я так и делал, — сказал Кручинин, — когда зарабатывал этим хлеб.
— А теперь?
— Теперь это — тренировка глаза. Вот скажите: верно схвачено вечернее освещение? Я был там только раз и всего минут десять. Нарочно не хожу больше, пока не закончу. Как с освещением, а?.. В остальном-то я уверен, — небрежно добавил Кручинин.
— В чем вы уверены? — не понял Грачик.
— В деталях: церквушка и… вообще все это, — Кручинин широким движением как бы очертил изображение погоста.
Место, воспроизведённое на холсте, было знакомо Грачику. Он любил бывать там именно вечерами и был уверен, что хорошо представляет себе и старенькую церковь и окружающий её характерный пейзаж. И Грачику показалось, что, несмотря на уверенность, Кручинин передал все это на полотне не совсем верно. Был выписан ряд деталей, которых там в действительности не было. Вот, например, могильные кресты: они вовсе не стояли так — вразброд, в «фантастическом» беспорядке, будто нарочно выдуманном художником. И вон та покосившаяся живописная скамеечка слева от калитки кладбища тоже не покосилась, как у художника, — Грачик не раз сиживал на ней, любуясь закатом и, право, никогда не замечал такой «художественной» кривизны. Не видел там Грачик и остатков ветхой изгороди в углу, у обрыва. Ей-ей, Кручинин немало нафантазировал! В этом, разумеется, нет ничего дурного, — какой же художник не дополняет натуру тем, что ему хотелось бы на ней видеть?! Но зачем же тогда разговоры насчёт тренировки глаза и прочее?!
— Вы подрисовали тут кое-что от себя, — мягко сказал Грачик и указал на занимающую передний план гранитную плиту заброшенной могилы. — А вот и просто ошибка, смотрите.
На могильном камне ясно виднелись высеченные цифры. Но в дате — «1814» Кручинин почему-то старательно выписал четвёрку задом наперёд.
— Это художественная деталь, выдуманная вами для… оригинальности? — не без удовольствия заметил Грачик.
— Ради оригинальности? — спокойно переспросил Кручинин, и на мгновение брови его сошлись у переносицы.
— Во всяком случае, от себя, — поправился Грачик, заметив, что его слова задели художника.
— От себя? — снова сказал Кручинин и, прищурившись, пригляделся к полотну. — Перед заходом солнца мы с вами пройдёмся туда и сличим этот набросок с натурой… Хотите?
Когда они пришли на погост, был тихий, спокойный вечер. Солнце висело над самым горизонтом, заливая небо багрянцем, расплывавшимся к облакам в лиловую завесу, и только западные краешки их розовели, полосуя небо прозрачными щелями. Сквозь них светилось слабое пламя, ещё тлевшее где-то в вышине, отгороженной от земли их серо-лиловой завесой. Это было то самое зрелище, глядя на которое редко кто не проговорит: «Изобрази такое художник — скажут „выдумал“. Фраза эта, словно заготовленная на веки веков, вылетает у большинства почти непроизвольно, хотя все тут же усмехаются её избитости. Едва не сорвалась она и у Грачика. Но стоило ему перевести взгляд на кручининское полотно — и пришлось прикусить язык: небо на западе выглядело именно таким, каким изобразил его Кручинин. Освещение погоста оказалось переданным очень верно. В первый момент Грачика даже ошеломило это поразительное сходство трудно передаваемых полутонов. То, что виднелось на горизонте, казалось увеличенным до гигантских размеров кручининским полотном. Но каково же было удивление Грачика, когда он увидел, что кресты, представлявшиеся ему прежде стоящими ровными рядами, оказались наклонёнными в разные стороны, повёрнутыми под различными углами один к другому. А вот и скамеечка, на которой Грачик сидел столько раз, не заметив, что она похилилась. Предчувствуя своё полное поражение, Грачик подошёл к могильному камню. Вероятно выбитая рукой неграмотного сельского каменщика, дата выглядела действительно необычно.
Все остальное на погосте было так, как на этюде Кручинина.
— Неужели вы видели все это только раз, и то накоротке? — удивлённо спросил Грачик.
— Не больше десяти минут, — с нескрываемым удовольствием ответил Кручинин.
— Феномен, настоящий феномен! — восторженно проговорил Грачик.
Их знакомство не закончилось в санатории, как заканчивается большинство подобных знакомств. Они, как условились, вновь встретились в Москве, ближе узнали друг друга, сошлись.
Грачик узнал от Кручинина историю его жизни.
Кручинин родился в Ялте. Ещё гимназистом он обнаружил способность к рисованию. Делал этюды на продажу, и курортная публика охотно покупала его маленькие акварели с видами Крыма. Это было тем более кстати, что Нил рано осиротел и должен был вносить лепту в небогатое хозяйство приютившей его тётки. Живопись была куда приятнее обязанностей репетитора у маменькиных сынков, привозимых в Крым для укрепления здоровья перед осенними переэкзаменовками.
Юный Кручинин задался целью во что бы то ни стало окончить гимназию и старался уложить свои занятия живописью в минимум времени. Именно тут он и обнаружил в себе способность — однажды внимательно вглядевшись в пейзаж, воспроизводить его на память с точностью, вполне достаточной для сувениров. А чем дальше, тем эта способность становилась обостренней и в конце концов дошла почти до болезненной впечатлительности юноши. Из обстоятельства, облегчающего работу, она грозила превратиться в собственную противоположность, так как виденное днём не давало Кручинину покоя уже и по ночам. Он непременно должен был выложить на бумагу или полотно запечатлённый пейзаж, чтобы от него отделаться. Скоро он увидел, что нужно бросать это занятие, если он не хочет свихнуться.
Дальнейшая жизнь Кручинина сложилась совсем не так, как он мечтал. Вместо Академии художеств он очутился на юридическом факультете, а, окончив университет, увлёкся ролью защитника в новом, советском суде. И тут неожиданно в двух или трех случаях его соревнования с обвинением обнаружились поразительная сила его анализа и особенности фотографически точной памяти.
Вскоре он оставляет профессию адвоката и переходит на судебную работу. Кручинина занимало положение личности в судебном процессе. На первый взгляд ясно, что всякий суд должен найти правду, единую для всех, и результатом всякого процесса должна быть установленная судом объективная истина. В действительности дело обстояло так далеко не всегда и не везде. История не знает объективных судилищ; объективные судьи были белыми воронами в своём сословии. Во все века у всех народов судьи были и остаются орудиями господствующих классов, подчиняются воле этих классов, вершат политику этих классов. Следуя законам господствующих классов, суды и судьи ищут классовую природу преступлений и карают их носителей в интересах своего класса. Однако несовершенство аппарата предварительного следствия в органах правосудия молодого Советского государства подчас мешало правильно оценить преступление. Непримиримость Кручинина заставила его искать решения, обеспечивающего не только раскрытие истины в процессе, но и гарантирующего священные права советского гражданина, будь он жертвой преступления или его носителем.
На этой почве разгорелась нашумевшая в юридическом мире настоящая война между Кручининым и неким Василевским, отстаивавшим на страницах печати и в своей прокурорской практике отжившие положения инквизиционного процесса.
Обогащённый адвокатской практикой и работой за судейским столом, Кручинин меняет кресло судьи на очень скромное положение сотрудника криминалистической лаборатории, чтобы изучить научно-технические методы распознавания следов преступления.
Знакомство Кручинина и Грачика произошло в одном из санаториев, примечательном только тем, что он расположен в весьма живописной местности, на берегу широкой, вольной реки. Сурен Тигранович Грачьян увидел Нила Платоновича Кручинина посреди залитого солнечным светом лужка — там, куда не доставали тени берёзок. Кручинин, прищурившись, глядел на стоящий перед ним мольберт. Время от времени он делал несколько мазков, отходил, склонив голову, и, прицелившись прищуренным глазом, снова прикасался кистью к холсту — словно наносил укол. Опять отходил и, прищурившись, глядел на сделанное.
Грачику понравился этот человек, одинаково благожелательно, но без малейшего оттенка навязчивости относившийся к окружающим. Старые и молодые, стоявшие на самых различных ступенях служебной лестницы, — все встречали в нём одинаково приветливого собеседника и внимательного слушателя. Кстати говоря, Грачик очень скоро отметил ещё одно нечастое в нашем быту качество Кручинина: он удивительно умел слушать людей. Никогда его лицо не отражало досады или нетерпения, как бы скучен и до очевидности неинтересен ни был ему рассказ.
Ни костюм, ни манеры Кручинина, ни его разговоры не позволяли определить его профессию или общественное положение. Это мог быть и врач, и инженер, и учёный — представитель любой интеллигентней профессии и любого вида искусства. Исключалась разве только профессия актёра: лицо Кручинина обрамляла мягкая бородка; аккуратно подстриженные усы скрывали верхнюю губу.
Была во внешности Кручинина одна особенность, мимо которой не мог пройти внимательный наблюдатель: его руки — сильные, но с узкой гладкой кистью и длинными тонкими пальцами. Его руки были, пожалуй, самыми красивыми, какие когда-либо доводилось видеть Грачику. Вероятно, именно такими руками должен был обладать тонкий ваятель или вдохновенный музыкант. И именно такие чуткие, длинные, словно живущие самостоятельной одухотворённой жизнью пальцы должны были наносить на нотные строки нервные мелодии Скрябина.
Основательно или нет, но Грачик считал музыку самым рафинированным видом искусства. А в музыке для него не было ничего рафинированней скрябинского наследия.
Кручинин не принадлежал к числу тех, кто встречает людей только по наружности. Тем не менее изучение внешности всегда имело существенное влияние на его отношение к собеседнику. По мнению Кручинина, пословица «по одёжке встречают…» совершенно незаслуженно применяется с оттенком некоторой обиды или пренебрежения к людям якобы поверхностным, не умеющим ценить душевных качеств ближних. «Одежда, — говорил Кручинин, — довольно верный выразитель внутреннего мира человека. Во всяком случае более надёжный, нежели паспорт или служебное удостоверение».
Позже Грачик узнал, что с самого момента своего приезда в санаторий стал предметом внимания Кручинина. Нил Платонович был большим человеколюбом. Появление на горизонте всякой новой фигуры интересовало его.
Итак, появившись на полянке перед Кручининым, Грачик не мог знать, что тот уже составил себе о нем некоторое представление. И, надо сказать, довольно верное. Тем более что ярко выраженные внешние данные молодого человека облегчали задачу. После двух-трех дней наблюдения за понравившимся ему с первого взгляда молодым человеком Кручинин определил, что нервность и темпераментность, которыми дышала наружность Грачика, находились под вполне надёжным замком воли и хорошего воспитания.
Когда Грачик перешёл полянку, Кручинин встретил его прямым взглядом весело искрящихся глаз. Вместо приветствия добродушно спросил:
— Что скажете? — и указал кистью на свой этюд.
Грачик зашёл ему за спину и взглянул на холст, ожидая увидеть берёзки, перед которыми стоял мольберт. Но, к его удивлению, там было изображено нечто совсем иное: церковь, заброшенный погост с покосившимися крестами.
Вокруг Грачика сияла радость ясного солнечного утра, а пейзаж на холсте был освещён розовато-сиреневой грустью заката.
— Разве не удобнее писать с натуры? — удивлённо спросил Сурен.
— Прежде я так и делал, — сказал Кручинин, — когда зарабатывал этим хлеб.
— А теперь?
— Теперь это — тренировка глаза. Вот скажите: верно схвачено вечернее освещение? Я был там только раз и всего минут десять. Нарочно не хожу больше, пока не закончу. Как с освещением, а?.. В остальном-то я уверен, — небрежно добавил Кручинин.
— В чем вы уверены? — не понял Грачик.
— В деталях: церквушка и… вообще все это, — Кручинин широким движением как бы очертил изображение погоста.
Место, воспроизведённое на холсте, было знакомо Грачику. Он любил бывать там именно вечерами и был уверен, что хорошо представляет себе и старенькую церковь и окружающий её характерный пейзаж. И Грачику показалось, что, несмотря на уверенность, Кручинин передал все это на полотне не совсем верно. Был выписан ряд деталей, которых там в действительности не было. Вот, например, могильные кресты: они вовсе не стояли так — вразброд, в «фантастическом» беспорядке, будто нарочно выдуманном художником. И вон та покосившаяся живописная скамеечка слева от калитки кладбища тоже не покосилась, как у художника, — Грачик не раз сиживал на ней, любуясь закатом и, право, никогда не замечал такой «художественной» кривизны. Не видел там Грачик и остатков ветхой изгороди в углу, у обрыва. Ей-ей, Кручинин немало нафантазировал! В этом, разумеется, нет ничего дурного, — какой же художник не дополняет натуру тем, что ему хотелось бы на ней видеть?! Но зачем же тогда разговоры насчёт тренировки глаза и прочее?!
— Вы подрисовали тут кое-что от себя, — мягко сказал Грачик и указал на занимающую передний план гранитную плиту заброшенной могилы. — А вот и просто ошибка, смотрите.
На могильном камне ясно виднелись высеченные цифры. Но в дате — «1814» Кручинин почему-то старательно выписал четвёрку задом наперёд.
— Это художественная деталь, выдуманная вами для… оригинальности? — не без удовольствия заметил Грачик.
— Ради оригинальности? — спокойно переспросил Кручинин, и на мгновение брови его сошлись у переносицы.
— Во всяком случае, от себя, — поправился Грачик, заметив, что его слова задели художника.
— От себя? — снова сказал Кручинин и, прищурившись, пригляделся к полотну. — Перед заходом солнца мы с вами пройдёмся туда и сличим этот набросок с натурой… Хотите?
Когда они пришли на погост, был тихий, спокойный вечер. Солнце висело над самым горизонтом, заливая небо багрянцем, расплывавшимся к облакам в лиловую завесу, и только западные краешки их розовели, полосуя небо прозрачными щелями. Сквозь них светилось слабое пламя, ещё тлевшее где-то в вышине, отгороженной от земли их серо-лиловой завесой. Это было то самое зрелище, глядя на которое редко кто не проговорит: «Изобрази такое художник — скажут „выдумал“. Фраза эта, словно заготовленная на веки веков, вылетает у большинства почти непроизвольно, хотя все тут же усмехаются её избитости. Едва не сорвалась она и у Грачика. Но стоило ему перевести взгляд на кручининское полотно — и пришлось прикусить язык: небо на западе выглядело именно таким, каким изобразил его Кручинин. Освещение погоста оказалось переданным очень верно. В первый момент Грачика даже ошеломило это поразительное сходство трудно передаваемых полутонов. То, что виднелось на горизонте, казалось увеличенным до гигантских размеров кручининским полотном. Но каково же было удивление Грачика, когда он увидел, что кресты, представлявшиеся ему прежде стоящими ровными рядами, оказались наклонёнными в разные стороны, повёрнутыми под различными углами один к другому. А вот и скамеечка, на которой Грачик сидел столько раз, не заметив, что она похилилась. Предчувствуя своё полное поражение, Грачик подошёл к могильному камню. Вероятно выбитая рукой неграмотного сельского каменщика, дата выглядела действительно необычно.
Все остальное на погосте было так, как на этюде Кручинина.
— Неужели вы видели все это только раз, и то накоротке? — удивлённо спросил Грачик.
— Не больше десяти минут, — с нескрываемым удовольствием ответил Кручинин.
— Феномен, настоящий феномен! — восторженно проговорил Грачик.
Их знакомство не закончилось в санатории, как заканчивается большинство подобных знакомств. Они, как условились, вновь встретились в Москве, ближе узнали друг друга, сошлись.
Грачик узнал от Кручинина историю его жизни.
Кручинин родился в Ялте. Ещё гимназистом он обнаружил способность к рисованию. Делал этюды на продажу, и курортная публика охотно покупала его маленькие акварели с видами Крыма. Это было тем более кстати, что Нил рано осиротел и должен был вносить лепту в небогатое хозяйство приютившей его тётки. Живопись была куда приятнее обязанностей репетитора у маменькиных сынков, привозимых в Крым для укрепления здоровья перед осенними переэкзаменовками.
Юный Кручинин задался целью во что бы то ни стало окончить гимназию и старался уложить свои занятия живописью в минимум времени. Именно тут он и обнаружил в себе способность — однажды внимательно вглядевшись в пейзаж, воспроизводить его на память с точностью, вполне достаточной для сувениров. А чем дальше, тем эта способность становилась обостренней и в конце концов дошла почти до болезненной впечатлительности юноши. Из обстоятельства, облегчающего работу, она грозила превратиться в собственную противоположность, так как виденное днём не давало Кручинину покоя уже и по ночам. Он непременно должен был выложить на бумагу или полотно запечатлённый пейзаж, чтобы от него отделаться. Скоро он увидел, что нужно бросать это занятие, если он не хочет свихнуться.
Дальнейшая жизнь Кручинина сложилась совсем не так, как он мечтал. Вместо Академии художеств он очутился на юридическом факультете, а, окончив университет, увлёкся ролью защитника в новом, советском суде. И тут неожиданно в двух или трех случаях его соревнования с обвинением обнаружились поразительная сила его анализа и особенности фотографически точной памяти.
Вскоре он оставляет профессию адвоката и переходит на судебную работу. Кручинина занимало положение личности в судебном процессе. На первый взгляд ясно, что всякий суд должен найти правду, единую для всех, и результатом всякого процесса должна быть установленная судом объективная истина. В действительности дело обстояло так далеко не всегда и не везде. История не знает объективных судилищ; объективные судьи были белыми воронами в своём сословии. Во все века у всех народов судьи были и остаются орудиями господствующих классов, подчиняются воле этих классов, вершат политику этих классов. Следуя законам господствующих классов, суды и судьи ищут классовую природу преступлений и карают их носителей в интересах своего класса. Однако несовершенство аппарата предварительного следствия в органах правосудия молодого Советского государства подчас мешало правильно оценить преступление. Непримиримость Кручинина заставила его искать решения, обеспечивающего не только раскрытие истины в процессе, но и гарантирующего священные права советского гражданина, будь он жертвой преступления или его носителем.
На этой почве разгорелась нашумевшая в юридическом мире настоящая война между Кручининым и неким Василевским, отстаивавшим на страницах печати и в своей прокурорской практике отжившие положения инквизиционного процесса.
Обогащённый адвокатской практикой и работой за судейским столом, Кручинин меняет кресло судьи на очень скромное положение сотрудника криминалистической лаборатории, чтобы изучить научно-технические методы распознавания следов преступления.
