Страница:
– Какой она вам показалась? Не хуже матери? – спрашивает министр, а Укон отвечает:
– Я никогда не верила, что она будет такой же, как мать, но она выросла настоящей красавицей.
– Любопытно… На кого же она похожа? На госпожу?
– Что вы, разумеется, до госпожи ей далеко.
– И все же вы, насколько я понимаю, весьма высокого о ней мнения. Право, будь она похожа на меня, за нее не было бы нужды волноваться… – заявляет он с таким видом, будто речь и в самом деле идет о его собственной дочери.
Вскоре после этого разговора министр снова призвал к себе Укон, желая побеседовать с ней наедине.
– Не привезете ли вы эту особу сюда? Я всегда жалел, что затерялись ее следы, и очень рад, что она наконец нашлась. Печально, что мы до сих пор ничего не знали о ней. Только вот стоит ли извещать ее отца? В его доме много других детей, и он уделяет большое внимание их воспитанию. Ее же положение пока еще слишком шатко, и, затерявшись среди прочих, она вряд ли сумеет преуспеть – напротив. У меня же детей мало, можно будет пустить слух, что она моя дочь, о существовании которой я узнал совершенно случайно. Я воспитаю ее так, что из-за нее лишатся покоя все столичные повесы, – говорит министр, и может ли Укон не радоваться?
– Я во всем полагаюсь на вас. Что касается господина министра Двора, то кто, кроме вас, может довести эту новость до его сведения? В самом деле, если в память о матери, так нелепо ушедшей из мира, вы возьмете на себя заботы о дочери, это снимет с вас хотя бы часть вины… – говорит Укон.
– Я вижу, вы по-прежнему готовы винить меня в том, что случилось, – улыбается Гэндзи, но на глазах его показываются слезы.
– Все эти годы я не уставал сетовать на судьбу, разлучившую нас так быстро. Среди обитательниц этого дома, пожалуй, нет ни одной, к которой меня влекло бы с такой же неодолимой силой, как к вашей госпоже. Все они имели довольно времени, чтобы убедиться в моем постоянстве, все, кроме нее, безвременно покинувшей мир и только вас оставившей мне на память. Тоска по ней до сих пор живет в моем сердце, и если ее дочь станет для меня утешением, ниспосланным в ответ на мои молитвы…
И Гэндзи написал девушке письмо.
Он опасался, что его ждет жестокое разочарование, ибо годы, проведенные в глуши, не могли не отразиться на ее облике, к тому же он хорошо помнил, сколь жалким оказался когда-то «цветок шафрана»… Так или иначе, прежде всего ему хотелось увидеть, что она ответит и как. Тон его письма был любезно-учтивым, как и полагается в таких случаях. В конце он приписал:
«А решился я Вам написать вот почему…
– Откровенно говоря, меня больше порадовало бы письмо от моего родного отца, даже если бы оно было куда более кратким, – сказала девушка. – Возможно ли, чтобы я переехала к совершенно чужому человеку и жила в его доме?
Решиться в самом деле было нелегко, и Укон, заручившись поддержкой остальных дам, не жалела сил, дабы убедить девушку в необходимости подобного шага.
– О, если бы вы переехали в дом Великого министра и заняли там достойное место!
– Отец ваш наверняка узнает о вас. Родителей с детьми связывают нерасторжимые узы…
– Вот Укон, к примеру, особа вовсе незначительная, а разве будды и боги не откликнулись на ее молитвы и не помогли встретиться с вами? А уж вам тем более нечего волноваться. Подумайте, ведь при благоприятном стечении обстоятельств… – уговаривали девушку домашние.
– Прежде всего вы должны ответить ему… – настаивали они.
– Боюсь, что господин министр сочтет меня жалкой провинциалкой… – смутилась девушка, но дамы, достав благоуханную китайскую бумагу, заставили ее написать ответ.
Оставалось выбрать подходящее помещение.
В южной части дома не оказалось ни одного свободного флигеля. Велико было значение госпожи Мурасаки, и так же велико было число прислуживающих ей дам. В ее покоях всегда царило оживление, толпились люди. Более подходящими представлялись покои Государыни-супруги, где обычно было тихо и спокойно, но там девушку могли принять за одну из прислужниц.
После долгих размышлений Гэндзи решил поселить ее в западном флигеле северо-восточной части дома, перенеся книгохранилище в другое место. Дама, которая жила там, была столь добродушна и приветлива, что поладить с ней не составляло труда.
Тогда же министр рассказал госпоже Мурасаки ту давнюю историю, и она не преминула попенять ему за то, что он так долго не открывал ей этой тайны.
– Полно, стоит ли вам обижаться? Не думаю, чтобы кто-нибудь другой решился на подобное признание, даже если бы речь шла о живом человеке. Поверьте, когда б не мое особое отношение к вам, вы бы и теперь не узнали… – сказал он и тяжело вздохнул, как видно снова вспомнив ушедшую.
– Перед моими глазами прошло немало чужих судеб, да и на собственном опыте я хорошо знаю, что всем женщинам, даже тем, кто не питает особенно глубоких чувств к супругу, свойственно мучиться ревностью. Помня об этом, я старался обуздывать свой пылкий нрав, но все же оказался связанным со многими женщинами, среди которых есть, может быть, и не совсем достойные. Однако должен вам сказать, что ушедшая занимала в моем сердце особое место и, будь она жива, я заботился бы о ней точно так же, как о даме из Северных покоев. Каждый человек имеет свои достоинства и свои недостатки. Она вряд ли могла считаться блестящей, изысканной собеседницей, но была так нежна и изящна…
– И все же не верится, что вы стали бы обращаться с ней так же, как с госпожой Акаси, – заметила госпожа Мурасаки.
В ее сердце возникла было прежняя неприязнь к обитательнице Северных покоев, но, взглянув на прелестную девочку, простодушно прислушивающуюся к разговору, она невольно смягчилась. «Стоит ли удивляться тому, что он так привязан к этой особе? – подумала она. – Видно, столь высоко ее предопределение».
Все это происходило в дни Девятой луны. Мог ли министр отнестись к переезду юной госпожи без должного внимания? Разумеется, он распорядился, чтобы подобрали самых миловидных девочек-служанок и молодых прислужниц. На Цукуси кормилице удалось, используя сохранившиеся старинные связи, создать для своей госпожи вполне приличное окружение из случайно заброшенных судьбой в эти земли столичных дам. Однако взять их с собой в столицу оказалось невозможным, ибо слишком поспешным был отъезд, и девушка теперь вовсе не имела прислужниц.
К счастью, столица велика, а уличные торговки оказались весьма ловкими посредницами, поэтому за сравнительно короткое время в их доме перебывало немало дам, желающих поступить в услужение. Кормилица никому не открывала тайны своей госпожи. Сначала девушку потихоньку перевезли в дом Укон на Пятой линии, где окончательно отобрали для нее прислужниц, подготовили наряды. И только на Одиннадцатую луну девушка переехала на Шестую линию.
Министр поручил ее попечениям обитательницы восточной части дома, известной прежде под именем Ханатирусато, дамы из Сада, где опадают цветы.
– Женщина, которую я любил когда-то, уехав из столицы, поселилась одиноко в горной глуши, – объяснил он ей. – Была у нас маленькая дочь, которую я тайно разыскивал все эти годы, но, увы, напрасно. Теперь она стала совсем взрослой. Только недавно мне стало случайно известно, где она скрывается, и я решил взять ее к себе. Ее матери давно уже нет в живых. На вашем попечении находится Тюдзё, надеюсь, вы не откажетесь позаботиться и о ней. Будьте к ней столь же внимательны. До сих пор она воспитывалась в глуши, и в ее манерах должно быть немало провинциального. Наставляйте же ее при каждом удобном случае.
– А я и не подозревала о ее существовании. Какая радость! Ведь вы всегда печалились, что у вас только одна дочь, – искренне обрадовалась Ханатирусато.
– Мать ее была на редкость кротка и мягкосердечна, вот я и рассудил, что при вашем добром нраве…
– У меня не так уж много подопечных, и я влачу дни в унылой праздности. Так что я только рада… – отвечала женщина.
Домочадцы, которым не сообщили, что девушка – дочь министра, недовольно переговаривались:
– Хотелось бы знать, кого господин изволил отыскать на сей раз? Что за страсть к собиранию диковин!
Перевозили девушку всего в трех каретах. Благодаря стараниям Укон в нарядах дам не было ничего провинциального. От господина министра принесли дары: чудесный узорчатый шелк и много других прекрасных вещей.
В тот же вечер Великий министр навестил юную госпожу. Разумеется, Хёбу и прочие дамы слышали о блистательном Гэндзи, но, проведя столько лет вдали от столицы, даже представить себе не могли, что человек может быть так прекрасен, и теперь, приникнув к щелям в ширмах и занавесях, жадно разглядывали его фигуру, освещенную тусклым огнем светильника. Его поразительная красота повергла их в трепет.
Увидев, что Укон раскрыла для него боковую дверь, Гэндзи улыбнулся:
– О, через эту дверь должно входить совершенно с другими чувствами, – говорит он, усаживаясь на приготовленное для него сиденье в передних покоях. – Боюсь, что столь тусклое освещение может пробудить в сердце легкомысленные желания. Я слышал, будто вы хотели увидеть лицо отца? Или я ошибаюсь? – обращается он к девушке и немного отодвигает занавес.
Совсем растерявшись, она отворачивается, но, успев убедиться в ее чрезвычайной миловидности, министр говорит:
– Зажгите светильники поярче. В этом полумраке есть что-то многозначительное, не подобающее случаю…
Укон, удлинив фитиль, пододвигает светильник.
– Стоит ли так робеть? – улыбается Гэндзи и, любуясь прелестным лицом юной госпожи, думает: «Да, Укон права». Он беседует с ней просто, без всяких церемоний, словно он и в самом деле ее отец. – Все эти годы я ни на миг не забывал вас и печалился, не зная, где вас искать. И теперь, когда вы здесь, рядом, я невольно спрашиваю себя: «Уж не сон ли?» Мысли уносятся в прошлое, и все чувства в таком смятении, что я вряд ли сумею сказать вам все, что желал бы сказать. – И министр вытирает слезы.
В самом деле, как печальны воспоминания! Подсчитав, сколько девушке может быть лет, он говорит:
– Вряд ли какой-нибудь другой отец так долго был разлучен со своей дочерью. Сколь безжалостна к нам судьба! Но не бойтесь меня, вы уже не дитя, и ничто не мешает нам спокойно говорить обо всем, что произошло за эти годы.
Но, совсем смутившись, девушка не в силах вымолвить ни слова.
– Увы, я и на ноги встать не могла (143), когда увезли меня из столицы, а все, что было потом, – словно мимолетный сон… – тихо говорит она наконец, и ее юный голос так живо напоминает Гэндзи голос той, что давно уже покинула этот мир…
«А ведь ответ ее вовсе не дурен», – думает он и, улыбнувшись, отвечает:
– Я хорошо понимаю, как тяжело было вам жить в такой глуши, и, поверьте, не найдется человека, в котором ваши страдания возбудили бы более искреннее участие…
Скоро, дав Укон соответствующие указания, Гэндзи вышел. Девушка произвела на него самое приятное впечатление, и, обрадованный, он поспешил рассказать о ней госпоже Мурасаки.
– Я относился к ней с некоторым пренебрежением, полагая, что за эти годы она должна была стать жалкой провинциалкой, но, к счастью, мои опасения оказались напрасными: она держится с таким достоинством, что скорее я чувствую себя неловко в ее присутствии. Не станем же делать тайну из ее пребывания здесь, пусть помучаются принц Хёбукё и прочие молодые любезники, устремляющие взоры за нашу ограду. До сих пор они вели себя в нашем доме столь степенно только потому, что никто не возбуждал их любопытства. Посмотрим, как быстро утратят они свою церемонную важность. Стоит только окружить ее заботами…
– Право, где еще найдешь такого отца? Не кажется ли вам, что дурно думать прежде всего о поклонниках? – попеняла ему госпожа.
– Жаль, что я не думал об этом раньше, а то бы и о вас позаботился соответствующим образом. Не пришлось бы теперь мучиться запоздалым раскаянием, – смеясь, ответил Гэндзи, и госпожа залилась румянцем, удивительно красившим и молодившим ее.
Придвинув к себе тушечницу, Гэндзи набросал на листке бумаги:
«Похоже, он и в самом деле был искренне привязан к той женщине, – подумала госпожа, – а поскольку девушка – живая память о ней…»
Великий министр рассказал о новой своей подопечной господину Тюдзё, выразив надежду, что тот не оставит ее заботами, и юноша не преминул наведаться к ней.
– Я хорошо понимаю, сколь мало значу для вас, и все же не могу не сожалеть, что вы не обратились прежде всего ко мне. Я даже не участвовал в вашем переезде… – сказал он весьма учтиво, повергнув в замешательство дам, которым открыто было истинное положение вещей.
Прежде девушке казалось, что не может быть жилища роскошнее дома покойного Дадзай-но сёни на Цукуси, но, увидев дом Великого министра… Здесь все до мелочей поражало изысканностью и благородным изяществом, люди же, ее окружавшие, были один прекраснее другого, так что даже Сандзё пришлось признать, что столь превозносимый ею прежде Дайни по сравнению с ними был просто ничтожеством. А уж воинственного Таю-но гэна она и вспомнить не могла без ужаса.
И сама девушка, и Укон сознавали, сколь многим обязаны они преданности Буго-но сукэ. Гэндзи, полагая, что отсутствие надлежащего надзора может иметь следствием непростительные упущения в ведении хозяйства, заботливо подобрал для юной госпожи служащих Домашней управы и дал им соответствующие наставления. Буго-но сукэ стал одним из таких служащих. Долгих лет, проведенных в провинциальной глуши, словно не бывало, и мог ли он не благословлять судьбу? За великую честь почитал он право в любое время дня и ночи приходить в этот великолепный дом, давать указания слугам, надзирать за порядком. В самом деле, смел ли он хотя бы помыслить о чем-либо подобном в прежние времена? Да и можно ли было ожидать, что Великий министр примет такое участие в судьбе бедных скитальцев?
Год подошел к концу, и Гэндзи изволил позаботиться об убранстве покоев юной госпожи и праздничных нарядах для ее прислужниц. Особа самого высокого происхождения и та вряд ли удостоилась бы большего внимания.
Отдавая справедливую дань достоинствам девушки, министр вместе с тем не особенно доверял ее вкусу, ибо понимал, что провинциальное воспитание могло дать о себе знать самым неожиданным образом. Вот и на этот раз он внимательнейшим образом осмотрел разнообразные по оттенкам и покрою наряды, над которыми потрудились лучшие столичные мастера.
– Какое множество нарядов! – сказал он госпоже Мурасаки. – Надо распределить их так, чтобы никто не остался в обиде.
Госпожа приказала принести все, что сшито в покоях Высочайшего ларца, а также в ее собственных покоях, и разложить все это перед Гэндзи.
Трудно было не восхититься удивительным мастерством госпожи, которой удавалось достичь не только неповторимой яркости и свежести красок, но и необыкновенной изысканности сочетаний.
Перебрав шелка, доставленные из разных лощилен, и отобрав темно-лиловые и красные, министр велел разложить их по ларцам и коробам. Помогали ему опытные немолодые прислужницы. «Это сюда, а это – туда», – решали они, раскладывая ткани.
– Право, все эти наряды настолько хороши, что трудно отдать чему-то предпочтение, – заметила госпожа. – Остается позаботиться лишь о том, чтобы они оказались к лицу тем, для кого предназначены. Ибо вряд ли что-нибудь может быть безобразнее платья, которое тебе не к лицу.
Министр улыбнулся:
– Похоже, что вы рассчитываете получить некоторые сведения о внешности каждой из дам. А что, вы думаете, к лицу вам самой?
– Но разве зеркало может дать верный ответ на этот вопрос? – смутилась госпожа.
Для нее выбрали темно-розовое, затканное узорами верхнее платье, сиреневое коутики, а также превосходное нижнее одеяние модного цвета. Для маленькой госпожи – хосонага цвета «вишня» и несколько нижних платьев из лощеного алого шелка.
Не очень яркое светло-синее верхнее платье, затканное изящным морским орнаментом, и нижнее одеяние из лощеного темно-алого шелка достались обитательнице Летних покоев, а для юной госпожи из Западного флигеля выбрали ярко-коричневое на синей подкладке верхнее платье и хосонага цвета «керрия».
Притворяясь, что ее нимало не занимают все эти наряды, госпожа между тем силилась представить себе наружность девушки. Ей казалось, что она должна быть похожа на своего отца, министра Двора, красоте которого, пожалуй, недоставало некоторой тонкости. Она старалась казаться спокойной, но Гэндзи сразу заметил, что она взволнованна.
– Кто-то может и рассердиться, узнав, что о его внешности судят по платью. Каким бы великолепным ни был наряд, его возможности ограниченны, а в самой заурядной женщине обнаруживаются порой достоинства, недоступные поверхностному взгляду, – сказал министр и украдкой улыбнулся, взглянув на прелестное платье, выбранное им для Суэцумухана. Оно было сшито из узорчатой ткани цвета «ива», густо затканной изящным растительным китайским орнаментом. Платье из белого китайского шелка с порхающими между сливовыми ветками бабочками и птицами и нижнее одеяние из темно-лилового блестящего шелка предназначалось для госпожи Акаси. «Такой наряд может быть к лицу только очень благородной особе», – подумала госпожа, ощутив новый укол ревности.
Для монахини Уцусэми министр выбрал изысканное платье из зеленоватого шитья и к нему еще два: желтое и светло-розовое.
Всем дамам Гэндзи отправил письма, в которых просил облачиться в эти наряды в один и тот же день. Разумеется, ему не терпелось узнать, к лицу ли им новые платья.
Дамы постарались ответить как можно изящнее и щедро одарили гонцов. Дочь принца Хитати жила дальше всех, в Восточной усадьбе, потому и дары ее должны были быть самыми роскошными, а поскольку особа эта никогда не забывала приличий, гонец получил великолепное женское платье цвета «керрия» с засаленными от долгой носки рукавами, которое без нижнего одеяния напоминало пустую скорлупку цикады.
Ответ она написала на толстой и пожелтевшей от времени бумаге «митиноку», пропитанной благовониями:
«Получила Ваш дар, и еще печальнее стало…
Гонец же поспешил незаметно скрыться, опасаясь, что жалкие дары, полученные им от дочери принца, могут огорчить и раздосадовать господина министра.
Дамы пересмеивались и перешептывались. Мало того, что дочь принца Хитати была неисправимо старомодна, она еще не желала понимать, что столь упорное стремление ни в коем случае не отставать от других может поставить в неловкое положение не только ее, но и окружающих.
– Право, нам до нее далеко, – улыбаясь, сказал министр. – Приверженцы старинного стиля в поэзии просто не в силах обойтись без намеков на «китайский наряд», «мокрые рукава». Я сам принадлежу к числу любителей старинной поэзии, но мне все же кажется, что нельзя слепо следовать старым правилам и совершенно пренебрегать современными словами. Такие, как она, считают, что, если песня складывается по какому-нибудь торжественному поводу, на поэтическом собрании или в присутствии Государя, в ней непременно должны быть слова «вместе сойдясь», если же это изящная любовная переписка-поддразнивание, вполне достаточно в позиции «передышки»[23] поставить одно лишь слово – «непостоянный», а остальные слова подберутся сами собой.
Можно перечитать все руководства, затвердить все слова-зачины и научиться самому умело использовать их, но боюсь, что произведения, созданные таким образом, будут удручающе однообразны. Дочь принца Хитати прислала мне как-то сочинение своего отца, «Записки на бумаге «канъя»«. Там с докучной подробностью изложены основы стихосложения, перечислены опаснейшие болезни[24] японских песен. У меня сложилось впечатление, что человек, никогда не блиставший в этой области особыми талантами, прочтя подобное сочинение, почувствует себя еще более скованным, чем прежде. Удрученный, я вернул записки их владелице. Откровенно говоря, для особы, столь глубоко проникшей в тайны поэтического мастерства, эта песня слишком заурядна, – заметил министр, как видно из жалости к дочери принца Хитати притворяясь заинтересованным.
– Для чего же вы вернули эти записки? – спросила госпожа, и самое неподдельное удивление звучало в ее голосе. – Их следовало переписать для нашей маленькой госпожи. У меня имелось когда-то нечто подобное, но, к сожалению, все свитки были уничтожены насекомыми. Не читавшему таких записок трудно овладеть тайнами поэтического мастерства.
– А по-моему, маленькая госпожа вполне может обойтись без них. Женщине не подобает все усилия свои сосредоточивать на чем-то одном. Это, разумеется, не значит, что она должна оставаться совершенно невежественной. Мне всегда нравились женщины, у которых за внешней мягкостью скрываются тонкий ум и высокие устремления, – сказал министр, а поскольку, судя по всему, отвечать на письмо он не собирался, госпожа заметила:
– Если не ошибаюсь, там сказано «и его возвращаю…». Будет лучше, если вы все-таки ответите.
У министра было доброе сердце, и его не пришлось долго упрашивать. Не долго думая, он набросал ответ:

Первая песня
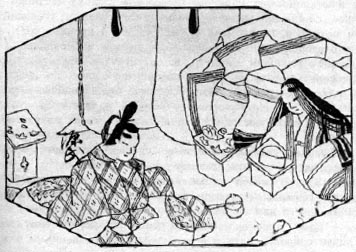
Госпожа Весенних (Южных) покоев (Мурасаки), 28 лет, – супруга Гэндзи
Маленькая госпожа, 8 лет, – дочь Гэндзи и госпожи Акаси
Обитательница Северных покоев (госпожа Акаси), 27 лет, – возлюбленная Гэндзи
Дочь принца Хитати (Суэцумухана) – возлюбленная Гэндзи
Уцусэми – вдова правителя Хитати (Иё-но сукэ – см. кн. 1, гл. «Пустая скорлупка цикады», кн. 2, гл. «У заставы»)
Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года, – дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи
Тюдзё (Югири), 15 лет, – сын Гэндзи и Аои
Бэн-но сёсё (Кобай) – сын министра Двора
В первый день Нового года над столицей сияло безоблачное небо, и даже за самыми ничтожными оградами по проталинам пробивались нежные молодые ростки; над землей, словно торопя весну, плавал зыбкий туман, над деревьями сгущалась зеленоватая дымка, а лица людей сияли довольством и сердечным весельем.
Нетрудно себе представить, каким поистине драгоценным блеском сверкал в эти дни дом на Шестой линии! Здесь все, начиная с сада, вызывало восхищение, и никаких слов недостанет, чтобы описать изысканнейшую роскошь внутренних покоев.
Особенно хорош был весенний сад. В воздухе витал аромат цветущей сливы, такой густой, словно нарочно воскурили благовония. Казалось, вот она перед нами – земля Вечного блаженства.
Госпожа Мурасаки, несмотря на высокое положение, жила спокойно и неторопливо. Самых молодых и миловидных прислужниц она передала своей юной воспитаннице, оставив у себя женщин постарше. Впрочем, они едва ли не превосходили молодых утонченностью манер и изысканностью нарядов. Сегодня в покоях госпожи царило праздничное оживление. Дамы, призывая долголетие, угощались зеркальными мотии[1] и, не забывая о «тысячелетней кроне» (203), желали друг другу благополучия в грядущем году, шутили и смеялись.
– Я никогда не верила, что она будет такой же, как мать, но она выросла настоящей красавицей.
– Любопытно… На кого же она похожа? На госпожу?
– Что вы, разумеется, до госпожи ей далеко.
– И все же вы, насколько я понимаю, весьма высокого о ней мнения. Право, будь она похожа на меня, за нее не было бы нужды волноваться… – заявляет он с таким видом, будто речь и в самом деле идет о его собственной дочери.
Вскоре после этого разговора министр снова призвал к себе Укон, желая побеседовать с ней наедине.
– Не привезете ли вы эту особу сюда? Я всегда жалел, что затерялись ее следы, и очень рад, что она наконец нашлась. Печально, что мы до сих пор ничего не знали о ней. Только вот стоит ли извещать ее отца? В его доме много других детей, и он уделяет большое внимание их воспитанию. Ее же положение пока еще слишком шатко, и, затерявшись среди прочих, она вряд ли сумеет преуспеть – напротив. У меня же детей мало, можно будет пустить слух, что она моя дочь, о существовании которой я узнал совершенно случайно. Я воспитаю ее так, что из-за нее лишатся покоя все столичные повесы, – говорит министр, и может ли Укон не радоваться?
– Я во всем полагаюсь на вас. Что касается господина министра Двора, то кто, кроме вас, может довести эту новость до его сведения? В самом деле, если в память о матери, так нелепо ушедшей из мира, вы возьмете на себя заботы о дочери, это снимет с вас хотя бы часть вины… – говорит Укон.
– Я вижу, вы по-прежнему готовы винить меня в том, что случилось, – улыбается Гэндзи, но на глазах его показываются слезы.
– Все эти годы я не уставал сетовать на судьбу, разлучившую нас так быстро. Среди обитательниц этого дома, пожалуй, нет ни одной, к которой меня влекло бы с такой же неодолимой силой, как к вашей госпоже. Все они имели довольно времени, чтобы убедиться в моем постоянстве, все, кроме нее, безвременно покинувшей мир и только вас оставившей мне на память. Тоска по ней до сих пор живет в моем сердце, и если ее дочь станет для меня утешением, ниспосланным в ответ на мои молитвы…
И Гэндзи написал девушке письмо.
Он опасался, что его ждет жестокое разочарование, ибо годы, проведенные в глуши, не могли не отразиться на ее облике, к тому же он хорошо помнил, сколь жалким оказался когда-то «цветок шафрана»… Так или иначе, прежде всего ему хотелось увидеть, что она ответит и как. Тон его письма был любезно-учтивым, как и полагается в таких случаях. В конце он приписал:
«А решился я Вам написать вот почему…
С письмом к девушке отправилась сама Укон, которая передала ей все, что сказал министр. Помимо письма она привезла дары – парадное облачение для госпожи, наряды для дам и прочие безделицы. Очевидно, министр рассказал обо всем госпоже Мурасаки и она помогла ему советами. Осмотрев хранившиеся в покоях Высочайшего ларца наряды он велел выбрать самые необычные по покрою и расцветке. Стоит ли говорить о том, сколь редкостно прекрасными показались они провинциальным жителям?
Не ведаешь ты,
Но спроси, и тебе расскажут -
У цветов микури
Вдоль реки Мисима растущих[21],
Корни прочны и длинны».
– Откровенно говоря, меня больше порадовало бы письмо от моего родного отца, даже если бы оно было куда более кратким, – сказала девушка. – Возможно ли, чтобы я переехала к совершенно чужому человеку и жила в его доме?
Решиться в самом деле было нелегко, и Укон, заручившись поддержкой остальных дам, не жалела сил, дабы убедить девушку в необходимости подобного шага.
– О, если бы вы переехали в дом Великого министра и заняли там достойное место!
– Отец ваш наверняка узнает о вас. Родителей с детьми связывают нерасторжимые узы…
– Вот Укон, к примеру, особа вовсе незначительная, а разве будды и боги не откликнулись на ее молитвы и не помогли встретиться с вами? А уж вам тем более нечего волноваться. Подумайте, ведь при благоприятном стечении обстоятельств… – уговаривали девушку домашние.
– Прежде всего вы должны ответить ему… – настаивали они.
– Боюсь, что господин министр сочтет меня жалкой провинциалкой… – смутилась девушка, но дамы, достав благоуханную китайскую бумагу, заставили ее написать ответ.
вот, собственно, и все, что начертала она еле заметными знаками. В ее еще не устоявшемся, юном почерке чувствовалось несомненное благородство, да и в остальном письмо производило скорее приятное впечатление, поэтому министр сразу успокоился.
«Цветок микури
Так ничтожен, зачем же, право,
Ему суждено
Было корни свои пустить
В этом непрочном мире?..» -
Оставалось выбрать подходящее помещение.
В южной части дома не оказалось ни одного свободного флигеля. Велико было значение госпожи Мурасаки, и так же велико было число прислуживающих ей дам. В ее покоях всегда царило оживление, толпились люди. Более подходящими представлялись покои Государыни-супруги, где обычно было тихо и спокойно, но там девушку могли принять за одну из прислужниц.
После долгих размышлений Гэндзи решил поселить ее в западном флигеле северо-восточной части дома, перенеся книгохранилище в другое место. Дама, которая жила там, была столь добродушна и приветлива, что поладить с ней не составляло труда.
Тогда же министр рассказал госпоже Мурасаки ту давнюю историю, и она не преминула попенять ему за то, что он так долго не открывал ей этой тайны.
– Полно, стоит ли вам обижаться? Не думаю, чтобы кто-нибудь другой решился на подобное признание, даже если бы речь шла о живом человеке. Поверьте, когда б не мое особое отношение к вам, вы бы и теперь не узнали… – сказал он и тяжело вздохнул, как видно снова вспомнив ушедшую.
– Перед моими глазами прошло немало чужих судеб, да и на собственном опыте я хорошо знаю, что всем женщинам, даже тем, кто не питает особенно глубоких чувств к супругу, свойственно мучиться ревностью. Помня об этом, я старался обуздывать свой пылкий нрав, но все же оказался связанным со многими женщинами, среди которых есть, может быть, и не совсем достойные. Однако должен вам сказать, что ушедшая занимала в моем сердце особое место и, будь она жива, я заботился бы о ней точно так же, как о даме из Северных покоев. Каждый человек имеет свои достоинства и свои недостатки. Она вряд ли могла считаться блестящей, изысканной собеседницей, но была так нежна и изящна…
– И все же не верится, что вы стали бы обращаться с ней так же, как с госпожой Акаси, – заметила госпожа Мурасаки.
В ее сердце возникла было прежняя неприязнь к обитательнице Северных покоев, но, взглянув на прелестную девочку, простодушно прислушивающуюся к разговору, она невольно смягчилась. «Стоит ли удивляться тому, что он так привязан к этой особе? – подумала она. – Видно, столь высоко ее предопределение».
Все это происходило в дни Девятой луны. Мог ли министр отнестись к переезду юной госпожи без должного внимания? Разумеется, он распорядился, чтобы подобрали самых миловидных девочек-служанок и молодых прислужниц. На Цукуси кормилице удалось, используя сохранившиеся старинные связи, создать для своей госпожи вполне приличное окружение из случайно заброшенных судьбой в эти земли столичных дам. Однако взять их с собой в столицу оказалось невозможным, ибо слишком поспешным был отъезд, и девушка теперь вовсе не имела прислужниц.
К счастью, столица велика, а уличные торговки оказались весьма ловкими посредницами, поэтому за сравнительно короткое время в их доме перебывало немало дам, желающих поступить в услужение. Кормилица никому не открывала тайны своей госпожи. Сначала девушку потихоньку перевезли в дом Укон на Пятой линии, где окончательно отобрали для нее прислужниц, подготовили наряды. И только на Одиннадцатую луну девушка переехала на Шестую линию.
Министр поручил ее попечениям обитательницы восточной части дома, известной прежде под именем Ханатирусато, дамы из Сада, где опадают цветы.
– Женщина, которую я любил когда-то, уехав из столицы, поселилась одиноко в горной глуши, – объяснил он ей. – Была у нас маленькая дочь, которую я тайно разыскивал все эти годы, но, увы, напрасно. Теперь она стала совсем взрослой. Только недавно мне стало случайно известно, где она скрывается, и я решил взять ее к себе. Ее матери давно уже нет в живых. На вашем попечении находится Тюдзё, надеюсь, вы не откажетесь позаботиться и о ней. Будьте к ней столь же внимательны. До сих пор она воспитывалась в глуши, и в ее манерах должно быть немало провинциального. Наставляйте же ее при каждом удобном случае.
– А я и не подозревала о ее существовании. Какая радость! Ведь вы всегда печалились, что у вас только одна дочь, – искренне обрадовалась Ханатирусато.
– Мать ее была на редкость кротка и мягкосердечна, вот я и рассудил, что при вашем добром нраве…
– У меня не так уж много подопечных, и я влачу дни в унылой праздности. Так что я только рада… – отвечала женщина.
Домочадцы, которым не сообщили, что девушка – дочь министра, недовольно переговаривались:
– Хотелось бы знать, кого господин изволил отыскать на сей раз? Что за страсть к собиранию диковин!
Перевозили девушку всего в трех каретах. Благодаря стараниям Укон в нарядах дам не было ничего провинциального. От господина министра принесли дары: чудесный узорчатый шелк и много других прекрасных вещей.
В тот же вечер Великий министр навестил юную госпожу. Разумеется, Хёбу и прочие дамы слышали о блистательном Гэндзи, но, проведя столько лет вдали от столицы, даже представить себе не могли, что человек может быть так прекрасен, и теперь, приникнув к щелям в ширмах и занавесях, жадно разглядывали его фигуру, освещенную тусклым огнем светильника. Его поразительная красота повергла их в трепет.
Увидев, что Укон раскрыла для него боковую дверь, Гэндзи улыбнулся:
– О, через эту дверь должно входить совершенно с другими чувствами, – говорит он, усаживаясь на приготовленное для него сиденье в передних покоях. – Боюсь, что столь тусклое освещение может пробудить в сердце легкомысленные желания. Я слышал, будто вы хотели увидеть лицо отца? Или я ошибаюсь? – обращается он к девушке и немного отодвигает занавес.
Совсем растерявшись, она отворачивается, но, успев убедиться в ее чрезвычайной миловидности, министр говорит:
– Зажгите светильники поярче. В этом полумраке есть что-то многозначительное, не подобающее случаю…
Укон, удлинив фитиль, пододвигает светильник.
– Стоит ли так робеть? – улыбается Гэндзи и, любуясь прелестным лицом юной госпожи, думает: «Да, Укон права». Он беседует с ней просто, без всяких церемоний, словно он и в самом деле ее отец. – Все эти годы я ни на миг не забывал вас и печалился, не зная, где вас искать. И теперь, когда вы здесь, рядом, я невольно спрашиваю себя: «Уж не сон ли?» Мысли уносятся в прошлое, и все чувства в таком смятении, что я вряд ли сумею сказать вам все, что желал бы сказать. – И министр вытирает слезы.
В самом деле, как печальны воспоминания! Подсчитав, сколько девушке может быть лет, он говорит:
– Вряд ли какой-нибудь другой отец так долго был разлучен со своей дочерью. Сколь безжалостна к нам судьба! Но не бойтесь меня, вы уже не дитя, и ничто не мешает нам спокойно говорить обо всем, что произошло за эти годы.
Но, совсем смутившись, девушка не в силах вымолвить ни слова.
– Увы, я и на ноги встать не могла (143), когда увезли меня из столицы, а все, что было потом, – словно мимолетный сон… – тихо говорит она наконец, и ее юный голос так живо напоминает Гэндзи голос той, что давно уже покинула этот мир…
«А ведь ответ ее вовсе не дурен», – думает он и, улыбнувшись, отвечает:
– Я хорошо понимаю, как тяжело было вам жить в такой глуши, и, поверьте, не найдется человека, в котором ваши страдания возбудили бы более искреннее участие…
Скоро, дав Укон соответствующие указания, Гэндзи вышел. Девушка произвела на него самое приятное впечатление, и, обрадованный, он поспешил рассказать о ней госпоже Мурасаки.
– Я относился к ней с некоторым пренебрежением, полагая, что за эти годы она должна была стать жалкой провинциалкой, но, к счастью, мои опасения оказались напрасными: она держится с таким достоинством, что скорее я чувствую себя неловко в ее присутствии. Не станем же делать тайну из ее пребывания здесь, пусть помучаются принц Хёбукё и прочие молодые любезники, устремляющие взоры за нашу ограду. До сих пор они вели себя в нашем доме столь степенно только потому, что никто не возбуждал их любопытства. Посмотрим, как быстро утратят они свою церемонную важность. Стоит только окружить ее заботами…
– Право, где еще найдешь такого отца? Не кажется ли вам, что дурно думать прежде всего о поклонниках? – попеняла ему госпожа.
– Жаль, что я не думал об этом раньше, а то бы и о вас позаботился соответствующим образом. Не пришлось бы теперь мучиться запоздалым раскаянием, – смеясь, ответил Гэндзи, и госпожа залилась румянцем, удивительно красившим и молодившим ее.
Придвинув к себе тушечницу, Гэндзи набросал на листке бумаги:
– Бедняжка! – проговорил он, ни к кому не обращаясь…
«От любовной тоски
Душа томится по-прежнему.
Какая судьба
В мою жизнь вплела так чудесно
Драгоценную эту нить?[22]»
«Похоже, он и в самом деле был искренне привязан к той женщине, – подумала госпожа, – а поскольку девушка – живая память о ней…»
Великий министр рассказал о новой своей подопечной господину Тюдзё, выразив надежду, что тот не оставит ее заботами, и юноша не преминул наведаться к ней.
– Я хорошо понимаю, сколь мало значу для вас, и все же не могу не сожалеть, что вы не обратились прежде всего ко мне. Я даже не участвовал в вашем переезде… – сказал он весьма учтиво, повергнув в замешательство дам, которым открыто было истинное положение вещей.
Прежде девушке казалось, что не может быть жилища роскошнее дома покойного Дадзай-но сёни на Цукуси, но, увидев дом Великого министра… Здесь все до мелочей поражало изысканностью и благородным изяществом, люди же, ее окружавшие, были один прекраснее другого, так что даже Сандзё пришлось признать, что столь превозносимый ею прежде Дайни по сравнению с ними был просто ничтожеством. А уж воинственного Таю-но гэна она и вспомнить не могла без ужаса.
И сама девушка, и Укон сознавали, сколь многим обязаны они преданности Буго-но сукэ. Гэндзи, полагая, что отсутствие надлежащего надзора может иметь следствием непростительные упущения в ведении хозяйства, заботливо подобрал для юной госпожи служащих Домашней управы и дал им соответствующие наставления. Буго-но сукэ стал одним из таких служащих. Долгих лет, проведенных в провинциальной глуши, словно не бывало, и мог ли он не благословлять судьбу? За великую честь почитал он право в любое время дня и ночи приходить в этот великолепный дом, давать указания слугам, надзирать за порядком. В самом деле, смел ли он хотя бы помыслить о чем-либо подобном в прежние времена? Да и можно ли было ожидать, что Великий министр примет такое участие в судьбе бедных скитальцев?
Год подошел к концу, и Гэндзи изволил позаботиться об убранстве покоев юной госпожи и праздничных нарядах для ее прислужниц. Особа самого высокого происхождения и та вряд ли удостоилась бы большего внимания.
Отдавая справедливую дань достоинствам девушки, министр вместе с тем не особенно доверял ее вкусу, ибо понимал, что провинциальное воспитание могло дать о себе знать самым неожиданным образом. Вот и на этот раз он внимательнейшим образом осмотрел разнообразные по оттенкам и покрою наряды, над которыми потрудились лучшие столичные мастера.
– Какое множество нарядов! – сказал он госпоже Мурасаки. – Надо распределить их так, чтобы никто не остался в обиде.
Госпожа приказала принести все, что сшито в покоях Высочайшего ларца, а также в ее собственных покоях, и разложить все это перед Гэндзи.
Трудно было не восхититься удивительным мастерством госпожи, которой удавалось достичь не только неповторимой яркости и свежести красок, но и необыкновенной изысканности сочетаний.
Перебрав шелка, доставленные из разных лощилен, и отобрав темно-лиловые и красные, министр велел разложить их по ларцам и коробам. Помогали ему опытные немолодые прислужницы. «Это сюда, а это – туда», – решали они, раскладывая ткани.
– Право, все эти наряды настолько хороши, что трудно отдать чему-то предпочтение, – заметила госпожа. – Остается позаботиться лишь о том, чтобы они оказались к лицу тем, для кого предназначены. Ибо вряд ли что-нибудь может быть безобразнее платья, которое тебе не к лицу.
Министр улыбнулся:
– Похоже, что вы рассчитываете получить некоторые сведения о внешности каждой из дам. А что, вы думаете, к лицу вам самой?
– Но разве зеркало может дать верный ответ на этот вопрос? – смутилась госпожа.
Для нее выбрали темно-розовое, затканное узорами верхнее платье, сиреневое коутики, а также превосходное нижнее одеяние модного цвета. Для маленькой госпожи – хосонага цвета «вишня» и несколько нижних платьев из лощеного алого шелка.
Не очень яркое светло-синее верхнее платье, затканное изящным морским орнаментом, и нижнее одеяние из лощеного темно-алого шелка достались обитательнице Летних покоев, а для юной госпожи из Западного флигеля выбрали ярко-коричневое на синей подкладке верхнее платье и хосонага цвета «керрия».
Притворяясь, что ее нимало не занимают все эти наряды, госпожа между тем силилась представить себе наружность девушки. Ей казалось, что она должна быть похожа на своего отца, министра Двора, красоте которого, пожалуй, недоставало некоторой тонкости. Она старалась казаться спокойной, но Гэндзи сразу заметил, что она взволнованна.
– Кто-то может и рассердиться, узнав, что о его внешности судят по платью. Каким бы великолепным ни был наряд, его возможности ограниченны, а в самой заурядной женщине обнаруживаются порой достоинства, недоступные поверхностному взгляду, – сказал министр и украдкой улыбнулся, взглянув на прелестное платье, выбранное им для Суэцумухана. Оно было сшито из узорчатой ткани цвета «ива», густо затканной изящным растительным китайским орнаментом. Платье из белого китайского шелка с порхающими между сливовыми ветками бабочками и птицами и нижнее одеяние из темно-лилового блестящего шелка предназначалось для госпожи Акаси. «Такой наряд может быть к лицу только очень благородной особе», – подумала госпожа, ощутив новый укол ревности.
Для монахини Уцусэми министр выбрал изысканное платье из зеленоватого шитья и к нему еще два: желтое и светло-розовое.
Всем дамам Гэндзи отправил письма, в которых просил облачиться в эти наряды в один и тот же день. Разумеется, ему не терпелось узнать, к лицу ли им новые платья.
Дамы постарались ответить как можно изящнее и щедро одарили гонцов. Дочь принца Хитати жила дальше всех, в Восточной усадьбе, потому и дары ее должны были быть самыми роскошными, а поскольку особа эта никогда не забывала приличий, гонец получил великолепное женское платье цвета «керрия» с засаленными от долгой носки рукавами, которое без нижнего одеяния напоминало пустую скорлупку цикады.
Ответ она написала на толстой и пожелтевшей от времени бумаге «митиноку», пропитанной благовониями:
«Получила Ваш дар, и еще печальнее стало…
Почерк у нее был удивительно старомодный. Министр так долго разглядывал письмо, что госпожа Мурасаки стала подозрительно на него посматривать: «Что там такое?»
О китайский наряд!
Облачилась в него, но обида
Прежняя в сердце.
И его возвращаю тебе,
Рукава омочив слезами…»
Гонец же поспешил незаметно скрыться, опасаясь, что жалкие дары, полученные им от дочери принца, могут огорчить и раздосадовать господина министра.
Дамы пересмеивались и перешептывались. Мало того, что дочь принца Хитати была неисправимо старомодна, она еще не желала понимать, что столь упорное стремление ни в коем случае не отставать от других может поставить в неловкое положение не только ее, но и окружающих.
– Право, нам до нее далеко, – улыбаясь, сказал министр. – Приверженцы старинного стиля в поэзии просто не в силах обойтись без намеков на «китайский наряд», «мокрые рукава». Я сам принадлежу к числу любителей старинной поэзии, но мне все же кажется, что нельзя слепо следовать старым правилам и совершенно пренебрегать современными словами. Такие, как она, считают, что, если песня складывается по какому-нибудь торжественному поводу, на поэтическом собрании или в присутствии Государя, в ней непременно должны быть слова «вместе сойдясь», если же это изящная любовная переписка-поддразнивание, вполне достаточно в позиции «передышки»[23] поставить одно лишь слово – «непостоянный», а остальные слова подберутся сами собой.
Можно перечитать все руководства, затвердить все слова-зачины и научиться самому умело использовать их, но боюсь, что произведения, созданные таким образом, будут удручающе однообразны. Дочь принца Хитати прислала мне как-то сочинение своего отца, «Записки на бумаге «канъя»«. Там с докучной подробностью изложены основы стихосложения, перечислены опаснейшие болезни[24] японских песен. У меня сложилось впечатление, что человек, никогда не блиставший в этой области особыми талантами, прочтя подобное сочинение, почувствует себя еще более скованным, чем прежде. Удрученный, я вернул записки их владелице. Откровенно говоря, для особы, столь глубоко проникшей в тайны поэтического мастерства, эта песня слишком заурядна, – заметил министр, как видно из жалости к дочери принца Хитати притворяясь заинтересованным.
– Для чего же вы вернули эти записки? – спросила госпожа, и самое неподдельное удивление звучало в ее голосе. – Их следовало переписать для нашей маленькой госпожи. У меня имелось когда-то нечто подобное, но, к сожалению, все свитки были уничтожены насекомыми. Не читавшему таких записок трудно овладеть тайнами поэтического мастерства.
– А по-моему, маленькая госпожа вполне может обойтись без них. Женщине не подобает все усилия свои сосредоточивать на чем-то одном. Это, разумеется, не значит, что она должна оставаться совершенно невежественной. Мне всегда нравились женщины, у которых за внешней мягкостью скрываются тонкий ум и высокие устремления, – сказал министр, а поскольку, судя по всему, отвечать на письмо он не собирался, госпожа заметила:
– Если не ошибаюсь, там сказано «и его возвращаю…». Будет лучше, если вы все-таки ответите.
У министра было доброе сердце, и его не пришлось долго упрашивать. Не долго думая, он набросал ответ:
О, я хорошо понимаю Вас…» – вот, кажется, и все, что он написал.
«Платье верну»,
Ты сказала, но слышится мне:
«Платье выверну я…»[25]
Представляю, как грустно одной
Коротать тебе долгие ночи… (202)

Первая песня
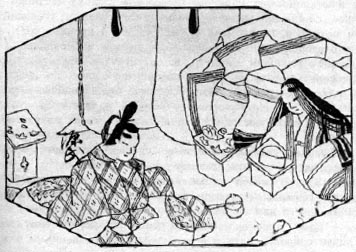
Основные персонажи
Великий министр (Гэндзи), 36 летГоспожа Весенних (Южных) покоев (Мурасаки), 28 лет, – супруга Гэндзи
Маленькая госпожа, 8 лет, – дочь Гэндзи и госпожи Акаси
Обитательница Северных покоев (госпожа Акаси), 27 лет, – возлюбленная Гэндзи
Дочь принца Хитати (Суэцумухана) – возлюбленная Гэндзи
Уцусэми – вдова правителя Хитати (Иё-но сукэ – см. кн. 1, гл. «Пустая скорлупка цикады», кн. 2, гл. «У заставы»)
Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года, – дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи
Тюдзё (Югири), 15 лет, – сын Гэндзи и Аои
Бэн-но сёсё (Кобай) – сын министра Двора
В первый день Нового года над столицей сияло безоблачное небо, и даже за самыми ничтожными оградами по проталинам пробивались нежные молодые ростки; над землей, словно торопя весну, плавал зыбкий туман, над деревьями сгущалась зеленоватая дымка, а лица людей сияли довольством и сердечным весельем.
Нетрудно себе представить, каким поистине драгоценным блеском сверкал в эти дни дом на Шестой линии! Здесь все, начиная с сада, вызывало восхищение, и никаких слов недостанет, чтобы описать изысканнейшую роскошь внутренних покоев.
Особенно хорош был весенний сад. В воздухе витал аромат цветущей сливы, такой густой, словно нарочно воскурили благовония. Казалось, вот она перед нами – земля Вечного блаженства.
Госпожа Мурасаки, несмотря на высокое положение, жила спокойно и неторопливо. Самых молодых и миловидных прислужниц она передала своей юной воспитаннице, оставив у себя женщин постарше. Впрочем, они едва ли не превосходили молодых утонченностью манер и изысканностью нарядов. Сегодня в покоях госпожи царило праздничное оживление. Дамы, призывая долголетие, угощались зеркальными мотии[1] и, не забывая о «тысячелетней кроне» (203), желали друг другу благополучия в грядущем году, шутили и смеялись.
