Страница:
– Я знаю, что Великий министр настроен против меня. Но поскольку мое желание не идет вразрез с намерениями родного отца…
Наступила Девятая луна. Однажды в прекрасный утренний час, когда на землю лег первый иней, дамы, всегда готовые услужить тому или иному из поклонников юной госпожи, украдкой принесли в ее покои письма. Сама госпожа не стала их читать, но слушала, как дамы читают их вслух. Было там и письмо от Удайсё.
«Долгая луна вселяла в меня надежду[8], но вот и она на исходе. И я печалюсь, глядя на унылое небо…
А вот что написал принц Хёбукё: «Я понимаю, сколь тщетны мои упования, и что я могу сказать?..
Письмо принца было привязано к тонкому стеблю тростника, на листьях которого еще сохранился иней. Под стать этому стеблю был и гонец.
Сахёэ-но ками, сын принца Сикибукё, приходился братом госпоже Мурасаки. Часто бывая в доме Великого министра, он хорошо знал обо всем, что там происходит. Вот и теперь, не в силах сдержать досаду, поспешил высказать девушке свои обиды:
– О да, очень скоро мы не будем уже получать этих писем, – сетовали дамы. – Какая тоска!
А что думала юная госпожа?
Она ответила только принцу Хёбукё, причем чрезвычайно кратко:
В те дни девушка получила много и других, совсем уж незначительных писем, полных обид и любовных жалоб.
Говорят, что оба министра сочли ее поведение образцом, которому должна следовать любая женщина…

Кипарисовый столб
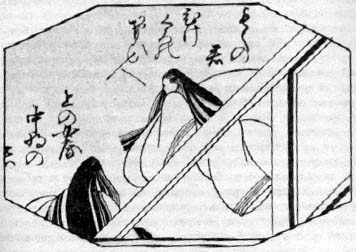
Удайсё (Хигэкуро) – супруг Тамакадзура
Девушка из Западного флигеля, госпожа Найси-но ками (Тамакадзура), – дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи
Министр Двора, министр со Второй линии (То-но тюдзё), – брат Аои, первой супруги Гэндзи
Государь (Рэйдзэй) – сын Фудзицубо и Гэндзи (официально – сын имп. Кирицубо)
Нёго Кокидэн – дочь министра Двора, наложница имп. Рэйдзэй
Принц Хёбукё (Хотару) – сын имп. Кирицубо, младший брат Гэндзи
Госпожа Мурасаки, госпожа Весенних покоев, 29-30 лет, – супруга Гэндзи, дочь принца Сикибукё
Госпожа Северных покоев в доме Удайсё – первая супруга Хигэкуро, дочь принца Сикибукё
Девочка (Макибасира), 12 (13) – 13 (14) лет, – дочь Хигэкуро
То-но тюдзё (Касиваги) – сын министра Двора
Госпожа Оми – побочная дочь министра Двора
Сайсё-но тюдзё (Югири), 16-17 лет, – сын Гэндзи
– Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Государь, – предостерегал Великий министр. – Постарайтесь пока не предавать дело огласке.
Однако Удайсё совсем потерял голову. Прошло немало времени со дня их первой встречи, но юная госпожа из Западного флигеля по-прежнему сторонилась его и целыми днями грустила, сетуя на злосчастную судьбу. Это не могло не обижать Удайсё, но чаще он радовался, поддерживаемый уверенностью в давней связанности их судеб. Каждый день он обнаруживал в своей возлюбленной все новые и новые достоинства и содрогался от ужаса, представляя себе, сколь легко могла она стать достоянием другого. Он готов был одинаково щедро отблагодарить бодхисаттву Каннон из храма Исияма и прислужницу Бэн, но, к его величайшему сожалению, эта последняя, понимая, что ее пособничество имело весьма неблагоприятные последствия для госпожи, давно уже не появлялась в доме на Шестой линии.
Впрочем, скорее всего дело действительно не обошлось без вмешательства Каннон, ибо как иначе объяснить поведение юной госпожи, которая из всех своих поклонников, изнывающих от любви к ней, выбрала того, к кому не имела ни малейшей сердечной склонности? Великий министр, никогда не одобрявший искательств Удайсё, был весьма раздосадован, но мог ли он что-нибудь изменить? Поскольку союз этот получил всеобщее признание, было бы дурно и несправедливо по отношению к Удайсё выказывать теперь свое недовольство, поэтому Великому министру ничего не оставалось, как отпраздновать это событие с возможной пышностью и взять на себя заботы о зяте.
Удайсё, желая как можно быстрее перевезти супругу к себе, торопил с приготовлениями, но Великий министр все не давал своего согласия, якобы из опасения, что столь неоправданная поспешность повредит доброму имени юной госпожи, не говоря уже о том, что ей нелегко будет жить в одном доме с особой, наверняка настроенной по отношению к ней враждебно.
– Я полагаю, что торопливость в таких делах губительна, – сказал он. – Действуйте тихо, без особой огласки, и никто вас не осудит.
– Что ж, пожалуй, это и к лучшему, – потихоньку говорил своим близким министр Двора. – Не могу сказать, чтобы меня радовало ее поступление на придворную службу. Не имея надежного покровителя, нельзя достойно противостоять своим соперницам. Сам я искренне расположен к ней, но как быть с нёго Кокидэн?
В самом деле, как ни почетно служить Государю, положение юной госпожи при дворе, несомненно, было бы весьма шатким. Остальные дамы скорее всего пренебрегали бы ею, а Государь если и удостаивал бы внимания, то крайне редко, к тому же он вряд ли стал бы обращаться с ней как со значительной особой.
Поэтому, когда министру Двора донесли, какими посланиями обменялись новобрачные на Третью ночь, он от всего сердца порадовался за юную госпожу и возблагодарил Великого министра, проявившего по отношению к ней столь трогательную заботливость.
Поначалу союз этот был окружен тайной, но скоро люди проведали о нем и стали передавать один другому эту волнующую новость, так что в конце концов весь мир заговорил о столь необыкновенном событии. Слух о том дошел и до Государя.
– Досадно, что наши с ней судьбы оказались несвязанными, – изволил посетовать он. – Впрочем, если она по-прежнему готова поступить на придворную службу, я ничего не имею против. Хотя теперь о более высоком положении не может идти и речи.
Настала Одиннадцатая луна. Во Дворце одно за другим проходили торжественные празднества, доставлявшие немало забот дворцовым прислужницам. Они то и дело обращались за советами к новой своей начальнице, поэтому в Западном флигеле в те дни царило необычайное оживление. К величайшему огорчению госпожи Найси-но ками, Удайсё теперь даже в дневное время оставался в ее покоях, прячась от прислуживающих дам. Надобно ли сказывать о том, каким разочарованием был этот союз для принца Хёбукё и прочих?
Сахёэ-но ками печалился еще и потому, что имя младшей сестры его, госпожи Северных покоев в доме Удайсё, стало достоянием людской молвы. Однако же ему ничего не оставалось, как смириться. Да и в самом деле, разумно ли было теперь кого-то винить?
Удайсё, всегда пользовавшийся в мире славой человека благонравного и благоразумного, не способного на сумасбродства, теперь словно переродился. Как будто, отдав сердце девушке, он вдруг впервые ощутил вкус к жизненным удовольствиям. Когда приходил он к ней вечером и уходил на рассвете, дамы наперебой восторгались великолепием его наряда и изысканностью манер. Однако сама госпожа утрачивала в его присутствии всю свою жизнерадостность. Глубокое уныние, отражавшееся на лице ее, ясно говорило о том, что не по душе ей этот союз. Со стыдом представляя себе, что должен думать теперь о ней Великий министр, вспоминая, сколько искренней нежности было в посланиях принца Хёбукё, она еще больше тяготилась присутствием Удайсё и обращалась с ним весьма сурово.
Наконец-то все, кто принимал такое участие в юной госпоже из Западного флигеля, получили возможность убедиться в том, что их подозрения были лишены оснований и что за Великим министром нет никакой вины. «О, я никогда не обнаруживал склонности к случайным, недозволенным связям», – думал Гэндзи, вспоминая былые увлечения.
– Вот видите, – не преминул сказать он госпоже Мурасаки, – а ведь, наверное, и вы сомневались во мне.
«Теперь тем более не следует поддаваться искушению», – решил Гэндзи, но не так-то просто было заставить себя отказаться от той, к которой еще совсем недавно сердце его влеклось с такой неодолимой силой, что, казалось, готовы были рухнуть последние преграды.
Однажды днем, когда Удайсё куда-то уехал, Великий министр зашел в Западный флигель. Удрученная столь скорой и неожиданной переменой в своей жизни, госпожа Найси-но ками постоянно чувствовала себя больной и редко бывала в хорошем расположении духа. Однако же, узнав о приходе Великого министра, нашла в себе силы подняться и побеседовать с ним через занавес.
Гэндзи проявлял необычную для него осторожность и держался куда церемоннее, чем прежде, стараясь касаться в разговоре лишь самых общих предметов. Постоянно видя рядом с собой человека вполне заурядного, ограниченных способностей, юная госпожа смогла наконец в полной мере оценить достоинства Великого министра и теперь, глядя на него, печально роняла слезы. Ей было стыдно, неловко. Ведь еще совсем недавно она и помыслить не могла, что ее жизнь так внезапно изменится. Постепенно разговор стал более доверительным. Министр сидел, облокотясь на стоящую рядом скамеечку, и время от времени заглядывал за занавес.
Бледное, осунувшееся лицо Найси-но ками казалось ему необыкновенно привлекательным. Ее нежные черты словно стали еще нежнее, и Гэндзи снова пожалел о том, что согласился отдать ее другому.
Заметив, что этот разговор явно неприятен госпоже Найси-но ками: «Не поздно ли?..», министр поспешил заговорить о другом.
– Я полагаю, что мы не вправе пренебрегать желанием Государя, поэтому мне представляется совершенно необходимым перевезти вас во Дворец хотя бы на некоторое время. При том, что господин Удайсё считает вас теперь своей личной собственностью, вам будет чрезвычайно трудно исполнять придворные обязанности. Все сложилось совершенно не так, как я предполагал, но, поскольку министр со Второй линии доволен, мне вряд ли стоит проявлять беспокойство.
Слушая его, госпожа Найси-но ками молча заливалась слезами, растроганная и одновременно смущенная. Видя ее в таком унынии, Великий министр из жалости к ней не позволил себе никаких вольностей и лишь объяснил, как следует вести себя во Дворце и в чем будут заключаться ее обязанности. Судя по всему, он готов был любыми средствами отдалить ее переезд в дом супруга.
Удайсё же, недовольный решением Великого министра, дал свое согласие лишь потому, что рассчитывал прямо из Дворца, где Найси-но ками проведет несколько дней, перевезти ее к себе. Необходимость тайно посещать супругу была ему внове и казалась крайне обременительной, поэтому он с воодушевлением принялся приводить в порядок свое запущенное жилище, распорядился, чтобы вычистили покои, обновили убранство. При этом он совершенно не замечал, как удручена происходящим госпожа Северных покоев, и даже на детей, которые были прежде столь милы ему, не обращал никакого внимания.
Люди мягкосердечные, обладающие чувствительной душой, при любых обстоятельствах стараются прежде всего щадить чувства окружающих, однако Удайсё, будучи человеком своенравным, не желал считаться ни с кем, в том числе и со своей первой супругой. Она же была не из тех женщин, которыми можно легко пренебречь. Ее отец, принц Сикибукё, принадлежавший к высшей столичной знати, дал дочери воспитание, сообразное ее полу и званию. В свете о ней отзывались весьма благосклонно, к тому же она была хороша собой. Но, к несчастью, уже много лет преследовал ее на редкость упорный дух, и часто, вовсе теряя рассудок, она лишалась человеческого облика, что скорее всего и послужило причиной охлаждения к ней супруга. Однако до сих пор не находилось никого, кто дерзнул бы посягнуть на ее положение в доме Удайсё, и только теперь, когда его сердцем завладела дочь министра Двора – прекраснейшая из прекрасных, к тому же оказавшаяся неповинной в том, в чем ее подозревали… Мудрено ли, что Удайсё совсем потерял голову?
Услыхав о намерениях зятя, принц Сикибукё сказал:
– Хорошо, если для вас найдется хоть какой-нибудь жалкий уголок в доме, когда он перевезет к себе эту молодую, блестящую особу. Над вами станут смеяться! Нет, пока я жив, я не позволю моей дочери позорить свое имя!
Приведя в порядок Восточный флигель своего дома, он готов был немедленно перевезти дочь к себе, но ее одолевали сомнения. Хотя и родным был для нее этот дом, могла ли она вернуться туда и, открыто признав, что пришел конец ее казавшемуся таким прочным супружеству, вверить себя попечениям отца? От тягостных мыслей рассудок ее помрачился, и она слегла.
От природы супруга Удайсё была кроткого, миролюбивого нрава, простодушная, словно дитя. Однако частые приступы безумия отвращали от нее близких. В покоях ее царил невообразимый беспорядок, одевалась она небрежно, подчас просто неопрятно, вид имела угрюмый и мрачный. Ей ли было соперничать с окруженной изысканнейшей роскошью Найси-но ками? Впрочем, не так-то легко разорвать столь давние узы, и в глубине души Удайсё до сих пор жалел ее.
– Людям нашего состояния, – говорил он, – даже если их и не связывает столько вместе прожитых лет, должно проявлять терпимость, ибо единственно она может стать залогом вечного согласия. Ваше болезненное состояние мешало мне поговорить с вами. Но подумайте, разве нас не связывает давний обет? Разве я не выказывал своей готовности заботиться о вас всегда, несмотря на вашу болезнь, которая делает вас столь непохожей на остальных женщин? Долгие годы вы были единственным предметом моих попечений, я молча сносил все ваши причуды, отчего же вы решили, что так не может продолжаться и впредь? Неужели вы и в самом деле собираетесь покинуть меня? Я не раз говорил вам, что никогда не оставлю вас, хотя бы потому, что у нас есть дети, но, видно, женщина, тем более такая, как вы, не всегда способна владеть своими чувствами, и вы не упускаете случая упрекнуть меня. Я понимаю, что трудно требовать от вас иного, пока вы не убедитесь в искренности моих намерений, но доверьтесь же мне и потерпите еще немного. Подумайте, разве для вашего доброго имени не более губительно поведение вашего отца, который чуть что сразу же приходит в ярость и во всеуслышание заявляет, что немедленно заберет вас к себе? Не знаю только, действительно ли он этого хочет? Или просто решил проучить меня?
Тут на лице Удайсё появилась усмешка, которая рассердила бы кого угодно, но госпожа Северных покоев, находясь в тот миг в здравом рассудке, проявила необычайную кротость и только заплакала горько. Это было тем более удивительно, что даже госпожа Моку, госпожа Тюдзё и другие близкие Удайсё дамы в последнее время нередко позволяли себе открыто выказывать ему свое недовольство.
– Вы всё стыдите меня: мол, и глупа я, и безумна, – сказала госпожа Северных покоев. – Что ж, наверное, вы правы. Но зачем впутывать сюда моего отца? Он может узнать об этом. Мне бы не хотелось, чтобы о нем дурно говорили в мире только потому, что судьба послала ему столь злополучную дочь. Сама я настолько ко всему привыкла, что научилась не обращать внимания на ваши слова.
Женщина повернулась к нему спиной, и сердце его болезненно сжалось. Она всегда была хрупкого сложения, а в последнее время, изнуренная долгой болезнью, еще больше похудела и побледнела, ее когда-то длинные и густые волосы поредели, словно к ним прикоснулась чья-то безжалостная рука, к тому же она нечасто их расчесывала, и они совсем спутались, а теперь еще и намокли от слез. Словом, при виде ее у всякого дрогнуло бы от жалости сердце. Она никогда не была красавицей, но благодаря своему сходству с принцем казалась довольно изящной и только в последнее время очень подурнела, перестав заботиться о своей наружности.
– Я никогда не позволял себе непочтительно отзываться о принце! Прошу вас остерегаться подобных обвинений, которые к тому же могут быть дурно истолкованы, – говорит Удайсё, пытаясь смягчить ее. – Все дело в том, что в доме Великого министра я чувствую себя весьма неловко. Столь грубому человеку, как я, не место в драгоценных чертогах, и я невольно привлекаю к себе внимание, которое меня смущает. Ради собственного спокойствия я и решил перевезти ее сюда. Мне незачем говорить вам о том, каким влиянием в мире пользуется Великий министр, вы и сами знаете. Я бы не хотел, чтобы до его домочадцев, которых благополучию можно лишь позавидовать, дошли слухи о вашем неблаговидном поведении. О вас станут дурно говорить, а это недопустимо. Но я надеюсь, что вы будете вести себя спокойно и дружелюбно. Разумеется, я не оставлю вас своими заботами, даже если вы переедете к отцу. Нас связывает слишком многое, и мы не можем сразу стать друг другу чужими. Но мне будет неприятно, если люди станут злословить и смеяться над вами, тем более что из-за этого пострадает и мое доброе имя. Не лучше ли нам и впредь жить в мире и согласии, во всем помогая друг другу, храня верность прежним обетам? – увещевает он ее, а женщина отвечает:
– Я не обижаюсь на вас, мне больно за отца. До сих пор он печалился из-за того, что я не похожа на обычных людей, а теперь станет терзаться еще и из-за насмешек, которые со всех сторон посыплются на меня. Осмелюсь ли я показаться ему на глаза? Я знаю, что супруга Великого министра мне не чужая, хотя она и воспитывалась вдали от отца. Насколько мне известно, он обвиняет ее в том, что, приняв на себя обязанности матери этой особы, она причинила немало горя нашему семейству, но я никого не упрекаю. Я просто жду, что будет дальше.
– Разумные слова, – замечает Удайсё. – Но боюсь, что, если ваш рассудок снова помрачится, вы натворите немало бед. Кстати говоря, совершенно напрасно винить в происшедшем супругу Великого министра. Господин министр лелеет ее, как единственную, нежно любимую дочь, какое ей может быть дело до особы, занимающей в доме куда более низкое положение? Уж во всяком случае, она не считает себя ее матерью. Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Великий министр.
Они проговорили весь день. Когда же наступил вечер, Удайсё овладело беспокойство, он только и помышлял о том, как бы побыстрее оказаться в доме на Шестой линии. Тут повалил густой снег – погода явно не благоприятствовала Удайсё. Несомненно, если бы госпожа была в дурном расположении духа и донимала его упреками, он не преминул бы воспользоваться этим и, ответив упреком на упрек, удалиться, но ее невозмутимая покорность вызывала невольное сочувствие, и Удайсё терзался, не зная, как лучше поступить. Решетки еще не были опущены, и, подойдя к галерее, он остановился, в нерешительности глядя на сад. Посмотрев на него, госпожа сказала:
– Какая досада, что пошел снег! Как вы поедете? Скоро стемнеет…
Она торопила мужа, как будто понимая, что бессмысленно удерживать его теперь, когда все кончено. Право, нельзя было не растрогаться, на нее глядя.
– Как я поеду в такую погоду… – колебался Удайсё, но потом сказал: – Пожалуй, мне и в самом деле не следует пренебрегать ею хотя бы на первых порах. Не ведая глубины моих чувств, люди наверняка начнут судачить, по-своему объясняя мое отсутствие. Разговоры эти так или иначе дойдут до министров, а мне не хотелось бы навлекать на себя их немилость. Постарайтесь же успокоиться и наберитесь терпения. Как только я перевезу ее сюда, все уладится. Право, вы так милы мне, когда рассуждаете здраво, что я ни о ком другом и не помышляю.
– А мне гораздо тяжелее, когда сами вы рядом со мной, а сердце ваше совсем в другом месте… – тихо отвечала госпожа. – Когда же вы будете далеко и вспомните обо мне, лед, «рукава сковавший» (252), и тот растает…
Придвинув к себе курильницу, она принялась старательно окуривать его одежды. На ней самой было мятое домашнее платье, в котором она казалась еще более худой и болезненной, чем обычно. Ее печаль была столь трогательна, что просто нельзя было не принять в ней участия. Опухшие от слез глаза отнюдь не красили ее, но теперь, когда он смотрел на нее с приязнью, это уже не имело значения. «Все-таки мы прожили вместе столько лет…» – думал он, коря себя за легкость, с которой, забыв обо всем на свете, отдал свое сердце другой. Однако его все больше влекло к Найси-но ками. Притворно вздыхая, он оделся и, взяв курильницы, вложил их в рукава, чтобы те пропитались благовониями. Одетый в мягкое, свободное платье, он производил довольно приятное впечатление мужественной, благородной осанкой и особым достоинством, которое проглядывало в каждом его движении, – словом, хотя и далеко ему было до несравненного, блистательного Гэндзи…
Скоро в покоях для служителей раздались голоса:
– Снег, кажется, уже перестал идти…
– Да и стемнело совсем…
Приближенные Удайсё как бы между прочим покашливали, поторапливая его. Дамы Моку и Тюдзё уже легли, вздыхая и жалуясь друг другу на печальную изменчивость этого мира. Госпожа, грустная и прелестная в своей задумчивости, тоже легла, прислонившись к чему-то, но вдруг снова вскочила, вытащила из-под большой плетенки курильницу и, подбежав сзади к Удайсё, высыпала содержимое ему на платье. Никто и вскрикнуть не успел, а сам Удайсё, совершенно растерявшись, застыл на месте. Мельчайшие частицы пепла попали ему в глаза, забились в ноздри, он стоял, бессмысленно озираясь, не успев и понять, что произошло.
Как ни старался Удайсё отряхнуть платье, это ему не удавалось – пепел забился во все складки. Будь госпожа в здравом уме, подобная выходка скорее всего окончательно оттолкнула бы от нее супруга, но она явно не владела собой, и дамы смотрели на нее с жалостью: «Этот злой дух словно нарочно хочет поссорить их». Они засуетились, принесли новое платье, и Удайсё поспешил переодеться. Но пепел засыпал ему бороду, казалось, им было покрыто все тело, разве мог он появиться в таком виде в сверкающих чистотой покоях Найси-но ками?
«Я понимаю, что разум госпожи помрачен, но, право, всякому терпению есть предел, это просто неслыханно!» – возмущался он, и в сердце его росла неприязнь к супруге, постепенно вытесняя последние остатки жалости.
Понимая, однако, что всякие решительные меры привели бы к нежелательным последствиям, он постарался овладеть собой и, хотя стояла глубокая ночь, призвал монахов, которые немедля стали произносить над больной молитвы и заклинания. Можно себе представить, с какой жалостью и с каким отвращением прислушивался Удайсё к безумным воплям супруги…
Всю ночь монахи били тело больной четками, тянули его в стороны, а она рыдала и билась. К утру же, когда несчастная немного успокоилась, Удайсё отправил к Найси-но ками весьма обстоятельное письмо следующего содержания:
Наступила Девятая луна. Однажды в прекрасный утренний час, когда на землю лег первый иней, дамы, всегда готовые услужить тому или иному из поклонников юной госпожи, украдкой принесли в ее покои письма. Сама госпожа не стала их читать, но слушала, как дамы читают их вслух. Было там и письмо от Удайсё.
«Долгая луна вселяла в меня надежду[8], но вот и она на исходе. И я печалюсь, глядя на унылое небо…
Судя по всему, Удайсё было хорошо известно, что, как только кончится Долгая луна, девушка поступит на службу во Дворец.
Не будь я ничтожен,
Мог бы тоже думать с досадой
О Долгой луне,
Но готов заплатить я жизнью
За каждый оставшийся день…»
А вот что написал принц Хёбукё: «Я понимаю, сколь тщетны мои упования, и что я могу сказать?..
По крайней мере мне будет отрадно сознавать, что Вы знаете о моих чувствах…»
Даже если прольет
На тебя свет свой утренний солнце,
Жемчужный тростник,
Не стряхивай сразу же иней,
Упавший на листья твои… (248)
Письмо принца было привязано к тонкому стеблю тростника, на листьях которого еще сохранился иней. Под стать этому стеблю был и гонец.
Сахёэ-но ками, сын принца Сикибукё, приходился братом госпоже Мурасаки. Часто бывая в доме Великого министра, он хорошо знал обо всем, что там происходит. Вот и теперь, не в силах сдержать досаду, поспешил высказать девушке свои обиды:
При полном несходстве все без исключения письма были очень хороши – каждое по-своему. Прекрасно подобранный цвет бумаги, изысканные оттенки туши, чарующий аромат…
«Забуду тебя -
Я решил, но, как ни стараюсь,
Тоска все сильней.
Как же мне теперь поступить?
Что мне делать теперь с собою?» (249)
– О да, очень скоро мы не будем уже получать этих писем, – сетовали дамы. – Какая тоска!
А что думала юная госпожа?
Она ответила только принцу Хёбукё, причем чрезвычайно кратко:
Знаки, начертанные бледной тушью, показались принцу необыкновенно изящными. Всего несколько слов, случайных, словно росинки на листке, но они были проникнуты искренним сочувствием, и принц возрадовался, хотя может ли что-нибудь быть ненадежнее такого утешения?
«Раскрыв лепестки,
Тянется солнцу навстречу
Цветущая мальва.
Но удастся ли ей самой
Утренний иней стряхнуть…»
В те дни девушка получила много и других, совсем уж незначительных писем, полных обид и любовных жалоб.
Говорят, что оба министра сочли ее поведение образцом, которому должна следовать любая женщина…

Кипарисовый столб
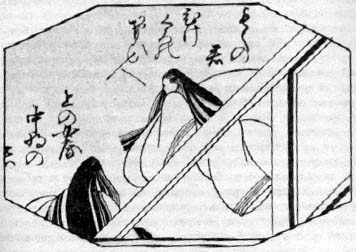
Основные персонажи
Великий министр (Гэндзи), 37-38 летУдайсё (Хигэкуро) – супруг Тамакадзура
Девушка из Западного флигеля, госпожа Найси-но ками (Тамакадзура), – дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи
Министр Двора, министр со Второй линии (То-но тюдзё), – брат Аои, первой супруги Гэндзи
Государь (Рэйдзэй) – сын Фудзицубо и Гэндзи (официально – сын имп. Кирицубо)
Нёго Кокидэн – дочь министра Двора, наложница имп. Рэйдзэй
Принц Хёбукё (Хотару) – сын имп. Кирицубо, младший брат Гэндзи
Госпожа Мурасаки, госпожа Весенних покоев, 29-30 лет, – супруга Гэндзи, дочь принца Сикибукё
Госпожа Северных покоев в доме Удайсё – первая супруга Хигэкуро, дочь принца Сикибукё
Девочка (Макибасира), 12 (13) – 13 (14) лет, – дочь Хигэкуро
То-но тюдзё (Касиваги) – сын министра Двора
Госпожа Оми – побочная дочь министра Двора
Сайсё-но тюдзё (Югири), 16-17 лет, – сын Гэндзи
– Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Государь, – предостерегал Великий министр. – Постарайтесь пока не предавать дело огласке.
Однако Удайсё совсем потерял голову. Прошло немало времени со дня их первой встречи, но юная госпожа из Западного флигеля по-прежнему сторонилась его и целыми днями грустила, сетуя на злосчастную судьбу. Это не могло не обижать Удайсё, но чаще он радовался, поддерживаемый уверенностью в давней связанности их судеб. Каждый день он обнаруживал в своей возлюбленной все новые и новые достоинства и содрогался от ужаса, представляя себе, сколь легко могла она стать достоянием другого. Он готов был одинаково щедро отблагодарить бодхисаттву Каннон из храма Исияма и прислужницу Бэн, но, к его величайшему сожалению, эта последняя, понимая, что ее пособничество имело весьма неблагоприятные последствия для госпожи, давно уже не появлялась в доме на Шестой линии.
Впрочем, скорее всего дело действительно не обошлось без вмешательства Каннон, ибо как иначе объяснить поведение юной госпожи, которая из всех своих поклонников, изнывающих от любви к ней, выбрала того, к кому не имела ни малейшей сердечной склонности? Великий министр, никогда не одобрявший искательств Удайсё, был весьма раздосадован, но мог ли он что-нибудь изменить? Поскольку союз этот получил всеобщее признание, было бы дурно и несправедливо по отношению к Удайсё выказывать теперь свое недовольство, поэтому Великому министру ничего не оставалось, как отпраздновать это событие с возможной пышностью и взять на себя заботы о зяте.
Удайсё, желая как можно быстрее перевезти супругу к себе, торопил с приготовлениями, но Великий министр все не давал своего согласия, якобы из опасения, что столь неоправданная поспешность повредит доброму имени юной госпожи, не говоря уже о том, что ей нелегко будет жить в одном доме с особой, наверняка настроенной по отношению к ней враждебно.
– Я полагаю, что торопливость в таких делах губительна, – сказал он. – Действуйте тихо, без особой огласки, и никто вас не осудит.
– Что ж, пожалуй, это и к лучшему, – потихоньку говорил своим близким министр Двора. – Не могу сказать, чтобы меня радовало ее поступление на придворную службу. Не имея надежного покровителя, нельзя достойно противостоять своим соперницам. Сам я искренне расположен к ней, но как быть с нёго Кокидэн?
В самом деле, как ни почетно служить Государю, положение юной госпожи при дворе, несомненно, было бы весьма шатким. Остальные дамы скорее всего пренебрегали бы ею, а Государь если и удостаивал бы внимания, то крайне редко, к тому же он вряд ли стал бы обращаться с ней как со значительной особой.
Поэтому, когда министру Двора донесли, какими посланиями обменялись новобрачные на Третью ночь, он от всего сердца порадовался за юную госпожу и возблагодарил Великого министра, проявившего по отношению к ней столь трогательную заботливость.
Поначалу союз этот был окружен тайной, но скоро люди проведали о нем и стали передавать один другому эту волнующую новость, так что в конце концов весь мир заговорил о столь необыкновенном событии. Слух о том дошел и до Государя.
– Досадно, что наши с ней судьбы оказались несвязанными, – изволил посетовать он. – Впрочем, если она по-прежнему готова поступить на придворную службу, я ничего не имею против. Хотя теперь о более высоком положении не может идти и речи.
Настала Одиннадцатая луна. Во Дворце одно за другим проходили торжественные празднества, доставлявшие немало забот дворцовым прислужницам. Они то и дело обращались за советами к новой своей начальнице, поэтому в Западном флигеле в те дни царило необычайное оживление. К величайшему огорчению госпожи Найси-но ками, Удайсё теперь даже в дневное время оставался в ее покоях, прячась от прислуживающих дам. Надобно ли сказывать о том, каким разочарованием был этот союз для принца Хёбукё и прочих?
Сахёэ-но ками печалился еще и потому, что имя младшей сестры его, госпожи Северных покоев в доме Удайсё, стало достоянием людской молвы. Однако же ему ничего не оставалось, как смириться. Да и в самом деле, разумно ли было теперь кого-то винить?
Удайсё, всегда пользовавшийся в мире славой человека благонравного и благоразумного, не способного на сумасбродства, теперь словно переродился. Как будто, отдав сердце девушке, он вдруг впервые ощутил вкус к жизненным удовольствиям. Когда приходил он к ней вечером и уходил на рассвете, дамы наперебой восторгались великолепием его наряда и изысканностью манер. Однако сама госпожа утрачивала в его присутствии всю свою жизнерадостность. Глубокое уныние, отражавшееся на лице ее, ясно говорило о том, что не по душе ей этот союз. Со стыдом представляя себе, что должен думать теперь о ней Великий министр, вспоминая, сколько искренней нежности было в посланиях принца Хёбукё, она еще больше тяготилась присутствием Удайсё и обращалась с ним весьма сурово.
Наконец-то все, кто принимал такое участие в юной госпоже из Западного флигеля, получили возможность убедиться в том, что их подозрения были лишены оснований и что за Великим министром нет никакой вины. «О, я никогда не обнаруживал склонности к случайным, недозволенным связям», – думал Гэндзи, вспоминая былые увлечения.
– Вот видите, – не преминул сказать он госпоже Мурасаки, – а ведь, наверное, и вы сомневались во мне.
«Теперь тем более не следует поддаваться искушению», – решил Гэндзи, но не так-то просто было заставить себя отказаться от той, к которой еще совсем недавно сердце его влеклось с такой неодолимой силой, что, казалось, готовы были рухнуть последние преграды.
Однажды днем, когда Удайсё куда-то уехал, Великий министр зашел в Западный флигель. Удрученная столь скорой и неожиданной переменой в своей жизни, госпожа Найси-но ками постоянно чувствовала себя больной и редко бывала в хорошем расположении духа. Однако же, узнав о приходе Великого министра, нашла в себе силы подняться и побеседовать с ним через занавес.
Гэндзи проявлял необычную для него осторожность и держался куда церемоннее, чем прежде, стараясь касаться в разговоре лишь самых общих предметов. Постоянно видя рядом с собой человека вполне заурядного, ограниченных способностей, юная госпожа смогла наконец в полной мере оценить достоинства Великого министра и теперь, глядя на него, печально роняла слезы. Ей было стыдно, неловко. Ведь еще совсем недавно она и помыслить не могла, что ее жизнь так внезапно изменится. Постепенно разговор стал более доверительным. Министр сидел, облокотясь на стоящую рядом скамеечку, и время от времени заглядывал за занавес.
Бледное, осунувшееся лицо Найси-но ками казалось ему необыкновенно привлекательным. Ее нежные черты словно стали еще нежнее, и Гэндзи снова пожалел о том, что согласился отдать ее другому.
Увы, трудно было предвидеть… – всхлипывая, проговорил он, и лицо его в тот миг было таким прекрасным, что дрогнуло бы самое суровое сердце. Смущенно потупившись, Найси-но ками отвечала:
– Из этой реки
Я сам не пытался черпать.
Но какая тоска
Думать, что кто-то другой
К переправе тебя поведет.[1] (250)
– Что за неразумное желание! – улыбнувшись, сказал министр. – Разве есть средство миновать эти три переправы? Единственное, чего желал бы я, – перевести вас самому, крепко держа за руку. Впрочем, если говорить всерьез, – добавил он, – вы, наверное, успели понять, что более безобидного и доверчивого глупца, чем я, трудно сыскать в этом мире. Надеюсь, хоть теперь…
– Хотела бы я,
Легкой пеной вскипев, растаять
В реке собственных слез
Еще до того, как дорога
Приведет меня к трем переправам…
Заметив, что этот разговор явно неприятен госпоже Найси-но ками: «Не поздно ли?..», министр поспешил заговорить о другом.
– Я полагаю, что мы не вправе пренебрегать желанием Государя, поэтому мне представляется совершенно необходимым перевезти вас во Дворец хотя бы на некоторое время. При том, что господин Удайсё считает вас теперь своей личной собственностью, вам будет чрезвычайно трудно исполнять придворные обязанности. Все сложилось совершенно не так, как я предполагал, но, поскольку министр со Второй линии доволен, мне вряд ли стоит проявлять беспокойство.
Слушая его, госпожа Найси-но ками молча заливалась слезами, растроганная и одновременно смущенная. Видя ее в таком унынии, Великий министр из жалости к ней не позволил себе никаких вольностей и лишь объяснил, как следует вести себя во Дворце и в чем будут заключаться ее обязанности. Судя по всему, он готов был любыми средствами отдалить ее переезд в дом супруга.
Удайсё же, недовольный решением Великого министра, дал свое согласие лишь потому, что рассчитывал прямо из Дворца, где Найси-но ками проведет несколько дней, перевезти ее к себе. Необходимость тайно посещать супругу была ему внове и казалась крайне обременительной, поэтому он с воодушевлением принялся приводить в порядок свое запущенное жилище, распорядился, чтобы вычистили покои, обновили убранство. При этом он совершенно не замечал, как удручена происходящим госпожа Северных покоев, и даже на детей, которые были прежде столь милы ему, не обращал никакого внимания.
Люди мягкосердечные, обладающие чувствительной душой, при любых обстоятельствах стараются прежде всего щадить чувства окружающих, однако Удайсё, будучи человеком своенравным, не желал считаться ни с кем, в том числе и со своей первой супругой. Она же была не из тех женщин, которыми можно легко пренебречь. Ее отец, принц Сикибукё, принадлежавший к высшей столичной знати, дал дочери воспитание, сообразное ее полу и званию. В свете о ней отзывались весьма благосклонно, к тому же она была хороша собой. Но, к несчастью, уже много лет преследовал ее на редкость упорный дух, и часто, вовсе теряя рассудок, она лишалась человеческого облика, что скорее всего и послужило причиной охлаждения к ней супруга. Однако до сих пор не находилось никого, кто дерзнул бы посягнуть на ее положение в доме Удайсё, и только теперь, когда его сердцем завладела дочь министра Двора – прекраснейшая из прекрасных, к тому же оказавшаяся неповинной в том, в чем ее подозревали… Мудрено ли, что Удайсё совсем потерял голову?
Услыхав о намерениях зятя, принц Сикибукё сказал:
– Хорошо, если для вас найдется хоть какой-нибудь жалкий уголок в доме, когда он перевезет к себе эту молодую, блестящую особу. Над вами станут смеяться! Нет, пока я жив, я не позволю моей дочери позорить свое имя!
Приведя в порядок Восточный флигель своего дома, он готов был немедленно перевезти дочь к себе, но ее одолевали сомнения. Хотя и родным был для нее этот дом, могла ли она вернуться туда и, открыто признав, что пришел конец ее казавшемуся таким прочным супружеству, вверить себя попечениям отца? От тягостных мыслей рассудок ее помрачился, и она слегла.
От природы супруга Удайсё была кроткого, миролюбивого нрава, простодушная, словно дитя. Однако частые приступы безумия отвращали от нее близких. В покоях ее царил невообразимый беспорядок, одевалась она небрежно, подчас просто неопрятно, вид имела угрюмый и мрачный. Ей ли было соперничать с окруженной изысканнейшей роскошью Найси-но ками? Впрочем, не так-то легко разорвать столь давние узы, и в глубине души Удайсё до сих пор жалел ее.
– Людям нашего состояния, – говорил он, – даже если их и не связывает столько вместе прожитых лет, должно проявлять терпимость, ибо единственно она может стать залогом вечного согласия. Ваше болезненное состояние мешало мне поговорить с вами. Но подумайте, разве нас не связывает давний обет? Разве я не выказывал своей готовности заботиться о вас всегда, несмотря на вашу болезнь, которая делает вас столь непохожей на остальных женщин? Долгие годы вы были единственным предметом моих попечений, я молча сносил все ваши причуды, отчего же вы решили, что так не может продолжаться и впредь? Неужели вы и в самом деле собираетесь покинуть меня? Я не раз говорил вам, что никогда не оставлю вас, хотя бы потому, что у нас есть дети, но, видно, женщина, тем более такая, как вы, не всегда способна владеть своими чувствами, и вы не упускаете случая упрекнуть меня. Я понимаю, что трудно требовать от вас иного, пока вы не убедитесь в искренности моих намерений, но доверьтесь же мне и потерпите еще немного. Подумайте, разве для вашего доброго имени не более губительно поведение вашего отца, который чуть что сразу же приходит в ярость и во всеуслышание заявляет, что немедленно заберет вас к себе? Не знаю только, действительно ли он этого хочет? Или просто решил проучить меня?
Тут на лице Удайсё появилась усмешка, которая рассердила бы кого угодно, но госпожа Северных покоев, находясь в тот миг в здравом рассудке, проявила необычайную кротость и только заплакала горько. Это было тем более удивительно, что даже госпожа Моку, госпожа Тюдзё и другие близкие Удайсё дамы в последнее время нередко позволяли себе открыто выказывать ему свое недовольство.
– Вы всё стыдите меня: мол, и глупа я, и безумна, – сказала госпожа Северных покоев. – Что ж, наверное, вы правы. Но зачем впутывать сюда моего отца? Он может узнать об этом. Мне бы не хотелось, чтобы о нем дурно говорили в мире только потому, что судьба послала ему столь злополучную дочь. Сама я настолько ко всему привыкла, что научилась не обращать внимания на ваши слова.
Женщина повернулась к нему спиной, и сердце его болезненно сжалось. Она всегда была хрупкого сложения, а в последнее время, изнуренная долгой болезнью, еще больше похудела и побледнела, ее когда-то длинные и густые волосы поредели, словно к ним прикоснулась чья-то безжалостная рука, к тому же она нечасто их расчесывала, и они совсем спутались, а теперь еще и намокли от слез. Словом, при виде ее у всякого дрогнуло бы от жалости сердце. Она никогда не была красавицей, но благодаря своему сходству с принцем казалась довольно изящной и только в последнее время очень подурнела, перестав заботиться о своей наружности.
– Я никогда не позволял себе непочтительно отзываться о принце! Прошу вас остерегаться подобных обвинений, которые к тому же могут быть дурно истолкованы, – говорит Удайсё, пытаясь смягчить ее. – Все дело в том, что в доме Великого министра я чувствую себя весьма неловко. Столь грубому человеку, как я, не место в драгоценных чертогах, и я невольно привлекаю к себе внимание, которое меня смущает. Ради собственного спокойствия я и решил перевезти ее сюда. Мне незачем говорить вам о том, каким влиянием в мире пользуется Великий министр, вы и сами знаете. Я бы не хотел, чтобы до его домочадцев, которых благополучию можно лишь позавидовать, дошли слухи о вашем неблаговидном поведении. О вас станут дурно говорить, а это недопустимо. Но я надеюсь, что вы будете вести себя спокойно и дружелюбно. Разумеется, я не оставлю вас своими заботами, даже если вы переедете к отцу. Нас связывает слишком многое, и мы не можем сразу стать друг другу чужими. Но мне будет неприятно, если люди станут злословить и смеяться над вами, тем более что из-за этого пострадает и мое доброе имя. Не лучше ли нам и впредь жить в мире и согласии, во всем помогая друг другу, храня верность прежним обетам? – увещевает он ее, а женщина отвечает:
– Я не обижаюсь на вас, мне больно за отца. До сих пор он печалился из-за того, что я не похожа на обычных людей, а теперь станет терзаться еще и из-за насмешек, которые со всех сторон посыплются на меня. Осмелюсь ли я показаться ему на глаза? Я знаю, что супруга Великого министра мне не чужая, хотя она и воспитывалась вдали от отца. Насколько мне известно, он обвиняет ее в том, что, приняв на себя обязанности матери этой особы, она причинила немало горя нашему семейству, но я никого не упрекаю. Я просто жду, что будет дальше.
– Разумные слова, – замечает Удайсё. – Но боюсь, что, если ваш рассудок снова помрачится, вы натворите немало бед. Кстати говоря, совершенно напрасно винить в происшедшем супругу Великого министра. Господин министр лелеет ее, как единственную, нежно любимую дочь, какое ей может быть дело до особы, занимающей в доме куда более низкое положение? Уж во всяком случае, она не считает себя ее матерью. Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Великий министр.
Они проговорили весь день. Когда же наступил вечер, Удайсё овладело беспокойство, он только и помышлял о том, как бы побыстрее оказаться в доме на Шестой линии. Тут повалил густой снег – погода явно не благоприятствовала Удайсё. Несомненно, если бы госпожа была в дурном расположении духа и донимала его упреками, он не преминул бы воспользоваться этим и, ответив упреком на упрек, удалиться, но ее невозмутимая покорность вызывала невольное сочувствие, и Удайсё терзался, не зная, как лучше поступить. Решетки еще не были опущены, и, подойдя к галерее, он остановился, в нерешительности глядя на сад. Посмотрев на него, госпожа сказала:
– Какая досада, что пошел снег! Как вы поедете? Скоро стемнеет…
Она торопила мужа, как будто понимая, что бессмысленно удерживать его теперь, когда все кончено. Право, нельзя было не растрогаться, на нее глядя.
– Как я поеду в такую погоду… – колебался Удайсё, но потом сказал: – Пожалуй, мне и в самом деле не следует пренебрегать ею хотя бы на первых порах. Не ведая глубины моих чувств, люди наверняка начнут судачить, по-своему объясняя мое отсутствие. Разговоры эти так или иначе дойдут до министров, а мне не хотелось бы навлекать на себя их немилость. Постарайтесь же успокоиться и наберитесь терпения. Как только я перевезу ее сюда, все уладится. Право, вы так милы мне, когда рассуждаете здраво, что я ни о ком другом и не помышляю.
– А мне гораздо тяжелее, когда сами вы рядом со мной, а сердце ваше совсем в другом месте… – тихо отвечала госпожа. – Когда же вы будете далеко и вспомните обо мне, лед, «рукава сковавший» (252), и тот растает…
Придвинув к себе курильницу, она принялась старательно окуривать его одежды. На ней самой было мятое домашнее платье, в котором она казалась еще более худой и болезненной, чем обычно. Ее печаль была столь трогательна, что просто нельзя было не принять в ней участия. Опухшие от слез глаза отнюдь не красили ее, но теперь, когда он смотрел на нее с приязнью, это уже не имело значения. «Все-таки мы прожили вместе столько лет…» – думал он, коря себя за легкость, с которой, забыв обо всем на свете, отдал свое сердце другой. Однако его все больше влекло к Найси-но ками. Притворно вздыхая, он оделся и, взяв курильницы, вложил их в рукава, чтобы те пропитались благовониями. Одетый в мягкое, свободное платье, он производил довольно приятное впечатление мужественной, благородной осанкой и особым достоинством, которое проглядывало в каждом его движении, – словом, хотя и далеко ему было до несравненного, блистательного Гэндзи…
Скоро в покоях для служителей раздались голоса:
– Снег, кажется, уже перестал идти…
– Да и стемнело совсем…
Приближенные Удайсё как бы между прочим покашливали, поторапливая его. Дамы Моку и Тюдзё уже легли, вздыхая и жалуясь друг другу на печальную изменчивость этого мира. Госпожа, грустная и прелестная в своей задумчивости, тоже легла, прислонившись к чему-то, но вдруг снова вскочила, вытащила из-под большой плетенки курильницу и, подбежав сзади к Удайсё, высыпала содержимое ему на платье. Никто и вскрикнуть не успел, а сам Удайсё, совершенно растерявшись, застыл на месте. Мельчайшие частицы пепла попали ему в глаза, забились в ноздри, он стоял, бессмысленно озираясь, не успев и понять, что произошло.
Как ни старался Удайсё отряхнуть платье, это ему не удавалось – пепел забился во все складки. Будь госпожа в здравом уме, подобная выходка скорее всего окончательно оттолкнула бы от нее супруга, но она явно не владела собой, и дамы смотрели на нее с жалостью: «Этот злой дух словно нарочно хочет поссорить их». Они засуетились, принесли новое платье, и Удайсё поспешил переодеться. Но пепел засыпал ему бороду, казалось, им было покрыто все тело, разве мог он появиться в таком виде в сверкающих чистотой покоях Найси-но ками?
«Я понимаю, что разум госпожи помрачен, но, право, всякому терпению есть предел, это просто неслыханно!» – возмущался он, и в сердце его росла неприязнь к супруге, постепенно вытесняя последние остатки жалости.
Понимая, однако, что всякие решительные меры привели бы к нежелательным последствиям, он постарался овладеть собой и, хотя стояла глубокая ночь, призвал монахов, которые немедля стали произносить над больной молитвы и заклинания. Можно себе представить, с какой жалостью и с каким отвращением прислушивался Удайсё к безумным воплям супруги…
Всю ночь монахи били тело больной четками, тянули его в стороны, а она рыдала и билась. К утру же, когда несчастная немного успокоилась, Удайсё отправил к Найси-но ками весьма обстоятельное письмо следующего содержания:
