Это письмо вероятно последнее, которое я вам посылаю, ибо, как я уже предсказывал в предшествующих письмах, от нас решили отделаться. Впрочем, нас уже пытались отравить.
Десять дней тому назад мой слуга Ариф, которому я поручил купить через одного офицера молоко, обнаружил, что оно отравлено. Четыре дня спустя, Ариф достал мясо, приготовил его вечером и оставил в своей комнате. Наутро мы обнаружили следы яда на металлических стенках кастрюли. Через несколько дней после этого была отравлена вода в кружке, из которой мы пьем. Все эти попытки были обнаружены благодаря бдительности нашего слуги. Они пробуют теперь другие средства. Мы окружены крайне опасными людьми, среди которых, в частности, находится черкес Бекир. Сообщники этого последнего – три унтер-офицера, живущие с нами. Каждый день вали Осман-паше (губернатор Мекки), получившему жезл маршала за свои „услуги“, приходят из Стамбула новые страшные распоряжения. Нам угрожают самые ужасные опасности, самые коварные планы; я думаю, что нам не удастся спастись. Может быть еще до получения этого письма получите вы сообщение о моей смерти. В этом случае бесполезно сильно огорчаться. Пусть аллах простит нам наши грехи. Если нам предстоит такая смерть, не может быть большего счастья для нас, как погибнуть мучениками за святое дело.
Мое последнее желание, чтобы вы жили в мире, соединившись все вместе у семейного очага. Да защитит вас всемогущий.
Мидхат»
Жена Мидхата сообщила об этом английскому послу. Другие высокопоставленные английские друзья Мидхата пытались добиться его освобождения. Но султан не склонен был выпустить свою жертву. Узнав, что драгоман английского консульства в Джедде справлялся у великого шерифа Мекки [104]об участи Мидхата и получил заверения, что узник еще жив, Абдул-Хамид распорядился арестовать и заключить в тюрьму самого великого шерифа – старца, которому было тогда свыше 100 лет.
 «Кровавый султан» Абдул-Хамид II.
«Кровавый султан» Абдул-Хамид II.
Из пленников, заключеных в Тайфе, зять султана Нури-паша сошел с ума и умер; казнить бывшего шейх-уль-ислама Хайруллу значило восстановить против себя всех улемов, все духовенство, – и трусливый Абдул-Хамид не решался на это; было решено отделаться от двух самых ненавистных султану лиц: Мидхата и зятя султана – Махмуда-паши.
26 апреля 1883 года все было кончено. Через несколько недель после этого семья Мидхата получила от Хайруллы-эфенди следующее письмо:
После того, как несколько попыток отравить пленников кончились неудачей, палачи решили покончить с ними другим путем, но прежде они сделали еще одну попытку кончить дело без шума. Полковник охраны вызвал к себе слугу Мидхата, Ариф-агу, и пытался подкупить его:
– Яд готов; если тебе удастся дать его выпить Мидхат-паше, ты получишь большую награду от его императорского величества султана; отравить Махмуда-пашу поручено другому, но если бы ты взялся и за это дело, твоя награда будет удвоена; если же когда-нибудь ты откроешь секрет, – ты будешь убит.
Награда, которую предлагали за убийство Мидхата, была в 1000 турецких лир, и 600 лир за убийство Махмуд-паши. Целое состояние для бедного слуги, почти раба.
Но Ариф-ага не только с негодованием отказался, но поспешил сообщить обо всем Мидхату. Узники долго совещались, но выхода не было никакого. Прошло еще несколько дней; из дворца Илдыз-киоска летели срочные телеграммы, требовавшие немедленного исполнения распоряжений.
Полковник вновь вызвал Арифа-агу и стал убеждать его открыть ночью дверь комнаты, запиравшуюся изнутри, но слуга в отчаянии повторял: «Нет, я не сделаю этого, я не согласен быть вашим сообщником, я боюсь аллаха». Тогда на Ариф-агу набросились и стали его избивать, но ему удалось еще крикнуть Мидхату, возвращавшемуся в свою комнату:
«Хозяин, не ходите в комнату, оставайтесь ночью с остальными, они решили убить вас сегодня», после чего его арестовали и подвергли жестокой пытке.
Мидхат поднялся обратно по лестнице, собрал остальных пленников и сообщил им о предстоящей ему участи.
Только хитростью удалось развести к ночи заключенных по их камерам: полковник поклялся им, что им нечего опасаться. А во второй половине ночи в комнату Мидхата ворвались вооруженные солдаты.
Они выволокли оттуда второго заключенного, Али-бея, после чего спокойно удавили веревкой Мидхата, не способного оказать какое-либо сопротивление.
Махмуд-паша, наделенный громадной физической силой, пытался бороться, когда выломавшие дверь его камеры охранники стали накидывать ему на шею намыленную веревку. Видя, что с ним трудно справиться, палачи стали давить ему половые органы с такой силой, что его безумный рев всполошил всю тюрьму. Другие заключенные бросились к окнам своих камер и, потрясая решетками, осыпали проклятиями исполнителей воли султана. Наконец, все было кончено. Завернутые в простыни тела были наскоро перенесены в военный госпиталь, чтобы потом можно было сказать, что оба умерли от болезни. Но зять Абдул-Хамида был еще жив. Внезапно он поднялся, сделал несколько шагов и снова упал. Тогда убийцы вернулись и так тщательно закончили свою работу, что лицо трупа стало неузнаваемо. Наутро без всяких религиозных обрядов тела были зарыты на солдатском кладбище, за городскими стенами. Сейчас же после убийства, двери и замки камер были починены. Вещи убитых были снесены в одну из комнат казармы, но в течение двух дней агенты султана приходили и забирали то одну, то другую вещь поценнее.
Так закончилась жизнь «отца турецкой конституции».
Мидхат был мертв; султан получал заверение за заверением, что его приказание исполнено в точности; но эта подозрительная, беспокойная натура не могла успокоиться, не имея осязаемых доказательств.
В Тайф был послан один из любимцев падишаха, адъютант Хюсню-паша, который с несколькими подчиненными ночью раскопал труп Мидхата и отрезал ему голову.
Месяц спустя – путь из Тайфа не близкий – Эмин-эфенди, секретарь геджасского вали, прибыл в Илдыз-киоск с изящным ящиком, на этикетке которого значилось:
Последний путь
После пятилетнего пребывания начальником округа на Митиленах Кемаля, по жалобе местных греков, для компрадорской деятельности которых он являлся помехой, перевели на о. Родос.
Можно ли представить себе более злую насмешку судьбы: самые печальные, самые безрадостные годы своей короткой жизни Кемалю пришлось провести в наиболее поэтических, наиболее прекрасных уголках вселенной.
Тюрьма на Кипре, ссылка на Лесбосе и полуссыльное существование, омраченное физическим угасанием и сознанием своего бессилия помочь родине, – на Родосе.
Со всех концов мира сюда стекались богатые праздные туристы, чтобы пожить среди этой дивной природы, подышать воздухом, напоенным ароматами редких цветов и растений, полюбоваться морем и берегами, перед которыми бледнеют красоты Неаполя, осмотреть величественные руины средневековья, овеянные романтическими легендами.
Финикияне поклонялись здесь Гелиосу, [107]принося светозарному богу щедрые дары из тех богатств, которые их знаменитая торговля выкачивала из всех прибрежных стран Средиземного моря. Великий скульптор древности Харес Линдосский воздвиг здесь свою колоссальную статую Аполлона, высотой свыше 30 метров – одно из семи чудес света: богатое купечество древнего Родоса не жалело денег, чтобы создать в своем порту новую притягательную силу для всей морской торговли Ближнего Востока.
Здесь были знаменитые школы красноречия, поэзии, живописи и скульптуры, оставившие потомству славные имена Эсхина Афинского, Аполлония Родосского, Панетиоса, Протогена.
Римляне и византийцы, сарацины и генуэзцы вели кровопролитные войны за этот цветущий остров, занимающий господствующее положение в Архипелаге и в восточной части Средиземного моря. В начале XIV века им овладел рыцарский орден «госпитальеров Иоанна Иерусалимского», сделавший его передовым оплотом европейцев против мусульманского Востока и центром морского разбоя на путях восточной торговли.
За два века владычества рыцари возвели здесь монументальные постройки: неприступные замки, мрачные готические церкви, украшенные химерами и мифическими зверями, зубчатые генуэзские башни и стены, которые, казалось, должны были простоять до скончания веков. Но в 1522 году, при Сулеймане Великолепном, отвага янычар и прекрасная турецкая артиллерия сломили отчаянное сопротивление разноплеменных рыцарей, предводимых Великим Магистром – знаменитым Вилье де-Лиль-Адам. Госпитальеры должны были удалиться на остров Мальту, который даровал им император Карл V, а Родос сделался новой драгоценной жемчужиной в короне Оттоманской империи. После этого он знал еще короткое процветание, а затем разделил общую судьбу империи, чтобы стать мертвым городом, обширным музеем средневековья, окаменевшим воспоминанием о былой славе.
В ажурных готических башнях, в знаменитых «гостиницах», украшенных гербами с затейливой геральдикой, где собирались за традиционными трапезами рыцари Прованса, Оверни, Франции, Италии, Аррагона, Англии, Германии и Кастилии, теперь ютились лачуги городской бедноты. Во дворце Великого Магистра, когда-то поражавшем своей роскошью, была устроена каторжная тюрьма. На монументальных каменных плитах, которыми несколько веков тому назад были вымощены площади, расположились жалкие базарчики мелкого восточного городка. Как тени прошлого, проходили в своих черных нелепых сутанах и высоких безобразных колпаках греческие попы. Великолепные, построенные для туристов, гостиницы, с мраморными террасами над морем, окруженные розовыми цветниками, были наглым вызовом городку, который жил в нищете.
Кемаль приехал на Родос совсем больной.
Последние месяцы на Митиленах тяжелое воспаление легких, осложненное длительным бронхитом, подорвало его силы. Смена обстановки, мягкий климат Родоса с его теплой зимой и умеренно-жарким летом, отсутствие сырых туманов благодетельно подействовали на его легкие. Он начал поправляться, посвежел, повеселел; прекратился мучительный кашель, от бронхита не осталось и следа; улучшился аппетит. Окружающие и семья радовались.
Административных дел на Родосе, с его незначительным населением, было гораздо меньше, чем на Митиленах. У Кемаля оставалось много свободного времени, которое он посвящал семье, прогулкам по живописным окрестностям, а главным образом продолжению литературных работ.
Писать на политические или даже на литературно-критические темы в том духе, как он делал это некогда в «Ибрет», нечего было и думать: печать была окончательно задавлена придирчивой абдул-хамидовской цензурой. Газетам предлагалось давать преимущественно сведения о драгоценном здравии султана, о торжественных церемониях селямликов да о военных парадах. Несколько лет спустя цензура дошла до того, что запретила периодическим изданиям писать «продолжение следует», дабы «не смущать любопытством умы читателей». Известный турецкий литератор Ахмед-Расим в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды полицейский увел его из редакции и притащил в дворцовую канцелярию. Секретарь султана в диком гневе тыкал ему в глаза газетный лист, где был напечатан крамольный стих: «И разве весна не придет?» – и осыпал его самыми ужасными ругательствами. Каждый раз, как молодой журналист хотел объясниться, сановник приходил в исступление и то выгонял его за дверь, то кричал ему: «Молчи, глаза вырву». Наконец, Ахмет-Расим сообразил и, вынув из кармана печатку со своим выгравированным на ней именем, молча протянул беснующемуся секретарю. От неожиданности тот приостановил на мгновение поток ругательств и прочел фамилию на печатке. Только тогда он понял, что к нему по ошибке привели другого, не имеющего никакого касательства к преступной фразе, и что он совершенно зря два часа орал на человека, который даже не понимал, чего от него хотят.
Султан, который долго не соглашался провести водопровод в свой дворец, так как кто-то из придворных внушил ему, что по трубам к нему могут проникнуть террористы с бомбами, относился со страшной подозрительностью к каждой печатной строчке.
Намык Кемалю оставалось лишь работать над тем трудом, мысль о котором он лелеял всю жизнь: над историей Турции.
Несмотря на то, что при османском дворе с незапамятных времен существовали официальные придворные историографы, полной истории Оттоманской империи в то время не существовало.
То, что задумал Кемаль, не может назваться научной историей Турции.
Идеолог либеральной буржуазии, он не мог подойти к своей работе с серьезным социологическим методом. В истории Турции он видел лишь смену великих и ничтожных султанов. Первые созидали камень за камнем величественное здание империи; если они совершали злые поступки, их можно было простить за ту славу, которую они дали стране; вторые – были деспотами, преследовавшими лишь свои эгоистические цели, угнетавшими народ, ведшими империю к гибели и разрушению. Это была наивно написанная, хотя и блестящая с литературной точки зрения, портретная галлерея турецких правителей, далекая от того, что принято понимать под словом история; но в глазах Кемаля это был важнейший труд, который должен был всегда напоминать соотечественникам о былой славе и, путем сравнения, показать обществу все ничтожество последних отпрысков Османа и всю пагубность их правления и политики.
Работа над этим произведением всецело заняла его мысли. Он окружил себя книгами, выписывал их из Стамбула, просил друзей об их присылке. Его библиотека доходила теперь до 1 300 французских и 400 арабских, иранских и турецких томов. Часто он тратил на покупку книг последние деньги, делая долги. Позже, на острове Хиосе, он узнал однажды, что в одной из греческих церквей находится старинная книга.
Попы были готовы дать ему для прочтения эту книгу, но требовали залог в 100 золотых. В это время у Кемаля не было таких денег, но искушение было слишком велико. Он с трудом достал в долг нужную сумму и, счастливый, ушел с драгоценным фолиантом.
Писать «историю» он начал давно, еще в Стамбуле, вскоре после возвращения из Магозы. Сидя в тюрьме, он писал отцу: «Когда будете посылать мне обед, заверните в салфетку и положите между тарелок черновик моей „Истории“. Я буду здесь над ней работать». Но только теперь он мог всецело отдаться этому труду. Он работал над ней днями и ночами, но по мере того, как работа подвигалась вперед, расширялись и его замыслы. Ему казалось, что его военная история Османов будет неполной, если он не предпошлет ей историю ислама до создания Оттоманской империи и даже историю Рима. Росла груда листов, покрытых красивыми арабскими строчками, написанными красными чернилами, которые так любил Кемаль. Ряд глав уже был готов к печати. Но в это время произошло событие, положившее конец его мирной жизни на Родосе.
В один прекрасный день какой-то поручик из гарнизона крепости, подвыпив, зашел в английское консульство и стал там приставать к служанке. Банальное происшествие было раздуто англичанами, ревниво охранявшими престиж своих капитуляционных привилегий, до размеров дипломатического инцидента. Посыпались грозные ноты, и Абдул-Хамид, менее всего расположенный ссориться с могущественным Джон Булем, уступил. Чтобы показать, что турки сами придают большое значение этому случаю, было решено перевести на Родос губернское управление, находившееся до того времени на о. Хиосе. Окружное же управление и, следовательно, Кемаля, перевели на Хиос.
Хотя Хиос находится все в той же чудесной лазоревой оправе Архипелага, что и Родос, но его климат совершенно иной. Здесь бывают резкие перемены температуры; воздух очень сырой. Уже с первых месяцев переезда здоровье Кемаля резко ухудшилось; вновь начался бронхит с его мучительным ночным кашлем. Усиленно разрушало организм Кемаля и вино, которое он пил сейчас в большом количестве, стараясь найти в опьянении забвение от гнетущей его тоски. Но работы над своей книгой он не оставлял. Одновременно он списывался со своим старым другом Эбуззия-Тефиком, работавшим в стамбульских газетах, и выяснял у него возможность издания своего труда.
Наконец, с большим напряжением закончив рукопись первого тома, он отослал ее в Стамбул. Но тут силы оставили его, и он слег.
Несколько дней он не поднимался с кровати, когда пришла радостная новость: Эбуззия-Тефик писал, что он приступил уже к печатанию предисловия. Немного спустя, он прислал и первую, отпечатанную отдельным оттиском, главу, сообщив при этом, что в течение нескольких дней книжка разошлась в количестве 2000 экземпляров.
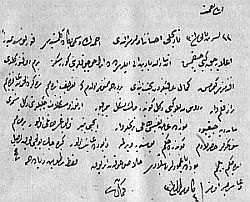 Автограф Намык Кемаля. Письмо отцу.
Автограф Намык Кемаля. Письмо отцу.
Это был большой успех. Особенно радовало Кемаля, что даже в удушливой атмосфере реакции его имя не было забыто.
Существовали еще какие-то тайные нити, связывающие его с тем, другим миром, куда ему уже не суждено было вернуться. Сверкнула радостная надежда: значит реакция не сумела задавить всякую мысль о борьбе, если имя ссыльного, ненавидимого султаном и правительством, заставляет набрасываться на написанную им книгу. Очевидно, где-то притаились сторонники, единомышленники, смена, которая готовится к новой борьбе с режимом насилия и произвола. Оправдывались слова, сказанные в одном из его стихотворений:
Этот труд будет читаться, пока существует Турция; его имя сохранится в потомстве, подобно имени Плутарха, и гражданские доблести новых поколений будут воспитываться на героических образах, созданных его пером.
Еще два-три года труда, и «история» будет написана. Но нужно усиленно работать, чтобы успеть закончить ее до смерти, близость которой он уже чувствовал. Теперь приступы лихорадки, легочные осложнения приходили все чаще и чаще. Простая неосторожность, прогулка в открытом экипаже в холодную погоду, укладывали его в постель на недели. Доктор Орнштейн – медик, лечивший Кемаля и пользовавшийся на Хиосе заслуженной репутацией, предупреждал семью, что значительную роль в быстром ухудшении здоровья писателя играет его подавленное мрачное настроение. «Оградите его от всякого раздражения, неприятностей, всяких нервных потрясений, и его организм справится сам с болезнью», – говорил он. И действительно, достаточно было получить из Стамбула радостное известие о выходе книги, как Кемаль буквально преобразился. Болезнь отступила перед этим возрождением оптимизма, энергии. Но, увы, это продолжалось недолго.
«Однажды, – рассказывает его сын Экрем, – вернувшись домой, я застал отца буквально убитым. Осунувшись, он сидел в кресле со смертельно побледневшим лицом и с трудом дышал.
– Что с вами, что случилось, вы больны?
Отец не отвечал; он молча взял со стола листок бумаги и протянул его мне. Это была расшифрованная телеграмма, полученная им от Секретариата дворца.
Старинным бюрократическим стилем, без точек и запятых, одним длинным предложением, там было написано:
Теперь все эти надежды рушились. Мало того, приходилось задумываться, где достать новые средства, чтобы изъять еще нераспроданные экземпляры у книготорговцев, как требовал этого с рафинированной жестокостью султан.
Видя, как угнетающе подействовало все это на отца, Экрем пытался вызвать в нем какую-либо реакцию и уговорил его написать во дворец. Кемаль овладел собою и согласился на предложение сына. Он написал резкое письмо и послал его в Стамбул.
Проходили недели и месяцы, ответа не было. Илдыз молчал, как-будто зная, что дело уже сделано и теперь нужно только терпеливо выжидать неизбежного действия того ядовитого оружия, которым был нанесен смертельный удар.
Экрем попытался еще раз вырвать отца из состояния того безразличия, в котором тот находился, воздействуя на самые чувствительные его струнки.
– Отец, – говорил он, – ты умрешь, Абдул Хамид умрет, но родина будет жить. Обязательно допиши историю, закончи твое великое произведение.
Это обращение подействовало на Кемаля. Он снова пытался отряхнуть с себя оцепенение, чувство безнадежности, которое быстрее сжигало его жизнь, чем тяжелая болезнь.
– Ты прав, Экрем, – сказал он, – я должен закончить историю; это мой долг перед родиной.
Но это был лишь короткий порыв, который угас так же быстро, как и появился. Скоро Кемаль настоял, чтобы семья уехала в Стамбул к деду; как будто предчувствуя близкую развязку, он не хотел, чтобы его любимые дети были свидетелями печальной картины смерти.
В середине октября 1888 г. ушел пароход, увезший его семью с Хиоса. Теперь он остался один со своим недугом, со своими мыслями, со своим отчаянием. Семья, поселившаяся в Стамбуле в доме Мустафы Асыма, получила от него еще два-три письма. Затем письма прекратились. Вместо них пришла телеграмма от зятя Рифата, сообщавшего, что Намык Кемаль вновь слег с серьезным воспалением легких. Телеграмма получилась уже тогда, когда Кемаль доживал свои последние часы, ибо до конца, не желая волновать близких, он запрещал сообщать о своей болезни.
Экрем в тот же день отправился с первым отплывавшим пароходом на Хиос, но отца в живых не застал: он умер 2 ноября 1888 года. Он угас тихо, в полном сознании. За 6 часов до смерти он попросил книгу Виктора Гюго «Отверженные», которую страшно любил и перечитывал много раз. Глаза его плохо видели, ему казалось, что в комнате темно, и окружающие по его просьбе зажгли пять ламп и четыре свечи – все, что было в доме. Некоторое время он был погружен в чтение, затем, отложив книгу, начал объяснять присутствующим, как прекрасен этот роман.
Утомившись, он попросил, чтобы книгу не закрывали, а положили рядом с ним на подушку.
– Я отдохну только и снова буду читать.
Это были его последние слова. Голова опустилась на подушку, глаза закрылись, наступило забытье… Через несколько часов сердце перестало биться.
В тот день, когда Экрем приехал на Хиос, из дворца пришла телеграмма, разрешающая перевезти останки Кемаля в Булаир (на европейском берегу Дарданелльского пролива) и там похоронить их. Этого добился верный друг покойного, Эбуззия-Тефик, твердо помнивший когда-то высказанное Кемалем, которому страшно нравился тихий живописный городок Булаир, желание:
«Как будет хорошо, если меня похоронят здесь».
В этот день уходил пароход «Эсери Нюзхет», тот самый пароход, который Кемаль любил встречать и провожать на хиосской пристани. Тело было погружено на пароход; сын и зять поехали вперед буксирным судном, чтобы подготовить все к похоронам. «Эсери Нюзхет» прибыл в Булаир на рассвете. По распоряжению местного военного командования прах встречала рота солдат. Из соседних деревенских школ пришли дети с цветами и ветками лавра в руках. Погребение было самым скромным: в вырытую яму опустили гроб; мулла, присев на корточки, прочел краткую молитву. Посыпались комья земли. Вскоре один лишь свежий земляной холм напоминал о том, кто всю свою жизнь посвятил борьбе за лучшее будущее Турции.
Через несколько лет султан не только разрешил построить над могилой мавзолей, но даже велел ассигновать на это небольшую сумму из казны. Выказать благосклонность мертвому врагу было в характере лицемерного Абдул-Хамида. Невольно вспоминались слова римского императора Виттелия: «Труп врага пахнет всегда хорошо, в особенности, если это соотечественник».
Мавзолей был построен по плану знаменитого писателя и поэта, Тефик-Фикрета. Это был банальный мраморный саркофаг, которыми изобилуют все мусульманские кладбища, с куполом, поддерживаемым шестью маленькими мраморными колоннами. Короткая надпись гласила: «Могила Намык Кемаля». Никто не осмелился воспроизвести слова, которые Намык написал незадолго до смерти:
БИБЛИОГРАФИЯ
Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. СПБ, 1876 г.
Розен. История Турции от победы реформ в 1826 г. до Парижского трактата в 1856 г. (в двух частях, перевод с немецкого). СПБ, 1872. В. Гордлевский. Очерки по истории новой османской литературы. Москва, 1912. В. Смирнов. Очерки истории турецкой литературы. СПБ, 1891 г.
Аб. Алимов. Турция. (Очерки по истории Востока в эпоху империализма). Изд. Ком. Академии при ЦИК СССР, 1934.
М. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Изд. 1925 г.
Б. С. Э. (том XIII). «Восточный вопрос».
М. Убичини. Письма о Турции. Париж, 1881.
Али-Хайдар Мидхат. Мидхат-паша. Париж, 1909.
Эд. Энгельгард. Турция и Танзимат. Т. I и II. Париж, 1882.
Мустафа-Нихат. История турецкой литературы. Т. II.
И. Xикмет. История турецкой литературы. Т. I и II. 1925.
Фазыл-Неджип. Литературные мальчишки. (Историч. роман). Стамбул, 1930.
Мехмет Зия-бей. Стамбул и Босфор.
Абдурахман-Шереф. Лекции в турецком очаге. Стамбул, 1923–1924.
Сулейман-Назыф. Два друга (Кемаль и Зия). Стамбул, 1925.
И. Xикмет. Намык Кемаль. Стамбул. 1932.
И. Xикмет. Зия-паша. Стамбул, 1932.
И. Xикмет. Риджаизаде Экрем. Стамбул, 1932.
А. Шереф. Исторические беседы. (Статьи о младотурках). Кемальэддин-Шюкрю. Намык Кемаль и его произведения. Стамбул, 1931.
Исмаил Xикмет. Жизнь Зия-паши и его произведения. Стамбул, 1932.
Десять дней тому назад мой слуга Ариф, которому я поручил купить через одного офицера молоко, обнаружил, что оно отравлено. Четыре дня спустя, Ариф достал мясо, приготовил его вечером и оставил в своей комнате. Наутро мы обнаружили следы яда на металлических стенках кастрюли. Через несколько дней после этого была отравлена вода в кружке, из которой мы пьем. Все эти попытки были обнаружены благодаря бдительности нашего слуги. Они пробуют теперь другие средства. Мы окружены крайне опасными людьми, среди которых, в частности, находится черкес Бекир. Сообщники этого последнего – три унтер-офицера, живущие с нами. Каждый день вали Осман-паше (губернатор Мекки), получившему жезл маршала за свои „услуги“, приходят из Стамбула новые страшные распоряжения. Нам угрожают самые ужасные опасности, самые коварные планы; я думаю, что нам не удастся спастись. Может быть еще до получения этого письма получите вы сообщение о моей смерти. В этом случае бесполезно сильно огорчаться. Пусть аллах простит нам наши грехи. Если нам предстоит такая смерть, не может быть большего счастья для нас, как погибнуть мучениками за святое дело.
Мое последнее желание, чтобы вы жили в мире, соединившись все вместе у семейного очага. Да защитит вас всемогущий.
Мидхат»
Жена Мидхата сообщила об этом английскому послу. Другие высокопоставленные английские друзья Мидхата пытались добиться его освобождения. Но султан не склонен был выпустить свою жертву. Узнав, что драгоман английского консульства в Джедде справлялся у великого шерифа Мекки [104]об участи Мидхата и получил заверения, что узник еще жив, Абдул-Хамид распорядился арестовать и заключить в тюрьму самого великого шерифа – старца, которому было тогда свыше 100 лет.

Из пленников, заключеных в Тайфе, зять султана Нури-паша сошел с ума и умер; казнить бывшего шейх-уль-ислама Хайруллу значило восстановить против себя всех улемов, все духовенство, – и трусливый Абдул-Хамид не решался на это; было решено отделаться от двух самых ненавистных султану лиц: Мидхата и зятя султана – Махмуда-паши.
26 апреля 1883 года все было кончено. Через несколько недель после этого семья Мидхата получила от Хайруллы-эфенди следующее письмо:
«Вы должно быть уже знаете о его трагической смерти и тех обстоятельствах, при которых она произошла. Его светлость умер не от болезни, как об этом сообщали газеты. У него действительно был карбункул, но не злокачественный. На самом деле, в одну и ту же ночь и Мидхат-паша и Дамад Махмуд-паша были удавлены. Да почиет на них божественная милость и благословение.Позже Хайрулла [106]сообщил семье все подробности этого убийства.
Я многое могу сообщить вам, но я не осмеливаюсь писать больше, ибо я боюсь наших палачей…
Тайф (Аравия), 15 зильхидзе 1301 г. [105]
Хассан-Хайрулла (бывший шейх-уль-ислам)».
После того, как несколько попыток отравить пленников кончились неудачей, палачи решили покончить с ними другим путем, но прежде они сделали еще одну попытку кончить дело без шума. Полковник охраны вызвал к себе слугу Мидхата, Ариф-агу, и пытался подкупить его:
– Яд готов; если тебе удастся дать его выпить Мидхат-паше, ты получишь большую награду от его императорского величества султана; отравить Махмуда-пашу поручено другому, но если бы ты взялся и за это дело, твоя награда будет удвоена; если же когда-нибудь ты откроешь секрет, – ты будешь убит.
Награда, которую предлагали за убийство Мидхата, была в 1000 турецких лир, и 600 лир за убийство Махмуд-паши. Целое состояние для бедного слуги, почти раба.
Но Ариф-ага не только с негодованием отказался, но поспешил сообщить обо всем Мидхату. Узники долго совещались, но выхода не было никакого. Прошло еще несколько дней; из дворца Илдыз-киоска летели срочные телеграммы, требовавшие немедленного исполнения распоряжений.
Полковник вновь вызвал Арифа-агу и стал убеждать его открыть ночью дверь комнаты, запиравшуюся изнутри, но слуга в отчаянии повторял: «Нет, я не сделаю этого, я не согласен быть вашим сообщником, я боюсь аллаха». Тогда на Ариф-агу набросились и стали его избивать, но ему удалось еще крикнуть Мидхату, возвращавшемуся в свою комнату:
«Хозяин, не ходите в комнату, оставайтесь ночью с остальными, они решили убить вас сегодня», после чего его арестовали и подвергли жестокой пытке.
Мидхат поднялся обратно по лестнице, собрал остальных пленников и сообщил им о предстоящей ему участи.
Только хитростью удалось развести к ночи заключенных по их камерам: полковник поклялся им, что им нечего опасаться. А во второй половине ночи в комнату Мидхата ворвались вооруженные солдаты.
Они выволокли оттуда второго заключенного, Али-бея, после чего спокойно удавили веревкой Мидхата, не способного оказать какое-либо сопротивление.
Махмуд-паша, наделенный громадной физической силой, пытался бороться, когда выломавшие дверь его камеры охранники стали накидывать ему на шею намыленную веревку. Видя, что с ним трудно справиться, палачи стали давить ему половые органы с такой силой, что его безумный рев всполошил всю тюрьму. Другие заключенные бросились к окнам своих камер и, потрясая решетками, осыпали проклятиями исполнителей воли султана. Наконец, все было кончено. Завернутые в простыни тела были наскоро перенесены в военный госпиталь, чтобы потом можно было сказать, что оба умерли от болезни. Но зять Абдул-Хамида был еще жив. Внезапно он поднялся, сделал несколько шагов и снова упал. Тогда убийцы вернулись и так тщательно закончили свою работу, что лицо трупа стало неузнаваемо. Наутро без всяких религиозных обрядов тела были зарыты на солдатском кладбище, за городскими стенами. Сейчас же после убийства, двери и замки камер были починены. Вещи убитых были снесены в одну из комнат казармы, но в течение двух дней агенты султана приходили и забирали то одну, то другую вещь поценнее.
Так закончилась жизнь «отца турецкой конституции».
Мидхат был мертв; султан получал заверение за заверением, что его приказание исполнено в точности; но эта подозрительная, беспокойная натура не могла успокоиться, не имея осязаемых доказательств.
В Тайф был послан один из любимцев падишаха, адъютант Хюсню-паша, который с несколькими подчиненными ночью раскопал труп Мидхата и отрезал ему голову.
Месяц спустя – путь из Тайфа не близкий – Эмин-эфенди, секретарь геджасского вали, прибыл в Илдыз-киоск с изящным ящиком, на этикетке которого значилось:
Японская слоновая кость. Художественные безделушки для его величества султана.Ящик был открыт самим султаном. На этот раз падишах и повелитель правоверных имел, наконец, реальные доказательства, что его верные слуги в точности выполнили его приказание.
Последний путь
В моем служении нации я был верен и постоянен до гроба,
Пусть память о моей жертве будет жива в сердце народа.
Придет день, когда победит наш идеал,
И, если не останется надгробной плиты Кемаля,
Все же останется его имя.
НАМЫК КЕМАЛЬ
После пятилетнего пребывания начальником округа на Митиленах Кемаля, по жалобе местных греков, для компрадорской деятельности которых он являлся помехой, перевели на о. Родос.
Можно ли представить себе более злую насмешку судьбы: самые печальные, самые безрадостные годы своей короткой жизни Кемалю пришлось провести в наиболее поэтических, наиболее прекрасных уголках вселенной.
Тюрьма на Кипре, ссылка на Лесбосе и полуссыльное существование, омраченное физическим угасанием и сознанием своего бессилия помочь родине, – на Родосе.
Со всех концов мира сюда стекались богатые праздные туристы, чтобы пожить среди этой дивной природы, подышать воздухом, напоенным ароматами редких цветов и растений, полюбоваться морем и берегами, перед которыми бледнеют красоты Неаполя, осмотреть величественные руины средневековья, овеянные романтическими легендами.
Финикияне поклонялись здесь Гелиосу, [107]принося светозарному богу щедрые дары из тех богатств, которые их знаменитая торговля выкачивала из всех прибрежных стран Средиземного моря. Великий скульптор древности Харес Линдосский воздвиг здесь свою колоссальную статую Аполлона, высотой свыше 30 метров – одно из семи чудес света: богатое купечество древнего Родоса не жалело денег, чтобы создать в своем порту новую притягательную силу для всей морской торговли Ближнего Востока.
Здесь были знаменитые школы красноречия, поэзии, живописи и скульптуры, оставившие потомству славные имена Эсхина Афинского, Аполлония Родосского, Панетиоса, Протогена.
Римляне и византийцы, сарацины и генуэзцы вели кровопролитные войны за этот цветущий остров, занимающий господствующее положение в Архипелаге и в восточной части Средиземного моря. В начале XIV века им овладел рыцарский орден «госпитальеров Иоанна Иерусалимского», сделавший его передовым оплотом европейцев против мусульманского Востока и центром морского разбоя на путях восточной торговли.
За два века владычества рыцари возвели здесь монументальные постройки: неприступные замки, мрачные готические церкви, украшенные химерами и мифическими зверями, зубчатые генуэзские башни и стены, которые, казалось, должны были простоять до скончания веков. Но в 1522 году, при Сулеймане Великолепном, отвага янычар и прекрасная турецкая артиллерия сломили отчаянное сопротивление разноплеменных рыцарей, предводимых Великим Магистром – знаменитым Вилье де-Лиль-Адам. Госпитальеры должны были удалиться на остров Мальту, который даровал им император Карл V, а Родос сделался новой драгоценной жемчужиной в короне Оттоманской империи. После этого он знал еще короткое процветание, а затем разделил общую судьбу империи, чтобы стать мертвым городом, обширным музеем средневековья, окаменевшим воспоминанием о былой славе.
В ажурных готических башнях, в знаменитых «гостиницах», украшенных гербами с затейливой геральдикой, где собирались за традиционными трапезами рыцари Прованса, Оверни, Франции, Италии, Аррагона, Англии, Германии и Кастилии, теперь ютились лачуги городской бедноты. Во дворце Великого Магистра, когда-то поражавшем своей роскошью, была устроена каторжная тюрьма. На монументальных каменных плитах, которыми несколько веков тому назад были вымощены площади, расположились жалкие базарчики мелкого восточного городка. Как тени прошлого, проходили в своих черных нелепых сутанах и высоких безобразных колпаках греческие попы. Великолепные, построенные для туристов, гостиницы, с мраморными террасами над морем, окруженные розовыми цветниками, были наглым вызовом городку, который жил в нищете.
Кемаль приехал на Родос совсем больной.
Последние месяцы на Митиленах тяжелое воспаление легких, осложненное длительным бронхитом, подорвало его силы. Смена обстановки, мягкий климат Родоса с его теплой зимой и умеренно-жарким летом, отсутствие сырых туманов благодетельно подействовали на его легкие. Он начал поправляться, посвежел, повеселел; прекратился мучительный кашель, от бронхита не осталось и следа; улучшился аппетит. Окружающие и семья радовались.
Административных дел на Родосе, с его незначительным населением, было гораздо меньше, чем на Митиленах. У Кемаля оставалось много свободного времени, которое он посвящал семье, прогулкам по живописным окрестностям, а главным образом продолжению литературных работ.
Писать на политические или даже на литературно-критические темы в том духе, как он делал это некогда в «Ибрет», нечего было и думать: печать была окончательно задавлена придирчивой абдул-хамидовской цензурой. Газетам предлагалось давать преимущественно сведения о драгоценном здравии султана, о торжественных церемониях селямликов да о военных парадах. Несколько лет спустя цензура дошла до того, что запретила периодическим изданиям писать «продолжение следует», дабы «не смущать любопытством умы читателей». Известный турецкий литератор Ахмед-Расим в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды полицейский увел его из редакции и притащил в дворцовую канцелярию. Секретарь султана в диком гневе тыкал ему в глаза газетный лист, где был напечатан крамольный стих: «И разве весна не придет?» – и осыпал его самыми ужасными ругательствами. Каждый раз, как молодой журналист хотел объясниться, сановник приходил в исступление и то выгонял его за дверь, то кричал ему: «Молчи, глаза вырву». Наконец, Ахмет-Расим сообразил и, вынув из кармана печатку со своим выгравированным на ней именем, молча протянул беснующемуся секретарю. От неожиданности тот приостановил на мгновение поток ругательств и прочел фамилию на печатке. Только тогда он понял, что к нему по ошибке привели другого, не имеющего никакого касательства к преступной фразе, и что он совершенно зря два часа орал на человека, который даже не понимал, чего от него хотят.
Султан, который долго не соглашался провести водопровод в свой дворец, так как кто-то из придворных внушил ему, что по трубам к нему могут проникнуть террористы с бомбами, относился со страшной подозрительностью к каждой печатной строчке.
Намык Кемалю оставалось лишь работать над тем трудом, мысль о котором он лелеял всю жизнь: над историей Турции.
Несмотря на то, что при османском дворе с незапамятных времен существовали официальные придворные историографы, полной истории Оттоманской империи в то время не существовало.
То, что задумал Кемаль, не может назваться научной историей Турции.
Идеолог либеральной буржуазии, он не мог подойти к своей работе с серьезным социологическим методом. В истории Турции он видел лишь смену великих и ничтожных султанов. Первые созидали камень за камнем величественное здание империи; если они совершали злые поступки, их можно было простить за ту славу, которую они дали стране; вторые – были деспотами, преследовавшими лишь свои эгоистические цели, угнетавшими народ, ведшими империю к гибели и разрушению. Это была наивно написанная, хотя и блестящая с литературной точки зрения, портретная галлерея турецких правителей, далекая от того, что принято понимать под словом история; но в глазах Кемаля это был важнейший труд, который должен был всегда напоминать соотечественникам о былой славе и, путем сравнения, показать обществу все ничтожество последних отпрысков Османа и всю пагубность их правления и политики.
Работа над этим произведением всецело заняла его мысли. Он окружил себя книгами, выписывал их из Стамбула, просил друзей об их присылке. Его библиотека доходила теперь до 1 300 французских и 400 арабских, иранских и турецких томов. Часто он тратил на покупку книг последние деньги, делая долги. Позже, на острове Хиосе, он узнал однажды, что в одной из греческих церквей находится старинная книга.
Попы были готовы дать ему для прочтения эту книгу, но требовали залог в 100 золотых. В это время у Кемаля не было таких денег, но искушение было слишком велико. Он с трудом достал в долг нужную сумму и, счастливый, ушел с драгоценным фолиантом.
Писать «историю» он начал давно, еще в Стамбуле, вскоре после возвращения из Магозы. Сидя в тюрьме, он писал отцу: «Когда будете посылать мне обед, заверните в салфетку и положите между тарелок черновик моей „Истории“. Я буду здесь над ней работать». Но только теперь он мог всецело отдаться этому труду. Он работал над ней днями и ночами, но по мере того, как работа подвигалась вперед, расширялись и его замыслы. Ему казалось, что его военная история Османов будет неполной, если он не предпошлет ей историю ислама до создания Оттоманской империи и даже историю Рима. Росла груда листов, покрытых красивыми арабскими строчками, написанными красными чернилами, которые так любил Кемаль. Ряд глав уже был готов к печати. Но в это время произошло событие, положившее конец его мирной жизни на Родосе.
В один прекрасный день какой-то поручик из гарнизона крепости, подвыпив, зашел в английское консульство и стал там приставать к служанке. Банальное происшествие было раздуто англичанами, ревниво охранявшими престиж своих капитуляционных привилегий, до размеров дипломатического инцидента. Посыпались грозные ноты, и Абдул-Хамид, менее всего расположенный ссориться с могущественным Джон Булем, уступил. Чтобы показать, что турки сами придают большое значение этому случаю, было решено перевести на Родос губернское управление, находившееся до того времени на о. Хиосе. Окружное же управление и, следовательно, Кемаля, перевели на Хиос.
Хотя Хиос находится все в той же чудесной лазоревой оправе Архипелага, что и Родос, но его климат совершенно иной. Здесь бывают резкие перемены температуры; воздух очень сырой. Уже с первых месяцев переезда здоровье Кемаля резко ухудшилось; вновь начался бронхит с его мучительным ночным кашлем. Усиленно разрушало организм Кемаля и вино, которое он пил сейчас в большом количестве, стараясь найти в опьянении забвение от гнетущей его тоски. Но работы над своей книгой он не оставлял. Одновременно он списывался со своим старым другом Эбуззия-Тефиком, работавшим в стамбульских газетах, и выяснял у него возможность издания своего труда.
Наконец, с большим напряжением закончив рукопись первого тома, он отослал ее в Стамбул. Но тут силы оставили его, и он слег.
Несколько дней он не поднимался с кровати, когда пришла радостная новость: Эбуззия-Тефик писал, что он приступил уже к печатанию предисловия. Немного спустя, он прислал и первую, отпечатанную отдельным оттиском, главу, сообщив при этом, что в течение нескольких дней книжка разошлась в количестве 2000 экземпляров.
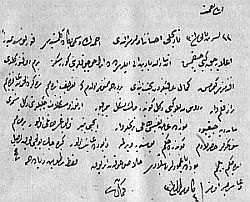
Это был большой успех. Особенно радовало Кемаля, что даже в удушливой атмосфере реакции его имя не было забыто.
Существовали еще какие-то тайные нити, связывающие его с тем, другим миром, куда ему уже не суждено было вернуться. Сверкнула радостная надежда: значит реакция не сумела задавить всякую мысль о борьбе, если имя ссыльного, ненавидимого султаном и правительством, заставляет набрасываться на написанную им книгу. Очевидно, где-то притаились сторонники, единомышленники, смена, которая готовится к новой борьбе с режимом насилия и произвола. Оправдывались слова, сказанные в одном из его стихотворений:
Теперь история, над которой он работал, казалась ему особенно важной.
И если свободе и музе я жертвую жизнью своей,
То время настанет, и тысячу новых земля породит Кемалей.
Этот труд будет читаться, пока существует Турция; его имя сохранится в потомстве, подобно имени Плутарха, и гражданские доблести новых поколений будут воспитываться на героических образах, созданных его пером.
Еще два-три года труда, и «история» будет написана. Но нужно усиленно работать, чтобы успеть закончить ее до смерти, близость которой он уже чувствовал. Теперь приступы лихорадки, легочные осложнения приходили все чаще и чаще. Простая неосторожность, прогулка в открытом экипаже в холодную погоду, укладывали его в постель на недели. Доктор Орнштейн – медик, лечивший Кемаля и пользовавшийся на Хиосе заслуженной репутацией, предупреждал семью, что значительную роль в быстром ухудшении здоровья писателя играет его подавленное мрачное настроение. «Оградите его от всякого раздражения, неприятностей, всяких нервных потрясений, и его организм справится сам с болезнью», – говорил он. И действительно, достаточно было получить из Стамбула радостное известие о выходе книги, как Кемаль буквально преобразился. Болезнь отступила перед этим возрождением оптимизма, энергии. Но, увы, это продолжалось недолго.
«Однажды, – рассказывает его сын Экрем, – вернувшись домой, я застал отца буквально убитым. Осунувшись, он сидел в кресле со смертельно побледневшим лицом и с трудом дышал.
– Что с вами, что случилось, вы больны?
Отец не отвечал; он молча взял со стола листок бумаги и протянул его мне. Это была расшифрованная телеграмма, полученная им от Секретариата дворца.
Старинным бюрократическим стилем, без точек и запятых, одним длинным предложением, там было написано:
Его превосходительству Кемалю-бей эфенди начальнику округа Хиоса.Эта телеграмма была страшным моральным ударом. Но кроме того она влекла за собой и материальную катастрофу. В издание книги Кемаль вложил свои последние средства, влез в долги. Видя ее успех, он надеялся, что ему удастся не только оплатить расходы, но и обеспечить будущность горячо любимой семьи.
Являющееся введением в Османскую Историю носящее название история Рима находящееся в печати великое произведение было представлено высокому взгляду его величества и удостоилось высочайшего одобрения но ввиду того что некоторые употребляемые там выражения и ряд слов будь они кем-либо превратно и двусмысленно истолкованы могли бы подорвать расположение к вам падишаха его величеством дано приказание о запрещении печатания указанной истории а также об изъятии всех уже отпечатанных экземпляров для чего вам надлежит немедленно дать указания кому следует и сообщить нам ожидаемый нами ответ об исполнении.
Свиты его величества монарха Бесим».
Теперь все эти надежды рушились. Мало того, приходилось задумываться, где достать новые средства, чтобы изъять еще нераспроданные экземпляры у книготорговцев, как требовал этого с рафинированной жестокостью султан.
Видя, как угнетающе подействовало все это на отца, Экрем пытался вызвать в нем какую-либо реакцию и уговорил его написать во дворец. Кемаль овладел собою и согласился на предложение сына. Он написал резкое письмо и послал его в Стамбул.
Проходили недели и месяцы, ответа не было. Илдыз молчал, как-будто зная, что дело уже сделано и теперь нужно только терпеливо выжидать неизбежного действия того ядовитого оружия, которым был нанесен смертельный удар.
Экрем попытался еще раз вырвать отца из состояния того безразличия, в котором тот находился, воздействуя на самые чувствительные его струнки.
– Отец, – говорил он, – ты умрешь, Абдул Хамид умрет, но родина будет жить. Обязательно допиши историю, закончи твое великое произведение.
Это обращение подействовало на Кемаля. Он снова пытался отряхнуть с себя оцепенение, чувство безнадежности, которое быстрее сжигало его жизнь, чем тяжелая болезнь.
– Ты прав, Экрем, – сказал он, – я должен закончить историю; это мой долг перед родиной.
Но это был лишь короткий порыв, который угас так же быстро, как и появился. Скоро Кемаль настоял, чтобы семья уехала в Стамбул к деду; как будто предчувствуя близкую развязку, он не хотел, чтобы его любимые дети были свидетелями печальной картины смерти.
В середине октября 1888 г. ушел пароход, увезший его семью с Хиоса. Теперь он остался один со своим недугом, со своими мыслями, со своим отчаянием. Семья, поселившаяся в Стамбуле в доме Мустафы Асыма, получила от него еще два-три письма. Затем письма прекратились. Вместо них пришла телеграмма от зятя Рифата, сообщавшего, что Намык Кемаль вновь слег с серьезным воспалением легких. Телеграмма получилась уже тогда, когда Кемаль доживал свои последние часы, ибо до конца, не желая волновать близких, он запрещал сообщать о своей болезни.
Экрем в тот же день отправился с первым отплывавшим пароходом на Хиос, но отца в живых не застал: он умер 2 ноября 1888 года. Он угас тихо, в полном сознании. За 6 часов до смерти он попросил книгу Виктора Гюго «Отверженные», которую страшно любил и перечитывал много раз. Глаза его плохо видели, ему казалось, что в комнате темно, и окружающие по его просьбе зажгли пять ламп и четыре свечи – все, что было в доме. Некоторое время он был погружен в чтение, затем, отложив книгу, начал объяснять присутствующим, как прекрасен этот роман.
Утомившись, он попросил, чтобы книгу не закрывали, а положили рядом с ним на подушку.
– Я отдохну только и снова буду читать.
Это были его последние слова. Голова опустилась на подушку, глаза закрылись, наступило забытье… Через несколько часов сердце перестало биться.
В тот день, когда Экрем приехал на Хиос, из дворца пришла телеграмма, разрешающая перевезти останки Кемаля в Булаир (на европейском берегу Дарданелльского пролива) и там похоронить их. Этого добился верный друг покойного, Эбуззия-Тефик, твердо помнивший когда-то высказанное Кемалем, которому страшно нравился тихий живописный городок Булаир, желание:
«Как будет хорошо, если меня похоронят здесь».
В этот день уходил пароход «Эсери Нюзхет», тот самый пароход, который Кемаль любил встречать и провожать на хиосской пристани. Тело было погружено на пароход; сын и зять поехали вперед буксирным судном, чтобы подготовить все к похоронам. «Эсери Нюзхет» прибыл в Булаир на рассвете. По распоряжению местного военного командования прах встречала рота солдат. Из соседних деревенских школ пришли дети с цветами и ветками лавра в руках. Погребение было самым скромным: в вырытую яму опустили гроб; мулла, присев на корточки, прочел краткую молитву. Посыпались комья земли. Вскоре один лишь свежий земляной холм напоминал о том, кто всю свою жизнь посвятил борьбе за лучшее будущее Турции.
Через несколько лет султан не только разрешил построить над могилой мавзолей, но даже велел ассигновать на это небольшую сумму из казны. Выказать благосклонность мертвому врагу было в характере лицемерного Абдул-Хамида. Невольно вспоминались слова римского императора Виттелия: «Труп врага пахнет всегда хорошо, в особенности, если это соотечественник».
Мавзолей был построен по плану знаменитого писателя и поэта, Тефик-Фикрета. Это был банальный мраморный саркофаг, которыми изобилуют все мусульманские кладбища, с куполом, поддерживаемым шестью маленькими мраморными колоннами. Короткая надпись гласила: «Могила Намык Кемаля». Никто не осмелился воспроизвести слова, которые Намык написал незадолго до смерти:
Если я умру, прежде чем увижу родину счастливой, Пусть на моем могильном камне начертят слова: «Если отечество мое в печали, печалюсь с ним и я».Впоследствии землетрясение разрушило купол; остался лишь мраморный саркофаг и подножия колонн. И осталось еще, как предсказал Кемаль, имя великого поэта и борца за свободу.
БИБЛИОГРАФИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Литературная энциклопедия, т. V, 1931 г. Заметка Али Назима. Намык Кемаль.Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. СПБ, 1876 г.
Розен. История Турции от победы реформ в 1826 г. до Парижского трактата в 1856 г. (в двух частях, перевод с немецкого). СПБ, 1872. В. Гордлевский. Очерки по истории новой османской литературы. Москва, 1912. В. Смирнов. Очерки истории турецкой литературы. СПБ, 1891 г.
Аб. Алимов. Турция. (Очерки по истории Востока в эпоху империализма). Изд. Ком. Академии при ЦИК СССР, 1934.
М. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Изд. 1925 г.
Б. С. Э. (том XIII). «Восточный вопрос».
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ламартин. Путешествие на Восток. Париж. 1875 г.М. Убичини. Письма о Турции. Париж, 1881.
Али-Хайдар Мидхат. Мидхат-паша. Париж, 1909.
Эд. Энгельгард. Турция и Танзимат. Т. I и II. Париж, 1882.
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Али-Экрем. Намык Кемаль. Стамбул, 1930. Исмаил-Хабиб. Обновление нашей литературы. Стамбул, 1931.Мустафа-Нихат. История турецкой литературы. Т. II.
И. Xикмет. История турецкой литературы. Т. I и II. 1925.
Фазыл-Неджип. Литературные мальчишки. (Историч. роман). Стамбул, 1930.
Мехмет Зия-бей. Стамбул и Босфор.
Абдурахман-Шереф. Лекции в турецком очаге. Стамбул, 1923–1924.
Сулейман-Назыф. Два друга (Кемаль и Зия). Стамбул, 1925.
И. Xикмет. Намык Кемаль. Стамбул. 1932.
И. Xикмет. Зия-паша. Стамбул, 1932.
И. Xикмет. Риджаизаде Экрем. Стамбул, 1932.
А. Шереф. Исторические беседы. (Статьи о младотурках). Кемальэддин-Шюкрю. Намык Кемаль и его произведения. Стамбул, 1931.
Исмаил Xикмет. Жизнь Зия-паши и его произведения. Стамбул, 1932.
