Соединенный турецко-египетский флот был уничтожен союзниками в греческой бухте Наварин. Этим поражением и дальнейшей поддержкой держав был предопределен исход греческого восстания и последующее выделение Греции в независимое государство. В 1830 году французы захватили Алжир и, ободренные успехом, пытались дальше расширить свои колониальные владения за счет северо-африканских областей Оттоманской империи. Поддержанный ими египетский наместник Магомет-Али восстал против Турции.
Его войска захватили Сирию и значительную часть Малой Азии. Под Конией он наголову разбил турецкую армию, взял в плен командующего ею великого визиря и, поддерживаемый населением, готовым на все, лишь бы избавиться от ужасного гнета турецких наместников, двинулся к Стамбулу. Наборы рекрутов для борьбы с египтянами вызвали во многих провинциях беспорядки. Военная катастрофа бросила турецкое правительство в объятия векового врага – России. Турция приняла предложение о помощи Николая I, и русская эскадра вошла в Босфор, а русские войска высадились на азиатском берегу пролива в Хункьяр-Искелеси. В благодарность за эту помощь Николай I добился закрытия Дарданелл для военных судов европейских держав. Начинается знаменитая англо-русская дуэль, все удары которой направлены в грудь Турции.
Союз с Россией, где реакция была в самом разгаре, а самодержавие приняло самые деспотические формы, не мог не усилить реакционных элементов Турции. Отныне они парализуют все реформаторские тенденции Махмуда. Над жизнью последнего висит постоянная угроза, и перед его памятью проносятся все ужасные картины первых лет его царствования. Для фанатиков он – «падишах-гяур», [15]избавиться от которого является святым делом.
В 1837 году дервиш Шейх Саглы на галатском [16]мосту бросился перед его лошадью с криком: «Неверный падишах, разве ты не насытился своими преступлениями; ты ведешь к гибели ислам и навлекаешь месть аллаха на себя и на нас».
Другой дервиш из Бухары явился к Решид-паше во дворец Высокой Порты и осыпал его самыми ужасными оскорблениями и проклятиями. Чтобы не возбудить волнений среди фанатиков, дервиша лишь выгнали за дверь.
Фанатики поджигали целые кварталы Стамбула и обвиняли затем Махмуда, что он своим нечестием привлекает на голову народа кары аллаха.
Выжжены были самые торговые, самые цветущие кварталы столицы. «Султан хотел просторного места для своих военных парадов, – говорил один из арестованных, – мы исполнили его желание и очистили ему полгорода».
В Урфе, Диарбекире, Мардине, Мосуле, Багдаде происходили восстания феодалов. С трудом удалось привести в покорность крупнейших феодальных владельцев центральной и западной Анатолии: Кара Осман-оглу в Смирне и Чапан-оглу – в Анкаре.
Египетская угроза также не была окончательно ликвидирована. Магомет-Али снова восстал в 1839 году, перед самой смертью Махмуда. Его войска уничтожили турецкую армию под Ниссибом, а посланный в Египет турецкий флот перешел на сторону врага. Пришлось вновь прибегать к русской помощи, соглашаясь на новые уступки.
Призванный в этот момент в правительство Решид-паша понял, что союз с Россией усиливает реакционные силы в Турции и ведет ее к превращению в русскую колонию. Он видел единственное спасение в немедленном проведении реформ и использовании той борьбы, которая началась между Россией и Англией за Проливы, а между Англией и Францией – за Египет.
Это было незадолго до того, как англичане бомбардировали Александрию и заставили Магомет-Али умерить свои завоевательные планы. Впрочем население Сирии и Восточной Анатолии скоро убедилось, что деспотизм египетского наместника мало чем отличается от турецкого гнета. Крестьянское население Палестины и Египта восстало против него. Об овладении Стамбулом нечего было и думать. Пришлось удовлетвориться согласием Порты обратить его наместничество в наследственное. Стамбул вздохнул свободнее. Решид-паша воспользовался этим, чтобы провести кое-какие реформы.
Мы видели выше, что реакционная партия не посмела помешать опубликованию хатишерифа Гюль-Хане. В дальнейшем реакционная партия усиливается и добивается удаления Решида. Абдул-Меджид весьма охотно удовлетворяет это желание улемов и придворной камарильи, ибо ему самому ненавистен этот либеральный министр, который, подражая имаму, [17]возглашавшему на торжественном селямлике: [18]
«Падишах, помни: аллах выше тебя», при всяком удобном случае говорил султану: «Закон выше падишаха». Но как только, под влиянием внешних затруднений или вспышек возмущения внутри страны, монархия начинала терять почву под ногами, султан спешил призвать Решида к кормилу правления. Так было, например, в 1848 году, когда революционная волна, прокатившаяся по всей Европе, вылилась в Турции в грозное валашское восстание, создававшее удобный предлог для русской интервенции.
Иногда в бессильной ярости слабовольный Абдул-Меджид восклицает:
– Магомет, да освободи же меня из рук этого человека!
Но его протесты дальше этого не идут. Решид оказывает влияние на дела государства даже тогда, когда его удаляют из правительства: с ним считается вся империя.
За границей реформы Танзимата расценивались по-разному. Для передовых промышленных стран, как Англия и Франция, они были выгодны, так как обеспечивали «нормальные» условия для проникновения в Турцию иностранного капитала. Петербург же и Вена – злобствовали. Русское и австрийское правительства уже несколько лет вели переговоры о разделе наследства «больного человека». Реформы Танзимата могли вдохнуть новую жизнь в заживо разлагающуюся империю. В длинном письме к тогдашнему австрийскому посланнику в Стамбуле, графу Аппоньи, канцлер князь Меттерних выражал свое недовольство и порицал реформы, которые он называл «бесплодной и гибельной концепцией». Он советовал Турции не перенимать слепо европейские идеи (читай: идеи французской демократии), а вернуться к своей восточной самобытности.
Из всего дипломатического корпуса, присутствовавшего при обнародовании манифеста Гюль-Хане, лишь один русский посол Бутенев, от которого, впрочем, предусмотрительно до последней минуты скрывалась подготовка акта, открыто выразил свое недовольство «комедией», как он называл хатишериф.
Это неодобрение было знаменательным. Недаром Решид-паша говорил: «если что-либо, предпринимаемое мною, не нравится России, – я знаю, что стою на верном пути».
Если проведенные Решидом реформы и не могут считаться слишком радикальными, то все же в ту эпоху они значительно способствовали приближению Турции к уровню культурных наций.
Эти реформы составляют первую, раннюю эпоху Танзимата. Они заключались главным образом в переделке совершенно архаического законодательства, которым держались реакционные слои правящих классов и которое препятствовало всякому прогрессу страны.
В Турции до того времени все еще действовали законы начала XVI столетия, изданные Сулейманом Великолепным. Почти все дела разбирались и решались на основе корана и комментариев великих учителей ислама, живших тысячу лет тому назад. За убийство человека можно было отделаться выкупом; судили духовные судьи – кадии. В 1840 году был издан первый уголовный кодекс, а через несколько лет введено торговое и административное законодательство. Был отменен откуп налогов, приводивший к сильнейшим злоупотреблениям и бывший разорительным, как для населения, так и для казны.
 Улица в Смирне.
Улица в Смирне.
Вместо него была введена более централизованная система собирания налогов через специальных чиновников, – новшество, восстановившее против Решида могущественных ростовщиков, интересы которых были нарушены этой мерой и которые вскоре добились ее отмены. Были проведены реформы в армии и сокращен до 5 лет срок военной службы.
Провозглашенные хатишерифом гарантии жизни и имущества создавали первые предпосылки усиления буржуазии и привлечения ее капиталов для развития экономики.
«Турецкое господство, – писал Энгельс, – в самом деле несовместимо с капиталистическим обществом: накопленная прибавочная стоимость не обеспечена в руках сатрапов и пашей; не достает главного условия для буржуазной наживы: обеспеченности личности купца и его собственности».
Хатишериф Гюль-Хане если фактически и не создавал, то во всяком случае намечал эти условия.
Детство
Стамбульское правительство не любило, чтобы крупные провинциальные чиновники засиживались на своих местах. Долгое пребывание на одном и том же посту представляло ряд неудобств: чиновники сживались с местным населением, заводили дружественные связи, не так рьяно выколачивали всевозможные налоги и подати и даже, в ущерб доходам центрального правительства, начинали тратить кое-какие средства на местные нужды – поправляли дороги, мостили улицы, строили мосты и плотины.
С другой стороны, пороги Высокой Порты всегда обивала толпа людей, имеющих высокое родство или связи, которым надо было предоставить доходное место. Поэтому, едва какой-либо губернатор, вице-губернатор или начальник округа успевали обжиться в провинции, их снимали под каким-либо предлогом и вызывали вСтамбул, где они в свою очередь бегали несколько месяцев по канцеляриям и по передним высоких особ, пока не получали нового назначения.
Дед Намык Кемаля по матери, Абдулатыф-паша, албанец по происхождению, был одним из типичных представителей этого слоя чиновничества. Не имея ни большого состояния, ни прочных связей в высоких стамбульских сферах, он всю свою жизнь кочевал по многочисленным пашалыкам и санджакам [19]Румелии и Анатолии, с трудом дослужившись до титула паши и должности провинциального вице-губернатора и совершая время от времени очередное паломничество в столицу.
В конце тридцатых годов, во время одной из таких перебросок, прожив с семьею несколько месяцев в Стамбуле, он воспользовался этим, чтобы выдать замуж свою дочь Зехру – любимицу семьи.
Дело это представлялось несколько сложным, так как, с одной стороны, паша искал хорошую партию, а с другой – ни за что не хотел отдавать дочь в чужой дом. Надо было, следовательно, подыскать приличного молодого человека, который бы согласился быть «домашним зятем», по тогдашнему турецкому выражению, т. е. жить в доме тестя.
После недолгих поисков Абдулатыфу посчастливилось встретить скромного и серьезного юношу из довольно знатной, но окончательно разоренной султанскими конфискациями и впавшей в бедность семьи.
Бедность и незавидное положение жениха лишь на минуту заставили задуматься Абдулатыфа. Он прекрасно понимал, что сколько-нибудь состоятельный человек не согласится жить в семье родителей жены, то-есть быть почти на положении нахлебника. С другой стороны, Мустафа-Асым – так звали молодого человека – произвел на старика прекрасное впечатление. В детстве он натерпелся много горя, был свидетелем разорения и бедствия семьи, имевшей когда-то громадное состояние, и почти мальчиком должен был упорным трудом пробивать себе дорогу да еще помогать родным.
 Отец Кемаля Мустафа-Асым-паша.
Отец Кемаля Мустафа-Асым-паша.
Он получил образование, которое в те времена полагалось иметь молодым людям из хорошей семьи, то-есть изучил персидский и арабский языки, старую поэзию и разные схоластические премудрости. Сверх того, он занимался и более практическими науками: историей, математикой и астрономией, а также граверным искусством.
Стесненное материальное положение не позволяло ему обзавестить своим домом, «как подобает всякому порядочному турку», и «вхождение зятем» в дом старого, добродушного и сравнительно обеспеченного чиновника являлось для него неплохим выходом из положения.
Абдулатыф посоветовался с женой, та одобрила его планы, и вскоре состоялась свадьба; а через некоторое время вся семья уехала в Текирдаг – маленький солнечный городок на европейском берегу Мраморного моря, куда Абдулатыф был, наконец, назначен вице-губернатором.
21 ноября 1840 года, к великой радости всей семьи, у Зехры родился мальчик. Имя ему – Мехмед-Кемаль – дал сам старый паша, найдя это красивое сочетание в каком-то старом арабском стихе. Уже по одному тому, что дед назвал его не просто Мехмедом, а добавил еще прозвище Кемаль, что значит «совершенство», можно судить, какие чувства вызвало в семье появление ребенка.
Но счастье длилось не долго. Мальчику едва исполнилось два года, как умерла его молодая мать. Это было жестоким ударом для стариков и для Мустафы-Асыма, Кроме всего прочего, эта неожиданная смерть внесла и новое осложнение. Если при жизни жены положение Мустафы-Асыма в качестве «домашнего зятя» еще кое-как оправдывалось в глазах провинциального общества, то теперь его попросту сочли бы тунеядцем. Да и вообще оставаться в Текирдаге не имело смысла. Надо было ехать в Стамбул, искать службу, пытаться устроиться. При этих обстоятельствах, отец не мог и думать о том, чтобы взять с собою крошечного ребенка. Пришлось оставить его у стариков, которые, впрочем, и сами ни за что бы с ним не расстались, так как это было их единственным утешением после смерти горячо любимой дочери.
Маленький Кемаль рос в большом, поставленном на широкую ногу, доме деда. Абдулатыф не принадлежал к породе бережливых людей, откладывающих деньги на черный день. Когда он умер, после него ничего не осталось, кроме долгов. Семья всегда проживала без остатка все сравнительно большое жалованье. Впрочем, в то время так жили почти все крупные турецкие чиновники. Дело в том, что по существовавшему уже свыше века закону султан считался наследником всех государственных служащих и военных. [20]Это создавало «основание», как только становилось известным, что какой-либо из чиновников скопил себе поборами или взятками большое состояние, конфисковать все его имущество, предварительно казнив самого владельца. Этот закон был лишь незадолго перед тем отменен Махмудом II, но чиновники уже привыкли тратить все то, что они получали, дабы не вводить султана в искушение.
Семья ни в чем не нуждалась. Маленького Кемаля баловали и берегли пуще глаза. Вместе с тем уже с первых лет его жизни старики заботились о его воспитании. Его бабка, Махдуме-ханым, принадлежала к редким в то время женщинам, которым родители давали какое-то образование. Хотя ее и воспитывали в старом духе, но она отнюдь не чуждалась новых идей, все чаще и чаще просачивавшихся в турецкое общество. Уже в первые годы своего существования Кемаль рос не в той узко-фанатической атмосфере патриархального дома, которая царила в большинстве тогдашних зажиточных семей. Впоследствии он всегда вспоминал с теплым чувством признательности о том влиянии, которое оказала на его развитие старая бабка.
Абдулатыф-паша оставался в Текирдаге довольно долго – около девяти лет. За это время мальчик подрос, окреп, обучился читать и писать. Затем наступило привычное уже для семьи перемещение. Нужно было ехать в Стамбул, жить там несколько месяцев, хлопотать о новом назначении.
В столице семья поселилась в большом старом доме в квартале Филиокушу. Ребенок продолжал жить со стариками, но для него появилась возможность постоянного общения с отцом. К этому времени Мустафе-Асыму удалось уже устроиться. Его ум и образование помогли ему выдвинуться. В то время люди, знавшие какие-либо европейские науки, были редкостью, а при правительственном курсе реформы в таких людях ощущалась особенно острая потребность. Всесильный визирь Решид-паша покровительствовал наукам. Мустафа-Асым получил чиновничью должность, открывающую путь к высокой карьере, а впоследствии был назначен дворцовым астрономом. Его материальные дела поправлялись, но он еще жил холостяком, попрежнему остро переживая утрату горячо любимой жены. Возможность часто видеть сына, беседовать с ним, следить за его развитием было для него большой радостью. Старая бабка поощряла это общение между сыном и отцом, вылившееся в настоящую дружбу, несмотря на то, что Кемалю было всего девять лет.
Она часто посылала мальчика в дом к отцу, где он проводил интереснейшие часы, слушая бесконечные рассказы отца, об остром уме которого Кемаль впоследствии не раз отзывался с восхищением. Привлекало ребенка и замечательное граверное искусство Мустафы-Асыма. Он мог часами сидеть около отца, смотреть, как тот ювелирно-тонко вырезывает какую-либо замысловатую вязь арабской надписи, и слушать его рассказы, извлеченные из трудов старых турецких историографов, которыми увлекался Мустафа-Асым и которые он передавал чрезвычайно красочно. Так Кемаль еще ребенком познакомился с историей расцвета и упадка Оттоманской империи, что на всю жизнь породило в нем любовь к историческим наукам. Впоследствии самым страстным желанием его было написать подробную историю Турции. Смерть застала его как раз за этим, далеко не законченным трудом.
Но еще больше, чем история, увлекали ребенка живые подробные рассказы отца об их роде и о всех тех притеснениях и гонениях, которым он подвергался со стороны султанов и дворцовой камарильи. Перед глазами впечатлительного и остро-любознательного мальчика живой вереницей проходили тени еще незабытых предков.
Отец Мустафы-Асыма, Шамседдин, прожил до ста девяти лет и, понятно, сохранил в своей памяти подробную хронику последних поколений. Благодаря ему Мустафа-Асым знал далекую родословную семьи и все те гонения, которые привели ее от знатности и богатства к крайней бедности.
Род отца Кемаля происходил от жившего в начале XVIII века в большом городе центральной Анатолии, Конии, крупного феодального землевладельца Бекир-аги. Среди потомков последнего были знаменитые полководцы, могущественные визири и стяжавшие славу поэты. Почти все, в той или иной мере, подвергались султанской немилости, а некоторые сложили свою голову на плахе.
Шамседдин пережил пять султанов, служил три четверти столетия и был неоднократно объектом султанской тирании. Уже тогда, когда он был глубоким стариком, при Махмуде II, все его состояние было конфисковано, и он буквально был выброшен на улицу.
Отец подробно рассказывал маленькому Кемалю все перипетии этой сцены, свидетелем которой он сам был:
– Когда посланные султаном солдаты пришли забирать имущество твоего деда, старик сказал им: «Берите все, что у меня есть, ничего не оставляйте, но не трогайте только этого старого коврика, на котором я творю намаз». [21]Но даже и эта скромная просьба не была удовлетворена. Старик вышел из своего богатого дома в чем был. Если бы не родня, приютившая его, он умер бы с голоду под забором.
Из состояния семьи, доходы от которого были когда-то не меньше, чем доходы целого округа, не осталось ничего. Мустафа-Асым вырос в крайней нужде, среди вечных горьких воспоминаний и жалоб семьи. Все слышанное и виденное в детстве он передавал теперь слово в слово сыну, выращивая в нем с самого раннего возраста возмущение против режима деспотизма и произвола.
Под влиянием этих рассказов история Османов начинала представляться мальчику в новом свете. Он видит в ней не только цепь блестящих завоеваний, геройских подвигов, громкой славы, но и бесчисленное количество темных, кровавых деяний, бессмысленных и отвратительных по своей жестокости.
Однажды, прерывая рассказ отца о царствовании Баязида I, он задал вопрос:
– Эфенди, вы рассказывали мне, что Баязид, когда был наследником, был достойным и смелым молодым человеком; как же случилось, что немедленно по восшествии на престол он велел убить своего невинного брата Якуба?
Мустафа-Асым горько усмехнулся:
– Сынок, – сказал он, – падишахи родятся в тот день, когда вступают на престол.
Много лет спустя, после восшествия на престол Абдул-Хамида, проводившего в бытность свою наследником коварную либериальную игру, Кемаль не мог не вспомнить этой пророческой фразы.
Кемаль был слишком мал, чтобы видеть и другую сторону медали. Если его предки кончали жизнь на плахе или разорялись по милости султанов и камарильи, то сами они в свою очередь являлись представителями той феодально-бюрократической военной верхушки, которая не менее жестоко расправлялась с простым народом и разоряла страну. Он понял это гораздо позже, но в то время, под влиянием рассказов отца, весь его род казался ему состоящим из благороднейших людей, невинных мучеников султанской деспотии.
Рассказы отца приохотили маленького Кемаля к чтению и зародили в нем жажду знаний. Пытливый, любознательный ум ребенка, его недюжинные способности и страстное желание учиться ставили вопрос о его дальнейшем образовании.
В дореформенной Турции не существовало светских школ. Образование было сосредоточено в руках духовенства. В первоначальных школах ходжи [22]учили мальчиков читать и писать, а также преподавали им начальные догматы ислама.
Розги, неизменная «фалака», [23]висевшая в старое время на стене классной комнаты в каждой турецкой школе, считались испытанным средством для вколачивания в головы детей сухой и трудной мусульманской премудрости.
– Мясо твое – кости мои, – часто говорил учителю, по свидетельству народной литературы, отец, приводивший в школу сынка, что означало право ходжи бить ученика только до полусмерти и без членовредительства.
Особенно жестокие побои выпадали на долю бедных учеников, за учение которых никто не платил и которые почитались как бы собственностью школы. Они отвечали часто и за шалости своих богатых товарищей, которых ходжа не смел наказывать.
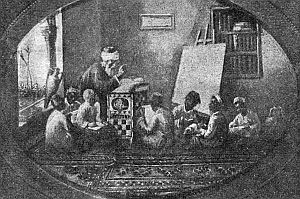 Ходжа обучает детей знати (со старой турецкой картины).
Ходжа обучает детей знати (со старой турецкой картины).
– Не оставлять же проступка без наказания, – говорил в таких случаях учитель, – а этим все равно пойдет на пользу. [24]
По окончании первоначальной школы, для турецкой молодежи был открыт лишь один путь для продолжения образования – медрессе (духовное училище).
Сейчас, когда пишутся эти строки, прошло уже более десяти лет с тех пор, как республиканское правительство новой Турции ликвидировало эти гнезда и рассадники фанатизма, реакции и все иссушающей схоластики. Но и до сих пор во многих городах сохранились здания медрессе, носящие печать мертвечины и рисующие яркий образ печального прошлого.
Они все построены на один манер – эти медрессе. Обычно это большое одноэтажное здание, окружающее с трех сторон обширный двор мечети. Под портиком, поддерживаемым колоннами и идущим вдоль всего здания, несколько десятков дверей ведут в маленькие келейки с небольшим решетчатым окном пробитым в толще стены, а иногда просто освещенный застекленным отверстием в куполе. Вся обстановка такой кельи, похожей на тюремную камеру, состоит из низкого соломенного дивана и цыновки. Когда мальчик 12–15 лет, прошедший первоначальную школу или выучившийся читать и писать у домашнего учителя, попадает в медрессе и становится «софта», ему предоставляется такая келья, в которой предстоит провести за учением несколько лет.
Обычно медрессе пополнялись выходцами из средних классов, для которых была недоступна чиновничье-административная карьера, монополизированная за детьми и родственниками знати и очень богатых людей. Существование софта было очень незавидным: скромную пищу, далеко недостаточную для молодого желудка и обычно состоявшую из пустой похлебки и каких-либо овощей, выдавало медрессе; остальное софта должен был покупать на свои деньги. Наиболее счастливые получали кое-какую помощь деньгами или продуктами от родителей – помещиков или богатых крестьян и торговцев, но при тогдашнем разорении всего населения страны таких было немного. Большинство жило впроголодь и зарабатывало чем могло: переписывали кораны и другие духовные книги, помогали сторожам подметать и убирать мечеть, прислуживали в доме учителей или носили им с базара провизию.
Обучение в медрессе длилось 10–12 лет. За это время софта успевал изучить арабскую грамматику, этику, риторику, теологию, философию, мусульманскую юриспруденцию – «шери», и наконец коран и сунну. [25]
По окончании медрессе софта приобретал звание «данишменд», т. е. «одаренный наукой», и мог стать ходжой или имамом. Если он хотел учиться далее и добираться до высших ступеней духовной юридической иерархии, он должен был делать это уже целиком на свои средства, что было доступно лишь весьма немногим.
После ряда лет нового учения он приобретал наконец первую ступень улема и мог получить должность провинциального кадия.
Его войска захватили Сирию и значительную часть Малой Азии. Под Конией он наголову разбил турецкую армию, взял в плен командующего ею великого визиря и, поддерживаемый населением, готовым на все, лишь бы избавиться от ужасного гнета турецких наместников, двинулся к Стамбулу. Наборы рекрутов для борьбы с египтянами вызвали во многих провинциях беспорядки. Военная катастрофа бросила турецкое правительство в объятия векового врага – России. Турция приняла предложение о помощи Николая I, и русская эскадра вошла в Босфор, а русские войска высадились на азиатском берегу пролива в Хункьяр-Искелеси. В благодарность за эту помощь Николай I добился закрытия Дарданелл для военных судов европейских держав. Начинается знаменитая англо-русская дуэль, все удары которой направлены в грудь Турции.
Союз с Россией, где реакция была в самом разгаре, а самодержавие приняло самые деспотические формы, не мог не усилить реакционных элементов Турции. Отныне они парализуют все реформаторские тенденции Махмуда. Над жизнью последнего висит постоянная угроза, и перед его памятью проносятся все ужасные картины первых лет его царствования. Для фанатиков он – «падишах-гяур», [15]избавиться от которого является святым делом.
В 1837 году дервиш Шейх Саглы на галатском [16]мосту бросился перед его лошадью с криком: «Неверный падишах, разве ты не насытился своими преступлениями; ты ведешь к гибели ислам и навлекаешь месть аллаха на себя и на нас».
Другой дервиш из Бухары явился к Решид-паше во дворец Высокой Порты и осыпал его самыми ужасными оскорблениями и проклятиями. Чтобы не возбудить волнений среди фанатиков, дервиша лишь выгнали за дверь.
Фанатики поджигали целые кварталы Стамбула и обвиняли затем Махмуда, что он своим нечестием привлекает на голову народа кары аллаха.
Выжжены были самые торговые, самые цветущие кварталы столицы. «Султан хотел просторного места для своих военных парадов, – говорил один из арестованных, – мы исполнили его желание и очистили ему полгорода».
В Урфе, Диарбекире, Мардине, Мосуле, Багдаде происходили восстания феодалов. С трудом удалось привести в покорность крупнейших феодальных владельцев центральной и западной Анатолии: Кара Осман-оглу в Смирне и Чапан-оглу – в Анкаре.
Египетская угроза также не была окончательно ликвидирована. Магомет-Али снова восстал в 1839 году, перед самой смертью Махмуда. Его войска уничтожили турецкую армию под Ниссибом, а посланный в Египет турецкий флот перешел на сторону врага. Пришлось вновь прибегать к русской помощи, соглашаясь на новые уступки.
Призванный в этот момент в правительство Решид-паша понял, что союз с Россией усиливает реакционные силы в Турции и ведет ее к превращению в русскую колонию. Он видел единственное спасение в немедленном проведении реформ и использовании той борьбы, которая началась между Россией и Англией за Проливы, а между Англией и Францией – за Египет.
Это было незадолго до того, как англичане бомбардировали Александрию и заставили Магомет-Али умерить свои завоевательные планы. Впрочем население Сирии и Восточной Анатолии скоро убедилось, что деспотизм египетского наместника мало чем отличается от турецкого гнета. Крестьянское население Палестины и Египта восстало против него. Об овладении Стамбулом нечего было и думать. Пришлось удовлетвориться согласием Порты обратить его наместничество в наследственное. Стамбул вздохнул свободнее. Решид-паша воспользовался этим, чтобы провести кое-какие реформы.
Мы видели выше, что реакционная партия не посмела помешать опубликованию хатишерифа Гюль-Хане. В дальнейшем реакционная партия усиливается и добивается удаления Решида. Абдул-Меджид весьма охотно удовлетворяет это желание улемов и придворной камарильи, ибо ему самому ненавистен этот либеральный министр, который, подражая имаму, [17]возглашавшему на торжественном селямлике: [18]
«Падишах, помни: аллах выше тебя», при всяком удобном случае говорил султану: «Закон выше падишаха». Но как только, под влиянием внешних затруднений или вспышек возмущения внутри страны, монархия начинала терять почву под ногами, султан спешил призвать Решида к кормилу правления. Так было, например, в 1848 году, когда революционная волна, прокатившаяся по всей Европе, вылилась в Турции в грозное валашское восстание, создававшее удобный предлог для русской интервенции.
Иногда в бессильной ярости слабовольный Абдул-Меджид восклицает:
– Магомет, да освободи же меня из рук этого человека!
Но его протесты дальше этого не идут. Решид оказывает влияние на дела государства даже тогда, когда его удаляют из правительства: с ним считается вся империя.
За границей реформы Танзимата расценивались по-разному. Для передовых промышленных стран, как Англия и Франция, они были выгодны, так как обеспечивали «нормальные» условия для проникновения в Турцию иностранного капитала. Петербург же и Вена – злобствовали. Русское и австрийское правительства уже несколько лет вели переговоры о разделе наследства «больного человека». Реформы Танзимата могли вдохнуть новую жизнь в заживо разлагающуюся империю. В длинном письме к тогдашнему австрийскому посланнику в Стамбуле, графу Аппоньи, канцлер князь Меттерних выражал свое недовольство и порицал реформы, которые он называл «бесплодной и гибельной концепцией». Он советовал Турции не перенимать слепо европейские идеи (читай: идеи французской демократии), а вернуться к своей восточной самобытности.
Из всего дипломатического корпуса, присутствовавшего при обнародовании манифеста Гюль-Хане, лишь один русский посол Бутенев, от которого, впрочем, предусмотрительно до последней минуты скрывалась подготовка акта, открыто выразил свое недовольство «комедией», как он называл хатишериф.
Это неодобрение было знаменательным. Недаром Решид-паша говорил: «если что-либо, предпринимаемое мною, не нравится России, – я знаю, что стою на верном пути».
Если проведенные Решидом реформы и не могут считаться слишком радикальными, то все же в ту эпоху они значительно способствовали приближению Турции к уровню культурных наций.
Эти реформы составляют первую, раннюю эпоху Танзимата. Они заключались главным образом в переделке совершенно архаического законодательства, которым держались реакционные слои правящих классов и которое препятствовало всякому прогрессу страны.
В Турции до того времени все еще действовали законы начала XVI столетия, изданные Сулейманом Великолепным. Почти все дела разбирались и решались на основе корана и комментариев великих учителей ислама, живших тысячу лет тому назад. За убийство человека можно было отделаться выкупом; судили духовные судьи – кадии. В 1840 году был издан первый уголовный кодекс, а через несколько лет введено торговое и административное законодательство. Был отменен откуп налогов, приводивший к сильнейшим злоупотреблениям и бывший разорительным, как для населения, так и для казны.

Вместо него была введена более централизованная система собирания налогов через специальных чиновников, – новшество, восстановившее против Решида могущественных ростовщиков, интересы которых были нарушены этой мерой и которые вскоре добились ее отмены. Были проведены реформы в армии и сокращен до 5 лет срок военной службы.
Провозглашенные хатишерифом гарантии жизни и имущества создавали первые предпосылки усиления буржуазии и привлечения ее капиталов для развития экономики.
«Турецкое господство, – писал Энгельс, – в самом деле несовместимо с капиталистическим обществом: накопленная прибавочная стоимость не обеспечена в руках сатрапов и пашей; не достает главного условия для буржуазной наживы: обеспеченности личности купца и его собственности».
Хатишериф Гюль-Хане если фактически и не создавал, то во всяком случае намечал эти условия.
Детство
Об'ятья матери во сне я только видел,
И, в мир прийдя, я этот мир возненавидел.
НАМЫК КЕМАЛЬ
Стамбульское правительство не любило, чтобы крупные провинциальные чиновники засиживались на своих местах. Долгое пребывание на одном и том же посту представляло ряд неудобств: чиновники сживались с местным населением, заводили дружественные связи, не так рьяно выколачивали всевозможные налоги и подати и даже, в ущерб доходам центрального правительства, начинали тратить кое-какие средства на местные нужды – поправляли дороги, мостили улицы, строили мосты и плотины.
С другой стороны, пороги Высокой Порты всегда обивала толпа людей, имеющих высокое родство или связи, которым надо было предоставить доходное место. Поэтому, едва какой-либо губернатор, вице-губернатор или начальник округа успевали обжиться в провинции, их снимали под каким-либо предлогом и вызывали вСтамбул, где они в свою очередь бегали несколько месяцев по канцеляриям и по передним высоких особ, пока не получали нового назначения.
Дед Намык Кемаля по матери, Абдулатыф-паша, албанец по происхождению, был одним из типичных представителей этого слоя чиновничества. Не имея ни большого состояния, ни прочных связей в высоких стамбульских сферах, он всю свою жизнь кочевал по многочисленным пашалыкам и санджакам [19]Румелии и Анатолии, с трудом дослужившись до титула паши и должности провинциального вице-губернатора и совершая время от времени очередное паломничество в столицу.
В конце тридцатых годов, во время одной из таких перебросок, прожив с семьею несколько месяцев в Стамбуле, он воспользовался этим, чтобы выдать замуж свою дочь Зехру – любимицу семьи.
Дело это представлялось несколько сложным, так как, с одной стороны, паша искал хорошую партию, а с другой – ни за что не хотел отдавать дочь в чужой дом. Надо было, следовательно, подыскать приличного молодого человека, который бы согласился быть «домашним зятем», по тогдашнему турецкому выражению, т. е. жить в доме тестя.
После недолгих поисков Абдулатыфу посчастливилось встретить скромного и серьезного юношу из довольно знатной, но окончательно разоренной султанскими конфискациями и впавшей в бедность семьи.
Бедность и незавидное положение жениха лишь на минуту заставили задуматься Абдулатыфа. Он прекрасно понимал, что сколько-нибудь состоятельный человек не согласится жить в семье родителей жены, то-есть быть почти на положении нахлебника. С другой стороны, Мустафа-Асым – так звали молодого человека – произвел на старика прекрасное впечатление. В детстве он натерпелся много горя, был свидетелем разорения и бедствия семьи, имевшей когда-то громадное состояние, и почти мальчиком должен был упорным трудом пробивать себе дорогу да еще помогать родным.

Он получил образование, которое в те времена полагалось иметь молодым людям из хорошей семьи, то-есть изучил персидский и арабский языки, старую поэзию и разные схоластические премудрости. Сверх того, он занимался и более практическими науками: историей, математикой и астрономией, а также граверным искусством.
Стесненное материальное положение не позволяло ему обзавестить своим домом, «как подобает всякому порядочному турку», и «вхождение зятем» в дом старого, добродушного и сравнительно обеспеченного чиновника являлось для него неплохим выходом из положения.
Абдулатыф посоветовался с женой, та одобрила его планы, и вскоре состоялась свадьба; а через некоторое время вся семья уехала в Текирдаг – маленький солнечный городок на европейском берегу Мраморного моря, куда Абдулатыф был, наконец, назначен вице-губернатором.
21 ноября 1840 года, к великой радости всей семьи, у Зехры родился мальчик. Имя ему – Мехмед-Кемаль – дал сам старый паша, найдя это красивое сочетание в каком-то старом арабском стихе. Уже по одному тому, что дед назвал его не просто Мехмедом, а добавил еще прозвище Кемаль, что значит «совершенство», можно судить, какие чувства вызвало в семье появление ребенка.
Но счастье длилось не долго. Мальчику едва исполнилось два года, как умерла его молодая мать. Это было жестоким ударом для стариков и для Мустафы-Асыма, Кроме всего прочего, эта неожиданная смерть внесла и новое осложнение. Если при жизни жены положение Мустафы-Асыма в качестве «домашнего зятя» еще кое-как оправдывалось в глазах провинциального общества, то теперь его попросту сочли бы тунеядцем. Да и вообще оставаться в Текирдаге не имело смысла. Надо было ехать в Стамбул, искать службу, пытаться устроиться. При этих обстоятельствах, отец не мог и думать о том, чтобы взять с собою крошечного ребенка. Пришлось оставить его у стариков, которые, впрочем, и сами ни за что бы с ним не расстались, так как это было их единственным утешением после смерти горячо любимой дочери.
Маленький Кемаль рос в большом, поставленном на широкую ногу, доме деда. Абдулатыф не принадлежал к породе бережливых людей, откладывающих деньги на черный день. Когда он умер, после него ничего не осталось, кроме долгов. Семья всегда проживала без остатка все сравнительно большое жалованье. Впрочем, в то время так жили почти все крупные турецкие чиновники. Дело в том, что по существовавшему уже свыше века закону султан считался наследником всех государственных служащих и военных. [20]Это создавало «основание», как только становилось известным, что какой-либо из чиновников скопил себе поборами или взятками большое состояние, конфисковать все его имущество, предварительно казнив самого владельца. Этот закон был лишь незадолго перед тем отменен Махмудом II, но чиновники уже привыкли тратить все то, что они получали, дабы не вводить султана в искушение.
Семья ни в чем не нуждалась. Маленького Кемаля баловали и берегли пуще глаза. Вместе с тем уже с первых лет его жизни старики заботились о его воспитании. Его бабка, Махдуме-ханым, принадлежала к редким в то время женщинам, которым родители давали какое-то образование. Хотя ее и воспитывали в старом духе, но она отнюдь не чуждалась новых идей, все чаще и чаще просачивавшихся в турецкое общество. Уже в первые годы своего существования Кемаль рос не в той узко-фанатической атмосфере патриархального дома, которая царила в большинстве тогдашних зажиточных семей. Впоследствии он всегда вспоминал с теплым чувством признательности о том влиянии, которое оказала на его развитие старая бабка.
Абдулатыф-паша оставался в Текирдаге довольно долго – около девяти лет. За это время мальчик подрос, окреп, обучился читать и писать. Затем наступило привычное уже для семьи перемещение. Нужно было ехать в Стамбул, жить там несколько месяцев, хлопотать о новом назначении.
В столице семья поселилась в большом старом доме в квартале Филиокушу. Ребенок продолжал жить со стариками, но для него появилась возможность постоянного общения с отцом. К этому времени Мустафе-Асыму удалось уже устроиться. Его ум и образование помогли ему выдвинуться. В то время люди, знавшие какие-либо европейские науки, были редкостью, а при правительственном курсе реформы в таких людях ощущалась особенно острая потребность. Всесильный визирь Решид-паша покровительствовал наукам. Мустафа-Асым получил чиновничью должность, открывающую путь к высокой карьере, а впоследствии был назначен дворцовым астрономом. Его материальные дела поправлялись, но он еще жил холостяком, попрежнему остро переживая утрату горячо любимой жены. Возможность часто видеть сына, беседовать с ним, следить за его развитием было для него большой радостью. Старая бабка поощряла это общение между сыном и отцом, вылившееся в настоящую дружбу, несмотря на то, что Кемалю было всего девять лет.
Она часто посылала мальчика в дом к отцу, где он проводил интереснейшие часы, слушая бесконечные рассказы отца, об остром уме которого Кемаль впоследствии не раз отзывался с восхищением. Привлекало ребенка и замечательное граверное искусство Мустафы-Асыма. Он мог часами сидеть около отца, смотреть, как тот ювелирно-тонко вырезывает какую-либо замысловатую вязь арабской надписи, и слушать его рассказы, извлеченные из трудов старых турецких историографов, которыми увлекался Мустафа-Асым и которые он передавал чрезвычайно красочно. Так Кемаль еще ребенком познакомился с историей расцвета и упадка Оттоманской империи, что на всю жизнь породило в нем любовь к историческим наукам. Впоследствии самым страстным желанием его было написать подробную историю Турции. Смерть застала его как раз за этим, далеко не законченным трудом.
Но еще больше, чем история, увлекали ребенка живые подробные рассказы отца об их роде и о всех тех притеснениях и гонениях, которым он подвергался со стороны султанов и дворцовой камарильи. Перед глазами впечатлительного и остро-любознательного мальчика живой вереницей проходили тени еще незабытых предков.
Отец Мустафы-Асыма, Шамседдин, прожил до ста девяти лет и, понятно, сохранил в своей памяти подробную хронику последних поколений. Благодаря ему Мустафа-Асым знал далекую родословную семьи и все те гонения, которые привели ее от знатности и богатства к крайней бедности.
Род отца Кемаля происходил от жившего в начале XVIII века в большом городе центральной Анатолии, Конии, крупного феодального землевладельца Бекир-аги. Среди потомков последнего были знаменитые полководцы, могущественные визири и стяжавшие славу поэты. Почти все, в той или иной мере, подвергались султанской немилости, а некоторые сложили свою голову на плахе.
Шамседдин пережил пять султанов, служил три четверти столетия и был неоднократно объектом султанской тирании. Уже тогда, когда он был глубоким стариком, при Махмуде II, все его состояние было конфисковано, и он буквально был выброшен на улицу.
Отец подробно рассказывал маленькому Кемалю все перипетии этой сцены, свидетелем которой он сам был:
– Когда посланные султаном солдаты пришли забирать имущество твоего деда, старик сказал им: «Берите все, что у меня есть, ничего не оставляйте, но не трогайте только этого старого коврика, на котором я творю намаз». [21]Но даже и эта скромная просьба не была удовлетворена. Старик вышел из своего богатого дома в чем был. Если бы не родня, приютившая его, он умер бы с голоду под забором.
Из состояния семьи, доходы от которого были когда-то не меньше, чем доходы целого округа, не осталось ничего. Мустафа-Асым вырос в крайней нужде, среди вечных горьких воспоминаний и жалоб семьи. Все слышанное и виденное в детстве он передавал теперь слово в слово сыну, выращивая в нем с самого раннего возраста возмущение против режима деспотизма и произвола.
Под влиянием этих рассказов история Османов начинала представляться мальчику в новом свете. Он видит в ней не только цепь блестящих завоеваний, геройских подвигов, громкой славы, но и бесчисленное количество темных, кровавых деяний, бессмысленных и отвратительных по своей жестокости.
Однажды, прерывая рассказ отца о царствовании Баязида I, он задал вопрос:
– Эфенди, вы рассказывали мне, что Баязид, когда был наследником, был достойным и смелым молодым человеком; как же случилось, что немедленно по восшествии на престол он велел убить своего невинного брата Якуба?
Мустафа-Асым горько усмехнулся:
– Сынок, – сказал он, – падишахи родятся в тот день, когда вступают на престол.
Много лет спустя, после восшествия на престол Абдул-Хамида, проводившего в бытность свою наследником коварную либериальную игру, Кемаль не мог не вспомнить этой пророческой фразы.
Кемаль был слишком мал, чтобы видеть и другую сторону медали. Если его предки кончали жизнь на плахе или разорялись по милости султанов и камарильи, то сами они в свою очередь являлись представителями той феодально-бюрократической военной верхушки, которая не менее жестоко расправлялась с простым народом и разоряла страну. Он понял это гораздо позже, но в то время, под влиянием рассказов отца, весь его род казался ему состоящим из благороднейших людей, невинных мучеников султанской деспотии.
Рассказы отца приохотили маленького Кемаля к чтению и зародили в нем жажду знаний. Пытливый, любознательный ум ребенка, его недюжинные способности и страстное желание учиться ставили вопрос о его дальнейшем образовании.
В дореформенной Турции не существовало светских школ. Образование было сосредоточено в руках духовенства. В первоначальных школах ходжи [22]учили мальчиков читать и писать, а также преподавали им начальные догматы ислама.
Розги, неизменная «фалака», [23]висевшая в старое время на стене классной комнаты в каждой турецкой школе, считались испытанным средством для вколачивания в головы детей сухой и трудной мусульманской премудрости.
– Мясо твое – кости мои, – часто говорил учителю, по свидетельству народной литературы, отец, приводивший в школу сынка, что означало право ходжи бить ученика только до полусмерти и без членовредительства.
Особенно жестокие побои выпадали на долю бедных учеников, за учение которых никто не платил и которые почитались как бы собственностью школы. Они отвечали часто и за шалости своих богатых товарищей, которых ходжа не смел наказывать.
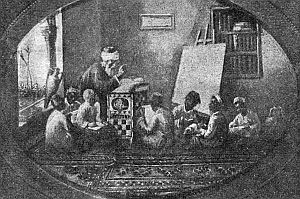
– Не оставлять же проступка без наказания, – говорил в таких случаях учитель, – а этим все равно пойдет на пользу. [24]
По окончании первоначальной школы, для турецкой молодежи был открыт лишь один путь для продолжения образования – медрессе (духовное училище).
Сейчас, когда пишутся эти строки, прошло уже более десяти лет с тех пор, как республиканское правительство новой Турции ликвидировало эти гнезда и рассадники фанатизма, реакции и все иссушающей схоластики. Но и до сих пор во многих городах сохранились здания медрессе, носящие печать мертвечины и рисующие яркий образ печального прошлого.
Они все построены на один манер – эти медрессе. Обычно это большое одноэтажное здание, окружающее с трех сторон обширный двор мечети. Под портиком, поддерживаемым колоннами и идущим вдоль всего здания, несколько десятков дверей ведут в маленькие келейки с небольшим решетчатым окном пробитым в толще стены, а иногда просто освещенный застекленным отверстием в куполе. Вся обстановка такой кельи, похожей на тюремную камеру, состоит из низкого соломенного дивана и цыновки. Когда мальчик 12–15 лет, прошедший первоначальную школу или выучившийся читать и писать у домашнего учителя, попадает в медрессе и становится «софта», ему предоставляется такая келья, в которой предстоит провести за учением несколько лет.
Обычно медрессе пополнялись выходцами из средних классов, для которых была недоступна чиновничье-административная карьера, монополизированная за детьми и родственниками знати и очень богатых людей. Существование софта было очень незавидным: скромную пищу, далеко недостаточную для молодого желудка и обычно состоявшую из пустой похлебки и каких-либо овощей, выдавало медрессе; остальное софта должен был покупать на свои деньги. Наиболее счастливые получали кое-какую помощь деньгами или продуктами от родителей – помещиков или богатых крестьян и торговцев, но при тогдашнем разорении всего населения страны таких было немного. Большинство жило впроголодь и зарабатывало чем могло: переписывали кораны и другие духовные книги, помогали сторожам подметать и убирать мечеть, прислуживали в доме учителей или носили им с базара провизию.
Обучение в медрессе длилось 10–12 лет. За это время софта успевал изучить арабскую грамматику, этику, риторику, теологию, философию, мусульманскую юриспруденцию – «шери», и наконец коран и сунну. [25]
По окончании медрессе софта приобретал звание «данишменд», т. е. «одаренный наукой», и мог стать ходжой или имамом. Если он хотел учиться далее и добираться до высших ступеней духовной юридической иерархии, он должен был делать это уже целиком на свои средства, что было доступно лишь весьма немногим.
После ряда лет нового учения он приобретал наконец первую ступень улема и мог получить должность провинциального кадия.
