Страница:
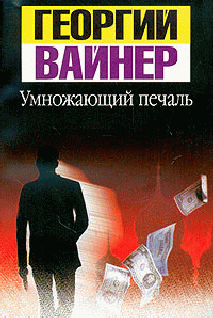
Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер
Умножающий печаль
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Екклесиаст
По законам нынешней жизни, если в первом акте на стене висит ружье, значит, до начала спектакля из него уже кого-то застрелили.
Милицейский взгляд на чеховский театр
СЕРГЕЙ ОРДЫНЦЕВ: ЭКСТРАДИЦИЯ
— Ты очень хитрый парень, — сказал Пит Флэнаган, повернул руль налево, и мы покатили в сторону Трокадеро.
Спорить с ним бессмысленно, как забивать лбом гвозди. Да и вообще разговаривать неохота. Жестяной пузырь машины был заполнен щемящей золотой песней саксофона Птицы Чарли Паркера, протяжной, сладкой, плотной, как облако из сливочного мороженого.
Через окно я рассматривал скачущее отражение нашей машины в зеркальных витринах — черный юркий «ситроен» с проблесковым синим фонарем на крыше.
Его тревожный пульсирующий свет был неуместен в этом мягком воскресном утре, еще не увядшем от подступающей жары, от потной людской суеты, не задушенном синеватым угаром автомобильного дыма.
— Я не хитрый, — ответил я Флэнагану, когда мы выскочили на набережную и погнали по правому берегу. — Я задумчивый. По-русски это называется «мудак»…
— Правда? — переспросил на всякий случай Пит, хотя ему было все равно.
— Абсолютно, — заверил я серьезно. — Так и запомни: захочешь русскому сказать приятное, смело говори: вы, мол, месье, мудак… Это русский эвфемизм понятия «доброжелательный задумчивый мудрец».
— Запомню, — пообещал Флэнаган и повторил вслух:
— Мьюдэк…
— Во-во! Так и говори.
Слева над рекой торчала Эйфелева башня, на которой полыхало неживыми белыми сполохами электрическое табло — «До 2000 года осталось 534 дня».
И что? Что теперь делать?
Воздетый в безоблачное голубое небо, фигурно скрученный железный перст торжественно и грозно предупреждал ни о чем — если бы там, в туманном небытии, через 534 дня должно было что-то случиться, от нас бы это тщательно скрыли. Мы живем в замечательное время, когда никого ни о чем заранее не предупреждают. А раньше нешто предупреждали? Разве что пророки о чем-то жалобно просили народы. Да кто же их когда слушал? Интернета тогда на нашу голову не было.
— Пит, ты знаешь, что через 534 дня наступит новый век? — спросил я Флэнагана.
— А ты что, считал их? — усмехнулся Пит.
— Нет, я в управлении разведки подсмотрел секретный доклад — они предполагают, что это достоверная цифра. Ну, может быть, 536… Это ведь никогда до конца не ясно…
— Угу, — кивнул серьезно Флэнаган. — Скорее бы…
— А что случится?
— На пенсию можно будет уйти Надоела мне наша собачья работа, — равнодушно сказал Пит.
— Да брось ты! Всякая работа — собачья. Не собачий только отдых, — глубокомысленно заметил я. — Но отдыхать все время нельзя.
— Это почему еще? — искренне удивился Пит.
— Отдых превратится в работу. Будешь мне жаловаться: надоел мне этот собачий отдых…
— Дурачок ты, — усмехнулся Пит. — Молодой еще…
Мы уже проехали Дефанс, миновали громаду Большого стадиона, сквозанули на оторут 9 — в сторону аэропорта Шарля де Голля. И от этой утренней воскресной пустоты, от желто-голубого света, окутывающего город золотистой дымкой, от печально-сладкой музыки Чарли Паркера, от никнущей малахитовой зелени бульваров охватывало меня чувство щемящей грусти, смутного ощущения прощания, разлуки надолго, может быть, навсегда.
— Что будешь на пенсии делать, Пит?
— Жена присмотрела домик в Провансе. Там и осядем, наверное…
— А домой, в Шотландию, не тянет?
Флэнаган пожал плечами:
— Там уже нет моего дома… Там — скромный риэлэстейт. Старики умерли, ребята выросли, разъехались. Приятелей встречу на улице — не узнаю…
— Тогда покупай в Провансе, — разрешил я. — Буду к тебе наезжать, съездим в Грасс, там дом Бунина…
— Какой-нибудь новый русский?
— Нет, это очень старый русский…
— Богатый? — поинтересовался Пит.
— Умер в нищете.
— Странно, — покачал головой Пит. — Я не видел во Франции бедных русских.
— Оглянись вокруг. Вот я, например…
— Потому что ты — доброжелательный мудрец, задумчивый мьюдэк, — утешил Пит.
— Вот это ты очень правильно заметил, — охотно подтвердил я.
Город уплывал вместе с волшебной мелодией Паркера, которую почти совсем задушил, измял, стер тяжелый басовитый рык турбин взлетающих и садящихся самолетов. Индустриально-трущобная пустыня предместья, нахально рядящаяся под пригород Парижа.
— Я хочу рассказать тебе смешную историю, Пит…
Флэнаган, не отрывая взгляда от дороги, благодушно кивнул, наверное, сказал про себя по-английски: мол, валяй, мели, Емеля…
— Я в школе ненавидел учебу…
— Да, ты мало похож на мальчика-отличника, — сразу согласился Пит.
— На всех уроках я читал… Закладывал под крышку парты книгу — и насквозь с первого урока до последнего звонка. У меня не хватало времени даже хулиганить.
— Много упустил в жизни интересного, — заметил Флэнаган.
— Наверное. Я был заклятый позорный троечник — я никогда не делал домашних заданий и отвечал только то, что краем уха услышал на занятиях, читая под партой книгу. На родительских собраниях классная руководительница Ираида Никифоровна…
— Только у поляков такие же невыносимые имена, как у вас, — сказал Флэнаган.
— Не перебивай! Моя классная руководительница говорила маме: у вас мальчик неплохой, но очень тупой. Тупой он у вас! Тупой…
— Dumb? — переспросил Пит.
— Yes! Dumb, bone head — костяная голова, тупой! Флэнаган захохотал.
— Вот ты, дубина, смеешься, а мама, бедная, плакала. Спрашивала растерянно учительницу: почему? Почему вы говорите, что он такой тупой? А Ираида Никифоровна ей твердо отвечала: это у вас с мужем надо спрашивать, почему у вас сын такой тупой!
Флэнаган взял со щитка голубенькую пачку «Житан», ловко выщелкнул сигарету, прикурил. Прищурившись, выпустил тонкую, острую струю дыма, покачал головой и сказал решительно:
— Это невеселая история, она мне не нравится…
— У вас, шотландцев, ослаблено чувство юмора… Машина начала с мягким рокотом взбираться на спиральный подъездной пандус аэропорта.
— Это веселая история, — упрямо сказал я.
— Наверное, у вас, русских, действительно усилено чувство юмора, — пожал плечами Флэнаган.
— Ага! Как рессоры на вездеходе. Иначе не доедешь…
— По-моему, доехали, — сказал Пит, притормаживая у служебного входа.
Я взял с заднего сиденья свою сумку и повернулся к Флэнагану:
— Я рассказал тебе веселую историю. И для меня важную…
— Почему?
— Одна знакомая встретила недавно эту учительницу — Ираиду Никифоровну. Двадцать лет прошло — она старая стала, сентиментальная, все расспрашивала о наших ребятах, у кого что получилось, как жизнь сложилась. И моя знакомая по дурости сказала, что самая яркая, неожиданная судьба вышла у меня. Классная руководительница послушала ее, послушала обо всех моих прыжках и ужимках, вздохнула и подвела итог: «Как все-таки несправедлива жизнь. Ведь такой тупой мальчик был!»
Флэнаган открыл бардачок, достал плоскую фляжку и протянул мне:
— Возьми… Может, пригодится, это хороший деревенский бренди.
— Спасибо, друг…
Я приспособил фляжку в кармане куртки, хлопнул Пита по плечу и вылез из машины. Он наклонился к двери, опустил стекло и сказал:
— Это была невеселая история…
— Нет, это была веселая история, Пит. Просто мы с тобой догадались, что старая карга была права… Пока, дружище! — махнул рукой и, не оборачиваясь, пошел в аэровокзал.
«Ситроен» с резиновым колесным визгом погнал прочь, беззвучно разъехались стеклянные двери передо мной, и я вошел внутрь праздника.
Удивительное гульбище, полное света, музыки, вкусных запахов, веселой и тревожной беготни, экзотических пассажиров — каких-то полуодетых ликующих негров и растерянных заблудившихся шикарных господ. Я вошел в атмосферу звонкого и чуть испуганного ожидания смены воздушной и земной стихий, мелькания реклам, внушительной зовущей неподвижности огромных биллбордов, восторженного удивления от нескончаемого путешествия в прозрачных трубах стеклянных эскалаторов. А закончился праздник у дверей полицейского офиса, где усатый жандарм в опереточной форме спросил меня вполне драматическим тоном:
— Что вам угодно, месье?
— Я — старший офицер Интерпола Сергей Ордынцев, — и протянул ему удостоверение. Жандарм долго внимательно рассматривал коричневую кожаную книжечку, перевел суровый взгляд с фотографии на меня, скромного предъявителя, снова посмотрел на фото и, к моему удивлению, все-таки возвратил ксиву.
— Да, месье Ординсефф, вас уже ждут…
В офисе было полно народу — полицейские в форме, детективы в цивильном, клерки из министерства юстиции, российский консул Коля Аверин и еще четверо русских. Трое из них, несмотря на вполне приличные недорогие костюмы тайваньского или турецкого производства, мгновенно опознавались.
Как русские, во-первых, и как менты — во-вторых. С толстыми буграми подмышечных кобур под пиджаками. Русские — в смысле бывшие советские. Дело, наверное, не в национальности.
Русский или татарин, вотяк или еврей — мы не растворяемся в европейском людском месиве. Будто пятая человеческая раса, существуем от других наособицу и отличимы от всех иных так же явственно, как белые, черные, желтые и краснокожие народы. Вот будет для будущих антропологов и этнографов загадочка — почему? В чем генетическая разница? Настороженное выражение лица? Колющий взгляд, исподлобья, в сторону — испуганный и атакующий одновременно? Не знаю. Никто не понимает. Я узнаю земляков в толпе даже со спины. По походке? У нас особенная стать? Бомжи и миллионеры, профессора и воры, молодцы и дедушки несут в себе незримую, но отчетливую общность, которую ученые дураки из Гарварда назвали бы наследственной ментальностью зеков.
Мы все — выброшенная в мир мутация пожизненных арестантов. А, пустое! Не о чем и незачем думать. Все то, что не огонь — то прах…
А вот четвертый русский был красавцем — настоящий валет из карточной колоды. Изящным взмахом головы откидывая назад шикарную гриву волос, молодой русый валет в пиджаке нежно-сливочного цвета, шелковой светло-голубой рубашке, широковатых элегантных трузерах, башмаках «Балли» и скромно поблескивающих на запястьях наручниках, он доброжелательно и снисходительно улыбался всем нам, суетливой толпе стрюцких.
Консул с распаренным бабьим лицом бросился мне навстречу:
— Сергей Петрович, мы уже волновались…
— Зря, — усмехнулся я и небрежно-значительно наврал:
— Я никогда и никуда не опаздываю…
Поздоровался с французами, и в затхлой атмосфере полицейского участка еще долго летали, легкие и стрекочущие, как стрекозы, — «бонжур»… «коман сова?»… «рьен»… «бьен»… пока я не разрушил эту обстановку общей приятности:
— Господа, протокол экстрадиции арестованного готов. Согласны ли вы провести процедуру идентификации арестанта для передачи его российскому конвою?
— Да, французские власти завершили свою работу, — торжественно сообщил Пимашу, старший советник министерства юстиции, любезный прохвост и сука невероятная. Ведро крови из меня выцедил.
Я повернулся к красавцу валету и попросил душевно:
— Встаньте, пожалуйста, и назовите внятно свое имя.
Роскошный валет, весь нарядно-ярко-красочный, будто только что сброшенный из новой хрусткой атласной колоды, встал и, так же любезно улыбаясь в элегантные блондинистые усики, сообщил:
— Меня зовут Смаглий Василий Никифорович, я гражданин России…
Пимашу, не понимающий по-русски и от этого особенно переживающий, что мы можем сговориться хоть и в его присутствии, но как бы в то же время за его спиной, перебил незамедлительно:
— Смаглий — это имя или фамилия?
Я постарался успокоить его:
— Смаглий — фамилия арестованного, его первое имя Василий. Это все есть в бумагах.
— Спасибо, — сказал Пимашу с озабоченным лицом, — у русских такие сложные имена.
— У поляков еще хуже, — патриотически заметил я.
А Смаглий учтиво кивнул и, глядя в упор наглыми синими глазами, молвил:
— Возвращаясь к тому месту, где этот козел меня бестактно перебил… — он кивнул в сторону старшего советника, — хочу подтвердить, что я являюсь гражданином России. Пользуясь присутствием здесь нашего консула, заявляю категорический протест в связи с моим незаконным задержанием грязной французской полицейщиной.
Смаглий сделал вдох, как певец на подъеме тона, и воздел над головой скованные наручниками длани.
— Я требую присутствия свободной прессы! Пусть она донесет из этих мрачных застенков мой гневный голос до сведения мировой прогрессивной общественности. И правозащитников из «Амнести интернэшнл».
— Все понял, — согласился я. — Консул Российской Федерации господин Аверин сделает соответствующую запись в протоколе экстрадиции. А в прессе я вам должен отказать.
— А почему? Боитесь? — захохотал Смаглий, как моложавый упырь над ангелицей.
— Что он говорит? — сразу возник Пимашу. — Почему арестованный веселится?
— Арестованный не веселится. Он обсуждает со мной второстепенные процедурные вопросы, — заверил я советника юстиции и сказал арестанту:
— Слушай, Смаглий, хватит дурочку по полу катать. Запомни, я ничего не боюсь. Я опасаюсь…
— Чего?
— Что тебе пресса навредит только. Для тебя сейчас — чем тише, тем спокойнее. А еще я опасаюсь, что ты меня держишь за дурака и тянешь резину. Надеешься опоздать на этот рейс?
— А чего спешить? — засмеялся Смаглий. — Я что, завтра в Бутырки опоздаю?
Тут очень уместно вмешался консул Аверин:
— Господин Смаглий, это рейс Аэрофлота, и пока мы вас торжественно не погрузим на борт, поверьте мне, самолет никуда не улетит.
Смаглий вздохнул и подергал свои никелированные оковы.
— Ладно, как говорили в старину — сходитесь, господа… Банкуйте, псы глоданые…
Я взял со стола протокол и стал громко, с выражением — чтобы доставить удовольствие Пимашу — читать по-французски. Коля Аверин быстро переводил на русский — для Смаглия и конвоя.
— По международному запросу Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Российской Федерации Интерполом был произведен в сотрудничестве с французской полицией оперативный розыск и арест российского гражданина Василия Смаглия, обвиняемого в незаконной деятельности на территории России, США, Греции, Германии и Израиля…
Смаглий перебил меня:
— Отец моего дружка Зиновия Каца с детства говорил ему: «Зямка, никогда не воруй! А станет невтерпеж — не попадайся!»
— Зря вы не послушались папашу Каца, — отвлекся я на мгновение и продолжил протокольное чтение -…По документам, представленным российскими властями, Смаглий обвиняется в участии в организованной преступной группировке, банковских аферах, позволивших ему вместе с соучастниками похитить восемьдесят шесть миллионов долларов США, в отмывании денег, уклонении от налогов и других преступлениях…
— Ребята, имейте совесть! — возник снова Смаглий. — Хоть чуточку, объедки какие-нибудь от Уголовного кодекса оставьте еще кому-то! А то — все мне!…
— Смаглий, не перебивай меня, добром прошу, — сказал ему негромко. И конечно, Пимашу сразу же забухтел под руку:
— Что говорит арестованный?
— Господин Смаглий все время задает мне внепроцессуальные вопросы. Я полагаю, обсуждать их сейчас несвоевременно. Можно продолжать?
— О да, конечно!
— …Французские власти, рассмотрев представленные документы, сочли возможным для дальнейшего детального и продуктивного следствия экстрадировать Василия Смаглия в Россию, где арестованный обвиняется в совершении наиболее значительных, базовых преступлений…
Я посмотрел в прозрачные глаза Смаглия и спросил официально:
— Вам содержание протокола понятно? Тогда поедем домой, на родину…
Смаглий кивнул, задумался и вдруг громко запел старую песню Игоря Шаферана:
«О воздух родины — он особенный, не надышишься им…»
Я махнул на него рукой и повернулся к французам:
— Господа, арестованный Смаглий идентифицирован по имени, документам, внешности, соответствию возрасту, дактилоскопическим отпечаткам и описанию татуировок на теле. Ему объявлен состав инкриминируемых преступлений и сообщено о выдаче властям России. Прошу всех официальных лиц подписать протокол…
И пошла писать парижская губерния: сначала, естественно, французы — человек пять, потом консул Аверин, старший группы конвоя майор милиции Котов, а последним — я. И, словно дождавшись этого великого мига, радио объявило о завершении посадки на рейс «Париж — Москва».
Я спросил у старшего конвойного Котова:
— Наручники?
Милиционер достал из кармана и протянул мне наручники. Смаглий, с интересом следивший за нашими маневрами, удивился — Зачем? Этого мало? — Он поднял скованные руки.
Я взял у французского детектива ключ, снял со Смаглия наручники, а майор Котов ловко застегнул на запястьях Смаглия свои — наши нормальные, добротные, отечественные ручные хомуты. Я отдал французу его имущество, пояснив недоумевающему арестанту:
— Это служебный инвентарь. На его материальном учете. Надо вернуть, а то он с бухгалтерией не расплюется.
— Это ж надо! — Смаглий от души расхохотался — Вот гандоны штопаные — мелочной народ!
Я легонько похлопал его по спине:
— Понимаю, все понимаю — в твоем прикиде надо щеголять во французских браслетах. Но ты уж терпи, привыкать надо. Клифт на зоне — это тоже не «Версаче»! — И аккуратно стряхнул несуществующую пыль с лацкана его шикарного пиджака.
— Не срамись, земляк, — снисходительно усмехнулся Смаглий. — «Версаче» не употребляю. Это — «Валентино»! Почувствуйте разницу…
— Ну-у, тогда совсем другой коленкор, — серьезно согласился я.
Бесконечный сводчатый туннель, по которому горизонтальный эскалатор — движущийся тротуар — неспешно вез нашу конвойную процессию от аэровокзала к терминалу посадки в самолет. В мягком полумраке вспыхивала и гасла нескончаемая череда реклам, предлагающих нам все радости мира. Я смотрел на своих спутников — их лица от этих вспышек то ярко озарялись, то глухо меркли, и от этого монотонного, как бы праздничного мерцания возникало ощущение тревоги и напряжения. Я закрыл глаза и пытался вспомнить, вновь озвучить золотую мелодию Чарли Паркера — и не мог.
Наверное, потому что не мог выгнать из памяти то телячье-счастливое чувство восторга, надежды, ожидания чуда, которое я испытывал на этом эскалаторе давным-давно, когда ехал на нем впервые В обратном направлении — из самолета в аэропорт. В Париж.
А сейчас из всего этого пиршества чувств, оргии предлагаемых радостей, огромной карточной сдачи жизни остался у меня на руках нарядный валет в наручниках, самая младшая карта из разбросанной по столу судьбы крапленой колоды. Консул Аверин деликатно постучал меня пальцем по плечу:
— Сергей Петрович, а вы-то зачем летите?
— Понятия не имею. Замминистра телеграмму прислал — срочно прибыть…
— А вы разве подчинены Москве? — удивился Аверин.
— Нет, — ухмыльнулся я. — Но в министерстве этого не знают или не помнят. И строго приказывают.
— А вы?
— А я выполняю. Международный чиновник — работа временная…
В полупустом салоне первого класса я усадил Смаглия в предпоследнем ряду, к стенке, у иллюминатора, а сам уселся рядом, в кресле у прохода.
А тут и радиотрансляция включилась, стала рассказывать приятное:
— Уважаемые пассажиры! Наш самолет «Ил-86» совершает полет по маршруту Париж — Москва на высоте десять тысяч метров Температура за бортом минус 56 градусов. Расчетное время прибытия в аэропорт Шереметьево — 20 часов 40 минут по московскому времени. Табло «не курить» погасло, вы можете отстегнуть привязные ремни и откинуть спинки в удобное вам положение. Сейчас бортпроводники предложат вам напитки и обед. Желаем вам приятного полета…
Смаглий толкнул меня плечом в плечо:
— Если не снимете браслеты, я не смогу отстегнуть привязные ремни…
— Ну и что будет?
— Как что? — удивился Смаглий. — Я ведь нарушу правила Аэрофлота. А для меня нарушать правила — боль сердечная, мука совести. Будь человеком, отомкни эту гадость, избавь от душевных страданий.
Я усмехнулся:
— Ага! Я тебя отстегну, а ты безобразничать начнешь…
— Господин криминальный начальник! Смеетесь над униженным и оскорбленным? Я что — с дуба екнулся? Под нами десять километров! Можно сказать, Марракотова бездна! Даю слово почетного потомственного миллионера! А оно, как золото, нетленно.
Я обернулся к сидящему позади нас майору Котову:
— Дай ключ…
Котов слышал наш разговор, неодобригельно покачал головой и, протягивая ключ, недовольно спросил:
— А если этот сраный миллионер станет выдуриваться здесь?
— Слушай, друг, долбанный по голове, мне что — жить надоело? — горячо вступил Смаглий. — Ты пойми — я жить ужасно люблю…
— Ну да! — хмыкает Котов — То-то подсчитали, срок жизни нового русского — тридцать четыре года.
— Может быть! — согласился Смаглий. — Значит, у меня еще три года в запасе. А потом на сверхсрочную останусь…
Я расстегнул наручники, и Смаглий с облегчением затряс затекшими кистями, потом наклонился ближе ко мне и громким театральным шепотом сообщил:
— Командир, ты расскажи своему цепному… Тот умник, что считал мне короткий срок, давно умер от голода.
Я откинулся на кресле, прикрыл глаза от слепящего солнечного света.
Пассажиры в правой стороне салона уже дремали, нацепив на глаза черные тряпичные очки из сувенирного бортового пакета. Мне было жутковато смотреть на них — будто компания несчастных безглазых слепцов сняла для увеселительного путешествия первый класс. Черные наглазники на безвольных, расслабленных лицах спящих людей…
Когда-то, ужасно давно, у нас выступал в университете слепой поэт Эдуард Асадов. У него были на лице вот такие черные тряпочные очки-повязки. Читал он страстно, с выражением и жестикуляцией — о весне, о зеленых листьях, о любви. Черные диски вместо глаз были неподвижны, без дна, без надежды. Как мгла направленной на тебя двустволки. Я не мог собраться, вслушаться, понять — я только смотрел в ужасные черные диски на лице.
Мои попутчики надели черные наглазники и нырнули в темноту. Может быть, во сне они видели весну, листву, баб?
Я посмотрел на их лица и решил, что скорее всего им видятся в темноте бабки…
Из кармана на спинке переднего сиденья я достал несколько ярких цветных журналов. С обложки «Коммерсантъ-Деньги» мне улыбался, осторожно и насмешливо, Сашка. Хитрый Пес. Я слышал, что он стал очень крутым. Но не настолько? Поперек обложки размашистый заголовок: "Александр Серебровский: «Олигархи нужны России!»
Молодой человек в стильных золотых очечках смотрел на меня с выражением «я вам всем цену знаю». В школьных учебниках в таких маленьких очках с тоненькой оправой щеголяли демократы-разночинцы — полоумный Чернышевский Николай Гаврилович и Добролюбов, уж не помню, как его там по батюшке, которых зачем-то разбудил Герцен.
Я стал листать журнал, чтобы узнать, зачем нужны России олигархи, — может, они тоже кого-то собираются будить, но Смаглий сказал мне:
— Давай расскажу анекдот…
— Можно, — согласился я. — Слушай, а ты чего так веселишься? Сидеть придется крепко.
— Не факт! — уверенно ответил Смаглий. — За деньги сел, за деньги выйду… Так вот, встречает еврей нового русского…
Но досказать анекдот ему не удалось, потому что около нас остановилась стюардесса с тележкой-баром:
— Что будут пить господа? Мы предлагаем вам водку, коньяк, виски, джин, вино, шампанское…
Смаглий мгновенно отозвался:
— Красавица! Обласкай джин-тоником. С «Бифитером»…
Котов за нашей спиной от возмущения вздыбился:
— Отставить! Арестованным спиртное запрещено!
Смаглий обернулся к нему, печально покачал головой:
— Эх, майор! Не бывать тебе генералом… Мыслишь мелко, конвойно…
— Это почему?
— По кочану! И по кочерыжке! Если бы ты не залупался, не портил жизнь людям, так бы мы и летели над миром — с девочками, с семгой, пьем, жрем, пока жопа не треснет. Это же первый класс! Но ты привык к «вагонзаку» — езжай не пивши…
— Ты, что ли, запретишь? — зло вперился в него майор и встал с места.
— Я? Упаси Господь! — Смаглий прижал руки к сердцу и огорченно поведал: — Устав. Устав конвойной и караульной службы. Там конвою допрежь арестантов запрещено спиртное. «Ваша служба и опасна и вредна» — помнишь такую песню?
— Трудна… — поправил Котов. — Трудна наша служба. С такими обормотами…
— Это точно! Представь морду надзирающего прокурора, когда он узнает, что меня — особо опасного! — вдрызг пьяный конвой вез. Я ведь мог захватить самолет и угнать на Занзибар…
— На Магадан! — вмешался я. — На Занзибар не выйдет, а на Магадан можешь попробовать. — И, вздохнув, сказал стюардессе: — К сожалению, здесь до противного непьющая компания. Обойдемся кока-колой и минералкой…
Спорить с ним бессмысленно, как забивать лбом гвозди. Да и вообще разговаривать неохота. Жестяной пузырь машины был заполнен щемящей золотой песней саксофона Птицы Чарли Паркера, протяжной, сладкой, плотной, как облако из сливочного мороженого.
Через окно я рассматривал скачущее отражение нашей машины в зеркальных витринах — черный юркий «ситроен» с проблесковым синим фонарем на крыше.
Его тревожный пульсирующий свет был неуместен в этом мягком воскресном утре, еще не увядшем от подступающей жары, от потной людской суеты, не задушенном синеватым угаром автомобильного дыма.
— Я не хитрый, — ответил я Флэнагану, когда мы выскочили на набережную и погнали по правому берегу. — Я задумчивый. По-русски это называется «мудак»…
— Правда? — переспросил на всякий случай Пит, хотя ему было все равно.
— Абсолютно, — заверил я серьезно. — Так и запомни: захочешь русскому сказать приятное, смело говори: вы, мол, месье, мудак… Это русский эвфемизм понятия «доброжелательный задумчивый мудрец».
— Запомню, — пообещал Флэнаган и повторил вслух:
— Мьюдэк…
— Во-во! Так и говори.
Слева над рекой торчала Эйфелева башня, на которой полыхало неживыми белыми сполохами электрическое табло — «До 2000 года осталось 534 дня».
И что? Что теперь делать?
Воздетый в безоблачное голубое небо, фигурно скрученный железный перст торжественно и грозно предупреждал ни о чем — если бы там, в туманном небытии, через 534 дня должно было что-то случиться, от нас бы это тщательно скрыли. Мы живем в замечательное время, когда никого ни о чем заранее не предупреждают. А раньше нешто предупреждали? Разве что пророки о чем-то жалобно просили народы. Да кто же их когда слушал? Интернета тогда на нашу голову не было.
— Пит, ты знаешь, что через 534 дня наступит новый век? — спросил я Флэнагана.
— А ты что, считал их? — усмехнулся Пит.
— Нет, я в управлении разведки подсмотрел секретный доклад — они предполагают, что это достоверная цифра. Ну, может быть, 536… Это ведь никогда до конца не ясно…
— Угу, — кивнул серьезно Флэнаган. — Скорее бы…
— А что случится?
— На пенсию можно будет уйти Надоела мне наша собачья работа, — равнодушно сказал Пит.
— Да брось ты! Всякая работа — собачья. Не собачий только отдых, — глубокомысленно заметил я. — Но отдыхать все время нельзя.
— Это почему еще? — искренне удивился Пит.
— Отдых превратится в работу. Будешь мне жаловаться: надоел мне этот собачий отдых…
— Дурачок ты, — усмехнулся Пит. — Молодой еще…
Мы уже проехали Дефанс, миновали громаду Большого стадиона, сквозанули на оторут 9 — в сторону аэропорта Шарля де Голля. И от этой утренней воскресной пустоты, от желто-голубого света, окутывающего город золотистой дымкой, от печально-сладкой музыки Чарли Паркера, от никнущей малахитовой зелени бульваров охватывало меня чувство щемящей грусти, смутного ощущения прощания, разлуки надолго, может быть, навсегда.
— Что будешь на пенсии делать, Пит?
— Жена присмотрела домик в Провансе. Там и осядем, наверное…
— А домой, в Шотландию, не тянет?
Флэнаган пожал плечами:
— Там уже нет моего дома… Там — скромный риэлэстейт. Старики умерли, ребята выросли, разъехались. Приятелей встречу на улице — не узнаю…
— Тогда покупай в Провансе, — разрешил я. — Буду к тебе наезжать, съездим в Грасс, там дом Бунина…
— Какой-нибудь новый русский?
— Нет, это очень старый русский…
— Богатый? — поинтересовался Пит.
— Умер в нищете.
— Странно, — покачал головой Пит. — Я не видел во Франции бедных русских.
— Оглянись вокруг. Вот я, например…
— Потому что ты — доброжелательный мудрец, задумчивый мьюдэк, — утешил Пит.
— Вот это ты очень правильно заметил, — охотно подтвердил я.
Город уплывал вместе с волшебной мелодией Паркера, которую почти совсем задушил, измял, стер тяжелый басовитый рык турбин взлетающих и садящихся самолетов. Индустриально-трущобная пустыня предместья, нахально рядящаяся под пригород Парижа.
— Я хочу рассказать тебе смешную историю, Пит…
Флэнаган, не отрывая взгляда от дороги, благодушно кивнул, наверное, сказал про себя по-английски: мол, валяй, мели, Емеля…
— Я в школе ненавидел учебу…
— Да, ты мало похож на мальчика-отличника, — сразу согласился Пит.
— На всех уроках я читал… Закладывал под крышку парты книгу — и насквозь с первого урока до последнего звонка. У меня не хватало времени даже хулиганить.
— Много упустил в жизни интересного, — заметил Флэнаган.
— Наверное. Я был заклятый позорный троечник — я никогда не делал домашних заданий и отвечал только то, что краем уха услышал на занятиях, читая под партой книгу. На родительских собраниях классная руководительница Ираида Никифоровна…
— Только у поляков такие же невыносимые имена, как у вас, — сказал Флэнаган.
— Не перебивай! Моя классная руководительница говорила маме: у вас мальчик неплохой, но очень тупой. Тупой он у вас! Тупой…
— Dumb? — переспросил Пит.
— Yes! Dumb, bone head — костяная голова, тупой! Флэнаган захохотал.
— Вот ты, дубина, смеешься, а мама, бедная, плакала. Спрашивала растерянно учительницу: почему? Почему вы говорите, что он такой тупой? А Ираида Никифоровна ей твердо отвечала: это у вас с мужем надо спрашивать, почему у вас сын такой тупой!
Флэнаган взял со щитка голубенькую пачку «Житан», ловко выщелкнул сигарету, прикурил. Прищурившись, выпустил тонкую, острую струю дыма, покачал головой и сказал решительно:
— Это невеселая история, она мне не нравится…
— У вас, шотландцев, ослаблено чувство юмора… Машина начала с мягким рокотом взбираться на спиральный подъездной пандус аэропорта.
— Это веселая история, — упрямо сказал я.
— Наверное, у вас, русских, действительно усилено чувство юмора, — пожал плечами Флэнаган.
— Ага! Как рессоры на вездеходе. Иначе не доедешь…
— По-моему, доехали, — сказал Пит, притормаживая у служебного входа.
Я взял с заднего сиденья свою сумку и повернулся к Флэнагану:
— Я рассказал тебе веселую историю. И для меня важную…
— Почему?
— Одна знакомая встретила недавно эту учительницу — Ираиду Никифоровну. Двадцать лет прошло — она старая стала, сентиментальная, все расспрашивала о наших ребятах, у кого что получилось, как жизнь сложилась. И моя знакомая по дурости сказала, что самая яркая, неожиданная судьба вышла у меня. Классная руководительница послушала ее, послушала обо всех моих прыжках и ужимках, вздохнула и подвела итог: «Как все-таки несправедлива жизнь. Ведь такой тупой мальчик был!»
Флэнаган открыл бардачок, достал плоскую фляжку и протянул мне:
— Возьми… Может, пригодится, это хороший деревенский бренди.
— Спасибо, друг…
Я приспособил фляжку в кармане куртки, хлопнул Пита по плечу и вылез из машины. Он наклонился к двери, опустил стекло и сказал:
— Это была невеселая история…
— Нет, это была веселая история, Пит. Просто мы с тобой догадались, что старая карга была права… Пока, дружище! — махнул рукой и, не оборачиваясь, пошел в аэровокзал.
«Ситроен» с резиновым колесным визгом погнал прочь, беззвучно разъехались стеклянные двери передо мной, и я вошел внутрь праздника.
Удивительное гульбище, полное света, музыки, вкусных запахов, веселой и тревожной беготни, экзотических пассажиров — каких-то полуодетых ликующих негров и растерянных заблудившихся шикарных господ. Я вошел в атмосферу звонкого и чуть испуганного ожидания смены воздушной и земной стихий, мелькания реклам, внушительной зовущей неподвижности огромных биллбордов, восторженного удивления от нескончаемого путешествия в прозрачных трубах стеклянных эскалаторов. А закончился праздник у дверей полицейского офиса, где усатый жандарм в опереточной форме спросил меня вполне драматическим тоном:
— Что вам угодно, месье?
— Я — старший офицер Интерпола Сергей Ордынцев, — и протянул ему удостоверение. Жандарм долго внимательно рассматривал коричневую кожаную книжечку, перевел суровый взгляд с фотографии на меня, скромного предъявителя, снова посмотрел на фото и, к моему удивлению, все-таки возвратил ксиву.
— Да, месье Ординсефф, вас уже ждут…
В офисе было полно народу — полицейские в форме, детективы в цивильном, клерки из министерства юстиции, российский консул Коля Аверин и еще четверо русских. Трое из них, несмотря на вполне приличные недорогие костюмы тайваньского или турецкого производства, мгновенно опознавались.
Как русские, во-первых, и как менты — во-вторых. С толстыми буграми подмышечных кобур под пиджаками. Русские — в смысле бывшие советские. Дело, наверное, не в национальности.
Русский или татарин, вотяк или еврей — мы не растворяемся в европейском людском месиве. Будто пятая человеческая раса, существуем от других наособицу и отличимы от всех иных так же явственно, как белые, черные, желтые и краснокожие народы. Вот будет для будущих антропологов и этнографов загадочка — почему? В чем генетическая разница? Настороженное выражение лица? Колющий взгляд, исподлобья, в сторону — испуганный и атакующий одновременно? Не знаю. Никто не понимает. Я узнаю земляков в толпе даже со спины. По походке? У нас особенная стать? Бомжи и миллионеры, профессора и воры, молодцы и дедушки несут в себе незримую, но отчетливую общность, которую ученые дураки из Гарварда назвали бы наследственной ментальностью зеков.
Мы все — выброшенная в мир мутация пожизненных арестантов. А, пустое! Не о чем и незачем думать. Все то, что не огонь — то прах…
А вот четвертый русский был красавцем — настоящий валет из карточной колоды. Изящным взмахом головы откидывая назад шикарную гриву волос, молодой русый валет в пиджаке нежно-сливочного цвета, шелковой светло-голубой рубашке, широковатых элегантных трузерах, башмаках «Балли» и скромно поблескивающих на запястьях наручниках, он доброжелательно и снисходительно улыбался всем нам, суетливой толпе стрюцких.
Консул с распаренным бабьим лицом бросился мне навстречу:
— Сергей Петрович, мы уже волновались…
— Зря, — усмехнулся я и небрежно-значительно наврал:
— Я никогда и никуда не опаздываю…
Поздоровался с французами, и в затхлой атмосфере полицейского участка еще долго летали, легкие и стрекочущие, как стрекозы, — «бонжур»… «коман сова?»… «рьен»… «бьен»… пока я не разрушил эту обстановку общей приятности:
— Господа, протокол экстрадиции арестованного готов. Согласны ли вы провести процедуру идентификации арестанта для передачи его российскому конвою?
— Да, французские власти завершили свою работу, — торжественно сообщил Пимашу, старший советник министерства юстиции, любезный прохвост и сука невероятная. Ведро крови из меня выцедил.
Я повернулся к красавцу валету и попросил душевно:
— Встаньте, пожалуйста, и назовите внятно свое имя.
Роскошный валет, весь нарядно-ярко-красочный, будто только что сброшенный из новой хрусткой атласной колоды, встал и, так же любезно улыбаясь в элегантные блондинистые усики, сообщил:
— Меня зовут Смаглий Василий Никифорович, я гражданин России…
Пимашу, не понимающий по-русски и от этого особенно переживающий, что мы можем сговориться хоть и в его присутствии, но как бы в то же время за его спиной, перебил незамедлительно:
— Смаглий — это имя или фамилия?
Я постарался успокоить его:
— Смаглий — фамилия арестованного, его первое имя Василий. Это все есть в бумагах.
— Спасибо, — сказал Пимашу с озабоченным лицом, — у русских такие сложные имена.
— У поляков еще хуже, — патриотически заметил я.
А Смаглий учтиво кивнул и, глядя в упор наглыми синими глазами, молвил:
— Возвращаясь к тому месту, где этот козел меня бестактно перебил… — он кивнул в сторону старшего советника, — хочу подтвердить, что я являюсь гражданином России. Пользуясь присутствием здесь нашего консула, заявляю категорический протест в связи с моим незаконным задержанием грязной французской полицейщиной.
Смаглий сделал вдох, как певец на подъеме тона, и воздел над головой скованные наручниками длани.
— Я требую присутствия свободной прессы! Пусть она донесет из этих мрачных застенков мой гневный голос до сведения мировой прогрессивной общественности. И правозащитников из «Амнести интернэшнл».
— Все понял, — согласился я. — Консул Российской Федерации господин Аверин сделает соответствующую запись в протоколе экстрадиции. А в прессе я вам должен отказать.
— А почему? Боитесь? — захохотал Смаглий, как моложавый упырь над ангелицей.
— Что он говорит? — сразу возник Пимашу. — Почему арестованный веселится?
— Арестованный не веселится. Он обсуждает со мной второстепенные процедурные вопросы, — заверил я советника юстиции и сказал арестанту:
— Слушай, Смаглий, хватит дурочку по полу катать. Запомни, я ничего не боюсь. Я опасаюсь…
— Чего?
— Что тебе пресса навредит только. Для тебя сейчас — чем тише, тем спокойнее. А еще я опасаюсь, что ты меня держишь за дурака и тянешь резину. Надеешься опоздать на этот рейс?
— А чего спешить? — засмеялся Смаглий. — Я что, завтра в Бутырки опоздаю?
Тут очень уместно вмешался консул Аверин:
— Господин Смаглий, это рейс Аэрофлота, и пока мы вас торжественно не погрузим на борт, поверьте мне, самолет никуда не улетит.
Смаглий вздохнул и подергал свои никелированные оковы.
— Ладно, как говорили в старину — сходитесь, господа… Банкуйте, псы глоданые…
Я взял со стола протокол и стал громко, с выражением — чтобы доставить удовольствие Пимашу — читать по-французски. Коля Аверин быстро переводил на русский — для Смаглия и конвоя.
— По международному запросу Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Российской Федерации Интерполом был произведен в сотрудничестве с французской полицией оперативный розыск и арест российского гражданина Василия Смаглия, обвиняемого в незаконной деятельности на территории России, США, Греции, Германии и Израиля…
Смаглий перебил меня:
— Отец моего дружка Зиновия Каца с детства говорил ему: «Зямка, никогда не воруй! А станет невтерпеж — не попадайся!»
— Зря вы не послушались папашу Каца, — отвлекся я на мгновение и продолжил протокольное чтение -…По документам, представленным российскими властями, Смаглий обвиняется в участии в организованной преступной группировке, банковских аферах, позволивших ему вместе с соучастниками похитить восемьдесят шесть миллионов долларов США, в отмывании денег, уклонении от налогов и других преступлениях…
— Ребята, имейте совесть! — возник снова Смаглий. — Хоть чуточку, объедки какие-нибудь от Уголовного кодекса оставьте еще кому-то! А то — все мне!…
— Смаглий, не перебивай меня, добром прошу, — сказал ему негромко. И конечно, Пимашу сразу же забухтел под руку:
— Что говорит арестованный?
— Господин Смаглий все время задает мне внепроцессуальные вопросы. Я полагаю, обсуждать их сейчас несвоевременно. Можно продолжать?
— О да, конечно!
— …Французские власти, рассмотрев представленные документы, сочли возможным для дальнейшего детального и продуктивного следствия экстрадировать Василия Смаглия в Россию, где арестованный обвиняется в совершении наиболее значительных, базовых преступлений…
Я посмотрел в прозрачные глаза Смаглия и спросил официально:
— Вам содержание протокола понятно? Тогда поедем домой, на родину…
Смаглий кивнул, задумался и вдруг громко запел старую песню Игоря Шаферана:
«О воздух родины — он особенный, не надышишься им…»
Я махнул на него рукой и повернулся к французам:
— Господа, арестованный Смаглий идентифицирован по имени, документам, внешности, соответствию возрасту, дактилоскопическим отпечаткам и описанию татуировок на теле. Ему объявлен состав инкриминируемых преступлений и сообщено о выдаче властям России. Прошу всех официальных лиц подписать протокол…
И пошла писать парижская губерния: сначала, естественно, французы — человек пять, потом консул Аверин, старший группы конвоя майор милиции Котов, а последним — я. И, словно дождавшись этого великого мига, радио объявило о завершении посадки на рейс «Париж — Москва».
Я спросил у старшего конвойного Котова:
— Наручники?
Милиционер достал из кармана и протянул мне наручники. Смаглий, с интересом следивший за нашими маневрами, удивился — Зачем? Этого мало? — Он поднял скованные руки.
Я взял у французского детектива ключ, снял со Смаглия наручники, а майор Котов ловко застегнул на запястьях Смаглия свои — наши нормальные, добротные, отечественные ручные хомуты. Я отдал французу его имущество, пояснив недоумевающему арестанту:
— Это служебный инвентарь. На его материальном учете. Надо вернуть, а то он с бухгалтерией не расплюется.
— Это ж надо! — Смаглий от души расхохотался — Вот гандоны штопаные — мелочной народ!
Я легонько похлопал его по спине:
— Понимаю, все понимаю — в твоем прикиде надо щеголять во французских браслетах. Но ты уж терпи, привыкать надо. Клифт на зоне — это тоже не «Версаче»! — И аккуратно стряхнул несуществующую пыль с лацкана его шикарного пиджака.
— Не срамись, земляк, — снисходительно усмехнулся Смаглий. — «Версаче» не употребляю. Это — «Валентино»! Почувствуйте разницу…
— Ну-у, тогда совсем другой коленкор, — серьезно согласился я.
Бесконечный сводчатый туннель, по которому горизонтальный эскалатор — движущийся тротуар — неспешно вез нашу конвойную процессию от аэровокзала к терминалу посадки в самолет. В мягком полумраке вспыхивала и гасла нескончаемая череда реклам, предлагающих нам все радости мира. Я смотрел на своих спутников — их лица от этих вспышек то ярко озарялись, то глухо меркли, и от этого монотонного, как бы праздничного мерцания возникало ощущение тревоги и напряжения. Я закрыл глаза и пытался вспомнить, вновь озвучить золотую мелодию Чарли Паркера — и не мог.
Наверное, потому что не мог выгнать из памяти то телячье-счастливое чувство восторга, надежды, ожидания чуда, которое я испытывал на этом эскалаторе давным-давно, когда ехал на нем впервые В обратном направлении — из самолета в аэропорт. В Париж.
А сейчас из всего этого пиршества чувств, оргии предлагаемых радостей, огромной карточной сдачи жизни остался у меня на руках нарядный валет в наручниках, самая младшая карта из разбросанной по столу судьбы крапленой колоды. Консул Аверин деликатно постучал меня пальцем по плечу:
— Сергей Петрович, а вы-то зачем летите?
— Понятия не имею. Замминистра телеграмму прислал — срочно прибыть…
— А вы разве подчинены Москве? — удивился Аверин.
— Нет, — ухмыльнулся я. — Но в министерстве этого не знают или не помнят. И строго приказывают.
— А вы?
— А я выполняю. Международный чиновник — работа временная…
В полупустом салоне первого класса я усадил Смаглия в предпоследнем ряду, к стенке, у иллюминатора, а сам уселся рядом, в кресле у прохода.
А тут и радиотрансляция включилась, стала рассказывать приятное:
— Уважаемые пассажиры! Наш самолет «Ил-86» совершает полет по маршруту Париж — Москва на высоте десять тысяч метров Температура за бортом минус 56 градусов. Расчетное время прибытия в аэропорт Шереметьево — 20 часов 40 минут по московскому времени. Табло «не курить» погасло, вы можете отстегнуть привязные ремни и откинуть спинки в удобное вам положение. Сейчас бортпроводники предложат вам напитки и обед. Желаем вам приятного полета…
Смаглий толкнул меня плечом в плечо:
— Если не снимете браслеты, я не смогу отстегнуть привязные ремни…
— Ну и что будет?
— Как что? — удивился Смаглий. — Я ведь нарушу правила Аэрофлота. А для меня нарушать правила — боль сердечная, мука совести. Будь человеком, отомкни эту гадость, избавь от душевных страданий.
Я усмехнулся:
— Ага! Я тебя отстегну, а ты безобразничать начнешь…
— Господин криминальный начальник! Смеетесь над униженным и оскорбленным? Я что — с дуба екнулся? Под нами десять километров! Можно сказать, Марракотова бездна! Даю слово почетного потомственного миллионера! А оно, как золото, нетленно.
Я обернулся к сидящему позади нас майору Котову:
— Дай ключ…
Котов слышал наш разговор, неодобригельно покачал головой и, протягивая ключ, недовольно спросил:
— А если этот сраный миллионер станет выдуриваться здесь?
— Слушай, друг, долбанный по голове, мне что — жить надоело? — горячо вступил Смаглий. — Ты пойми — я жить ужасно люблю…
— Ну да! — хмыкает Котов — То-то подсчитали, срок жизни нового русского — тридцать четыре года.
— Может быть! — согласился Смаглий. — Значит, у меня еще три года в запасе. А потом на сверхсрочную останусь…
Я расстегнул наручники, и Смаглий с облегчением затряс затекшими кистями, потом наклонился ближе ко мне и громким театральным шепотом сообщил:
— Командир, ты расскажи своему цепному… Тот умник, что считал мне короткий срок, давно умер от голода.
Я откинулся на кресле, прикрыл глаза от слепящего солнечного света.
Пассажиры в правой стороне салона уже дремали, нацепив на глаза черные тряпичные очки из сувенирного бортового пакета. Мне было жутковато смотреть на них — будто компания несчастных безглазых слепцов сняла для увеселительного путешествия первый класс. Черные наглазники на безвольных, расслабленных лицах спящих людей…
Когда-то, ужасно давно, у нас выступал в университете слепой поэт Эдуард Асадов. У него были на лице вот такие черные тряпочные очки-повязки. Читал он страстно, с выражением и жестикуляцией — о весне, о зеленых листьях, о любви. Черные диски вместо глаз были неподвижны, без дна, без надежды. Как мгла направленной на тебя двустволки. Я не мог собраться, вслушаться, понять — я только смотрел в ужасные черные диски на лице.
Мои попутчики надели черные наглазники и нырнули в темноту. Может быть, во сне они видели весну, листву, баб?
Я посмотрел на их лица и решил, что скорее всего им видятся в темноте бабки…
Из кармана на спинке переднего сиденья я достал несколько ярких цветных журналов. С обложки «Коммерсантъ-Деньги» мне улыбался, осторожно и насмешливо, Сашка. Хитрый Пес. Я слышал, что он стал очень крутым. Но не настолько? Поперек обложки размашистый заголовок: "Александр Серебровский: «Олигархи нужны России!»
Молодой человек в стильных золотых очечках смотрел на меня с выражением «я вам всем цену знаю». В школьных учебниках в таких маленьких очках с тоненькой оправой щеголяли демократы-разночинцы — полоумный Чернышевский Николай Гаврилович и Добролюбов, уж не помню, как его там по батюшке, которых зачем-то разбудил Герцен.
Я стал листать журнал, чтобы узнать, зачем нужны России олигархи, — может, они тоже кого-то собираются будить, но Смаглий сказал мне:
— Давай расскажу анекдот…
— Можно, — согласился я. — Слушай, а ты чего так веселишься? Сидеть придется крепко.
— Не факт! — уверенно ответил Смаглий. — За деньги сел, за деньги выйду… Так вот, встречает еврей нового русского…
Но досказать анекдот ему не удалось, потому что около нас остановилась стюардесса с тележкой-баром:
— Что будут пить господа? Мы предлагаем вам водку, коньяк, виски, джин, вино, шампанское…
Смаглий мгновенно отозвался:
— Красавица! Обласкай джин-тоником. С «Бифитером»…
Котов за нашей спиной от возмущения вздыбился:
— Отставить! Арестованным спиртное запрещено!
Смаглий обернулся к нему, печально покачал головой:
— Эх, майор! Не бывать тебе генералом… Мыслишь мелко, конвойно…
— Это почему?
— По кочану! И по кочерыжке! Если бы ты не залупался, не портил жизнь людям, так бы мы и летели над миром — с девочками, с семгой, пьем, жрем, пока жопа не треснет. Это же первый класс! Но ты привык к «вагонзаку» — езжай не пивши…
— Ты, что ли, запретишь? — зло вперился в него майор и встал с места.
— Я? Упаси Господь! — Смаглий прижал руки к сердцу и огорченно поведал: — Устав. Устав конвойной и караульной службы. Там конвою допрежь арестантов запрещено спиртное. «Ваша служба и опасна и вредна» — помнишь такую песню?
— Трудна… — поправил Котов. — Трудна наша служба. С такими обормотами…
— Это точно! Представь морду надзирающего прокурора, когда он узнает, что меня — особо опасного! — вдрызг пьяный конвой вез. Я ведь мог захватить самолет и угнать на Занзибар…
— На Магадан! — вмешался я. — На Занзибар не выйдет, а на Магадан можешь попробовать. — И, вздохнув, сказал стюардессе: — К сожалению, здесь до противного непьющая компания. Обойдемся кока-колой и минералкой…
