Страница:
– Мама! Ты что это?! Кушай! – встревожилась Наташа.
– Да-да… Сейчас… – Мать с трудом открыла глаза и принялась за еду.
Наташа и Тотик ели из одной миски. Жадно проглотив несколько ложек супу, Тотик уронил голову на плечо Наташи и заснул. Наташа оглянулась на сидящих рядом подруг. И у них слипались глаза. Наташа потянулась. Все тело ныло, настоятельно требовало покоя. Эх, лечь бы сейчас в этой теплой комнате и заснуть, заснуть!.. Все равно где, – пусть хоть на полу, пусть хоть под столом…
Но отдыхать долго не пришлось. Снова – дорога…
Сквозь черную тьму, сквозь бешеный ледяной ветер неслись вереницы машин с ярко светящимися фарами. Это были словно две светлые ленты, две извивающиеся линии огней; одни мчались туда, на «Большую землю», другие непрерывным потоком лились навстречу, и те и другие терялись где-то далеко-далеко в черной пустоте. И так странно было видеть эти дерзкие огни после строгого затемнения Ленинграда!
Ветер бушевал. Он свистел и выл, набрасывался как будто со всех сторон; иногда казалось, что он опрокинет машину. Девочки снова сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одеялом.
Наташу вдруг охватило какое-то, совсем особенное, непередаваемое состояние. Это было вроде бреда. Она отлично сознавала, что едет по льду Ладожского озера, что под ней глубокая-глубокая вода, а где-то, по обеим сторонам, совсем недалеко, фронт, немцы. Но ей вдруг представился какой-то огромный, страшный зверь, вроде тех драконов, каких она видела на картинках в сказках. Его необъятная пасть с острыми, хищными зубами широко раскрыта, но прямо в его нёбо вонзен штык; и держит этот штык ее папа, упираясь ногами в отвратительную отвислую губу чудовища. А рядом с ним Вася вонзает штык в нижнюю челюсть зверя – прямо под толстый высунутый язык. Извивается чудовище, в ярости бьет длинным чешуйчатым хвостом, но не закрыть ему пасти, – разомкнута она двумя надежными штыками…
Несколько секунд длилось это почти бредовое видение, и вдруг неистовый порыв ветра вырвал из рук Наташи и затрепал угол одеяла, и она снова увидела эту сверкающую непрерывную цепь огней.
Почем знать? Может быть, и правда, папа и Вася сейчас где-то тут, совсем близко от нее, не дают чудовищу сомкнуть свою подлую пасть.
– Наташка, холодно, лови одеяло! – крикнула Люся. – И чего мы сели? Давайте попробуем снова лечь.
С огромным усилием, борясь с ветром, который рвал с них одеяло, улеглись они на дне кузова. Борт немного защищал их от ветра.
– Мне кажется, мы никогда не приедем, – уныло сказала Катя. – Так и будем ехать и ехать без конца.
– Ой, не пугай! – вздохнула Люся.
Вдруг машина остановилась. Девочки прислушались. Стукнула дверка кабины, – видно, шофер вышел из нее. Гудел, шуршал чем-то ветер.
– Я выгляну! – Наташа выползла из-под одеяла, встала на коленки, держась за борт машины, и огляделась. Кругом была черная ночь и так же бушевал ветер и обжигал лицо. Наташа снова поспешила под одеяло.
– Ну что, Наташа?
– Ничего не видно, все машины стоят.
– Как страшно! – повторила Люся.
Они долго лежали молча, стараясь как можно плотнее прижаться друг к другу.
Кузов качнулся, и они услышали голос Жениха, старавшегося перекричать шум ветра:
– Мамаша, может, в кабину тебя взять? Потеснимся там как-нибудь!
– Нет, сынок, тут мне лучше. В кабине сидеть надо, а мне только бы лежать и лежать… Мне все дремлется…
– Ничего, скоро поправишься, мамаша!.. Ну, а вы? Живы? – И руки Жениха затрясли девочек сквозь одеяло.
– Живы! – три головы высунулись наружу. – Что случилось? Почему мы стоим?
– Обстрел впереди был, лед трещину дал, вот и стоим.
– Девятый километр! – с ужасом крикнула Люся.
– Эка вспомнила! То место давно позади.
– И что же теперь будет? – спросила Наташа.
– Дорожная бригада мост через трещину налаживает. Как закончат, так и поедем.
– А как там моя мама?
– Ничего, в порядке. Ну, прячьтесь, девчата, носы поотморозите. – И Жених выскочил из кузова.
– Девочки, вы подумайте, – проговорила Наташа, – на таком морозе мост строить… – Невольно вздрогнув, они еще теснее прижались друг к другу.
Когда Наташа проснулась и открыла глаза, было совсем темно. Рядом с ней ровно и глубоко дышала Люся. Все так же пахло овчиной, и снизу шло все такое же ласковое, мягкое тепло. Наташа с наслаждением потянулась и повернулась на бок. В темноте выделялись три ровных голубых квадрата. Наташа поняла, что это окна. Ей показалось, что она уже выспалась и больше не заснет. Ни о чем не думалось, было просто тихо, тепло, хорошо.
Она лежала и беспричинно улыбалась, и следила, как квадраты все голубели, как в комнате начинали смутно обозначаться предметы. Вот выделился стол. На нем огромный пузатый самовар. В углу кровать под пологом. На нее, наверно, положили маму с Тотиком. Как тихо! Только ровное дыхание спящих людей. Дверь в соседнюю комнату завешена светлой занавеской. А окна все голубее и голубее. Вот уже начинают вырисовываться на них морозные узоры.
И вдруг такая бурная, такая безудержная радость жизни охватила Наташу, что лежать больше было невтерпеж. Она порывисто села и тут только заметила, что спала нераздетая, – только шубку и валенки сняла. Вот все это лежит тут же, на печке.
Она так спешила, точно ей нужно было поспеть куда-то к сроку. Натянула валенки, надела шубку, шапочку и осторожно, изо всех сил стараясь не нашуметь слезла с печки. Дверь в сени скрипнула громко, и Наташа замерла, прислушалась. Нет, никто не проснулся. В темных сенях она ощупью отыскала дверь, отодвинула огромный деревянный засов и вышла на крыльцо.
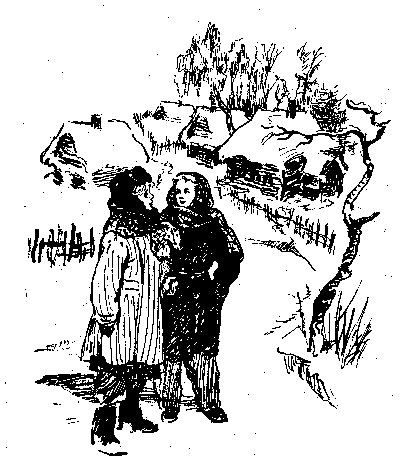 После духоты и тепла избы морозный воздух словно широкой струей ворвался в легкие, раздвигая грудную клетку. Уже заметно рассвело и все было ясно видно. Деревенская улица шла вдоль длинного холма. Прямо с крылечка открывался широкий вид на оснеженные поля, на леса, пушистые от инея. Избы тонули в сугробах; на крышах лежали высокие, круглые снежные шапки. При въезде в деревенскую улицу, словно два часовых, по обеим сторонам стояли две огромные березы. Кое-где над избами уже поднимались из труб тоненькие, прямые, как по линеечке, дымки.
После духоты и тепла избы морозный воздух словно широкой струей ворвался в легкие, раздвигая грудную клетку. Уже заметно рассвело и все было ясно видно. Деревенская улица шла вдоль длинного холма. Прямо с крылечка открывался широкий вид на оснеженные поля, на леса, пушистые от инея. Избы тонули в сугробах; на крышах лежали высокие, круглые снежные шапки. При въезде в деревенскую улицу, словно два часовых, по обеим сторонам стояли две огромные березы. Кое-где над избами уже поднимались из труб тоненькие, прямые, как по линеечке, дымки.
Тишина стояла такая, что Наташа слышала собственное дыхание. Она спустилась с крылечка и но тропочке вышла на совсем мало наезженную дорогу посреди улицы. Снег звонко скрипел под валенками. Где-то поблизости вдруг прокричал петух; ему сразу откликнулся второй, третий, четвертый; где-то замычала корова, заблеяли овцы, приглушенно донесся сердитый женский окрик – и снова тишина, тишина…
Наташа остановилась и оглянулась назад. Небо над горизонтом ярко розовело, и снег в той стороне был весь розоватый. Грудь глубоко вдыхала морозный воздух, глаза не могли оторваться от двух пушистых голубых берез.
И вдруг обе верхушки вспыхнули и стали ярко-розовыми. Наташа стояла словно зачарованная. Розовый блеск на верхушке берез спускался все ниже. Наташа снова оглянулась, – огромное совсем красное солнце уже наполовину вышло из-за горизонта, – и вот уже вся деревня словно ожила, залитая его яркими лучами. А внизу, за холмами, еще лежала голубая тень.
Заскрипел снег под быстрыми шагами, и под локоть Наташи просунулась рука. Наташа повернула голову.
– Катюшка! Хорошо как, правда?
– Хорошо!
Они почему-то говорили шепотом, словно боясь нарушить это торжественное безмолвие зимнего утра.
– Ты давно встала? – спросила Катя.
– Да, вышла, – еще только светало. Наши спят?
– Все спят. Только хозяйка встала, пошла корову доить.
– Тихо как… Катюшка, даже не верится…
– Да… Ни пальбы, ни свиста снарядов… А как-то там дедушка?.. доктор?.. – И Катя глубоко вздохнула.
Наташа зябко повела плечами.
– А мороз-то какой! Я замерзла… – прошептала она, – и, знаешь, снова спать захотелось.
– Да… И мне! Пойдем!
Держась за руки, они молча пошли домой.
Старушка хозяйка, мать Даши, увидев девочек, расплакалась.
– Родименькие мои, – запричитала она шепотом, – болезные вы мои, да на кого же вы похожи, бедняжечки? Неужто и моя Дашутка такая страшная?..
– Нет, – прошептала Наташа, – Даша ничего…
– Да чего вы это ранехонько вскочили, мои родименькие? Вам бы спать да спать… Приехали-то вчера, – наплакалась я, на вас глядючи. Ну-ко, полезайте снова на печку, дитятки вы мои…
– А мы и сами хотим, – сказала Катя и полезла на печку.
– Стойте-ко, стойте! – Старушка засуетилась. – Выпейте по кружечке молока парного. Еще тепленькое, душистое.
Девочки с наслаждением выпили парного молока. В избе было очень тепло, и после мороза их сразу разморило. Они забрались на печку и сразу заснули.
Когда Наташа снова проснулась и выглянула с печки, вся изба была залита солнцем. На столе кипел тот самый пузатый самовар, стояла тарелка с ржаными лепешками и горшок молока. За столом сидели хозяйка и Софья Михайловна с Тотиком на коленях и пили чай. Сбоку на лавке уселась немолодая женщина в полушубке и большом клетчатом платке на голове.
– Трудно, гражданочка дорогая, вот как нам сейчас трудно, – говорила она громким шепотом. – Одни бабы да старики да ребята малые остались. А был наш колхоз сильный, богатый. Не охота, чтоб в упадок пришел. А где же одним бабам управиться И дом, и ребята…
– А очаг и ясли у вас есть? – спросила Софья Михайловна.
– Какие там ясли! – женщина махнула рукой. – Кому за это взяться-то?..
– А вот погодите, дайте нам немного отдохнуть да подкрепиться, – весело заговорила Софья Михайловна. – Вон у меня три помощницы на печке спят…
Дальше Наташа не слышала; ее голова упала на подушку, и снова крепкий сон сковал ее.
Глава XVI
– Я открою, Яков Иванович, – услыхал он голос доктора. Щелкнул замок, и дверь широко раскрылась. Яков Иванович вошел. Доктор стоял перед ним с ярко горящей лучиной в руке. Пламя лучины колебалось, и по истощенному лицу доктора двигались резкие тени, но глаза сияли.
– Письмо?! – почему-то шепотом спросил Яков Иванович, хватая доктора за руку.
– Письмо. Все хорошо. Жених был тут. Он уже несколько рейсов сделал. Идемте скорей! – И доктор за руку потащил старого слесаря в комнату.
На столе горела коптилочка и освещала большой каравай деревенского хлеба и несколько листков исписанной бумаги.
– Хлеб! – Яков Иванович даже остановился; у него захватило дух при виде такого количества еды.
– Хлеба Жених привез, и круп, и картошки! – оживленно говорил доктор. – А главное – письмо! Письмо! Все здоровы. Тотик поправляется… Давайте читать!
– Будем есть и читать! – Старый слесарь засмеялся счастливым, срывающимся смехом и опустился на стул. – Где ножик? – Он окинул взглядом стол и, не найдя ножа, отломил от каравая кусок корявой корки.
– А ты еще не ел? – удивленно спросил он, жуя.
– Жених только что ушел, а я… все читал письмо, – оправдывающимся тоном возразил доктор, тоже отломил кусок хлеба и начал жадно есть.
– Сразу много не надо… а то заболеем… – произнес он с полным ртом. – Ну, давайте читать вместе.
Он сел рядом с Яковом Ивановичем и придвинул коптилочку.
– Все пишут вместе… Кроме Тотика, конечно, – пояснил он, аккуратно раскладывая исписанные разными почерками листки. – Надевайте очки.
И две головы, почти прижавшись друг к другу, склонились над письмом.
Письмо начиналось крупным, твердым и четким почерком Наташи:
Дальше шло несколько теплых, ласковых слов от Софьи Михайловны и целый список вещей, которые она просила прислать с Женихом.
Старики дочитали письмо до конца и, не сговариваясь, одновременно взяли первый листок и начали читать с начала.
Когда письмо было прочитано Яковом Ивановичем второй, а доктором неизвестно который раз, они оба взглянули друг на друга и счастливо засмеялись.
– Поправился Тотик. Ведь там ему и молочко, и яйца! – захлебываясь, говорил доктор.
– И блины! – прибавил Яков Иванович и причмокнул языком. Потом снова потянулся рукой к хлебу.
Доктор решительно отодвинул каравай.
– Довольно на сегодня, Яков Иванович, а то плохо будет.
– Ну ладно, – миролюбиво согласился старый слесарь. – Тебе и книги в руки. Потерпим до завтра.
– Завтра я вас буду ждать с готовым обедом. Сварю картошки и каши! – торжествующе заявил доктор. Он уже с неделю от слабости не мог ходить на работу и вел дома их нехитрое хозяйство.
– Э! Так у меня ноги сами домой побегут! – весело подмигнул ему слесарь.
– А помните Новый год? – спросил доктор.
– Помню! А как прибежал он тогда чуть ли не нагишом, «почему, – говорит, – меня не пригласили?»
– Да, да! Помните: «стланная селедка», «стланный сыл»?
– А девчонки-то переоделись тогда: догадайся кто – кто.
Снова смех.
– А помнишь…
Это был настоящий вечер воспоминаний. Еще долго-долго освещала коптилка две склоненных над письмом головы – одну лысую, другую – со спутанными и почерневшими от копоти седыми волосами.
Спать легли поздно. Укутываясь одеялом на широкой тахте, Яков Иванович сказал:
– Ну, доктор, нынче не будешь всю ночь ворочаться и вздыхать. Можно спокойно спать.
– Да, – отозвался доктор, – устал я сегодня.
– С радости, видимо, – засмеялся слесарь. – Ну, спи. – И он потушил коптилку.
В комнате стало тихо. Где-то далеко-далеко ухали пушки.
Яков Иванович, улыбаясь, поднялся по лестнице. Сегодня все было по-иному. Ключ в потемках сразу попал в замочную скважину, дверь, казалось, как-то особенно легко и поспешно открылась. Яков Иванович вошел.
В прихожей было темно и тихо. Старый слесарь ощупью пробрался через «классную», толкнул дверь в комнату. И в комнате было темно, тихо и холодно.
– Доктор! – растерянно позвал он.
Никто не отозвался.
 – Доктор? Ты где? – крикнул он громко.
– Доктор? Ты где? – крикнул он громко.
Тишина. Только тикают часы.
У Якова Ивановича задрожали руки. Он поспешно достал из кармана спички, чиркнул, зажег коптилочку на столе. Слабенький свет разлился по комнате. Доктор лежал на кровати в той же самой позе, в какой Яков Иванович оставил его спящим, уходя на работу. Он лежал на спине, слегка закинув голову назад. Лицо было спокойно; едва заметная улыбка приподнимала уголки губ.
– Доктор… да ты… что?.. – прошептал Яков Иванович, подошел к кровати и положил руку на высокий, открытый лоб доктора
И сразу инстинктивно отдернул ее, – ему показалось, что его ладонь коснулась мрамора.
– Э, да ты и остыл уж… – произнес он вполголоса и сел на кровать. – Эх, товарищ, товарищ, как же ты это так?.. Оставил меня одного… – В голосе его прозвучал искренний упрек.
Он встал, взял в руки коптилочку, снова сел на кровать и поднес свет к самому лицу доктора. Тени задвигались на мертвом лице, и яснее обозначилась улыбка.
– Улыбаешься? – тихо произнес Яков Иванович и сам болезненно улыбнулся. – Тревогу старое сердце выдерживало, а на радость сил-то уже не хватило… Ну, что же, спи, старый товарищ…
Он наклонился, поцеловал холодный лоб и на цыпочках вышел из комнаты.
Было очень тихо. От тишины и усталости шумело в ушах. Яков Иванович закрыл глаза. Ему показалось, что вот сейчас зазвенит смех девочек, затопают ножки Тотика, и милый голос Софьи Михайловны позовет:
– Яков Иванович, идите к нам посумерничать.
Он открыл глаза, улыбнулся.
– А все-таки это была квартира хороших людей, – произнес он вслух. И вдруг почти закричал:
– Какую жизнь разрушили, дьяволы чертовы! Ну, погодите же, будет и вам!!!
Он вышел на лестницу, захлопнул за собой дверь, повесил большой висячий замок, отнес ключи управдому и по пустынной заснеженной улице, сутулясь, побрел на свой завод.
Эпилог
Старик пришел по первому зову. Встреча была радостной и сердечной. На другой же день Яков Иванович переехал домой. Они одновременно послали вызов своим эвакуированным и стали вместе поджидать их, понемногу приводя квартиру в порядок. Вставили стекла, разнесли уцелевшую мебель по местам и, насколько возможно, постарались привести все в прежний вид. Комнаты покойного доктора были заняты военным, уехавшим в длительную командировку.
– Какой-то он будет, наш новый сосед? – озабоченно говорил Яков Иванович. – Придется ли «ко двору»?
– Ничего. Авось поладим, – улыбнулся Леонтий Федорович.
«Классную» тоже привели в прежний вид. Правда, стол и полки девочек были сожжены в блокаду, но уцелел стол из комнаты доктора, которым и заменили сожженный. На одну из стен повесили сохранившийся портрет жены доктора. Полочки, очень похожие на те, что были, Леонтий Федорович купил на рынке «Классная» стала совсем такою, как была.
И начались дни радостного и нетерпеливого ожидания. Вечерами Леонтий Федорович снова и снова заставлял Якова Ивановича рассказывать во всех подробностях о том, как они тут жили в блокаду, как справлялась с непосильной работой Софья Михайловна, как ей помогали девочки, как засыпало Люсю, как чуть не погиб от голода Тотик… Часто вспоминали доктора.
– Как, по-вашему, отчего же он все-таки умер? – спросил как-то Леонтий Федорович.
Яков Иванович вздохнул.
– Сказать вам правду, – пока наши были здесь, он почти ничего не ел. Все Тотику, все Тотику… Да и годы его немалые, он ведь много старше меня был. А как уехали все, он и вовсе ослабел. Тосковал очень. Все весточки ждал, – доехали ли?.. Я-то на работе с утра до ночи, и тревожиться некогда. А он дома. Весь день – думы да тревога А как пришли хорошие вести, – видно, старому сердцу-то и не под силу… Отказало: хватит, мол, с меня переживаний… Как уснул в ту ночь, так и не проснулся. И то ладно, что счастливым уснул…
– Милый доктор!.. – чуть слышно проговорил Леонтий Федорович и долго молчал.
Они вместе читали и перечитывали письма близких, которые оба бережно хранили. Яков Иванович без конца мог рассказывать о том, как героически работали его «ребята» на заводе и на «Дороге жизни» в немыслимых, нечеловеческих условиях. Жадно выспрашивал Леонтия Федоровича о боях, о фронтовой жизни, о его ранении, о взятии Берлина. Меньше всего рассказывали о самих себе, хотя каждый думал, слушая другое: «Чего же ты, брат, о собственном-то героизме умалчиваешь?»
Они часто – внешне спокойно – беседовали о победе и о том, что мы спасли от фашизма не только свою Родину, но и всю Европу. Но каждый знал, какой гордостью за свой народ переполнено сердце другого.
И как эти беседы обо всем – самом близком, самом дорогом – облегчали им дни ожидания встречи с любимыми!
– А мы теперь – лесенка, смотрите! – И Люся встала перед ним, подзывая Катю и Наташу.
– Взрослые девушки, – не без удивления произнес Леонтий Федорович.
Девочки встали рядом, сияющие и счастливые.
– Рассматривай, папка, – весело сказала Наташа.
Они действительно стояли лесенкой.
Больше всех выросла Люся. Очень высокая, широкоплечая, загорелая, с крупными руками и ногами, она казалась бы старше своих лет, если бы не прежняя ребячья мордашка с вздернутым носиком и большим веселым ртом.
Рядом с ней стояла Наташа. Она выросла меньше и доставала Люсе только до глаз. Леонтия Федоровича поразило лицо дочки. Черты лица стали более четкими, определенными, а глаза – живые и внимательные – глядели уже совсем по-взрослому. В них увидел он то решительное, упорное, немного даже озорное выражение, которое он так любил в жене.
Катя выросла еще меньше. Но изменилась она, пожалуй, больше всех. Она была все такой же тихенькой и скромной, но смотрела уже не исподлобья, как раньше, а высоко подняв голову, ясно и открыто, прямо в глаза собеседнику. В ней не оставалось и тени прежней, почти болезненной застенчивости.
– А где Тотик? Тотик! – Леонтий Федорович искал глазами сына.
Тотик оказался на балконе, где, перевесившись через перила, внимательно разглядывал улицу. Наташа взяла его за руку и подвела к отцу.
– Неужели это Тотик? – засмеялся Леонтий Федорович, привлекая к себе высокого, худенького мальчика. – Ну, что же ты молчишь? Я еще и голоса твоего не слыхал! Ты что, папы стесняешься?
– Да-да… Сейчас… – Мать с трудом открыла глаза и принялась за еду.
Наташа и Тотик ели из одной миски. Жадно проглотив несколько ложек супу, Тотик уронил голову на плечо Наташи и заснул. Наташа оглянулась на сидящих рядом подруг. И у них слипались глаза. Наташа потянулась. Все тело ныло, настоятельно требовало покоя. Эх, лечь бы сейчас в этой теплой комнате и заснуть, заснуть!.. Все равно где, – пусть хоть на полу, пусть хоть под столом…
Но отдыхать долго не пришлось. Снова – дорога…
* * *
Дорога! «Дорога жизни»!..Сквозь черную тьму, сквозь бешеный ледяной ветер неслись вереницы машин с ярко светящимися фарами. Это были словно две светлые ленты, две извивающиеся линии огней; одни мчались туда, на «Большую землю», другие непрерывным потоком лились навстречу, и те и другие терялись где-то далеко-далеко в черной пустоте. И так странно было видеть эти дерзкие огни после строгого затемнения Ленинграда!
Ветер бушевал. Он свистел и выл, набрасывался как будто со всех сторон; иногда казалось, что он опрокинет машину. Девочки снова сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одеялом.
Наташу вдруг охватило какое-то, совсем особенное, непередаваемое состояние. Это было вроде бреда. Она отлично сознавала, что едет по льду Ладожского озера, что под ней глубокая-глубокая вода, а где-то, по обеим сторонам, совсем недалеко, фронт, немцы. Но ей вдруг представился какой-то огромный, страшный зверь, вроде тех драконов, каких она видела на картинках в сказках. Его необъятная пасть с острыми, хищными зубами широко раскрыта, но прямо в его нёбо вонзен штык; и держит этот штык ее папа, упираясь ногами в отвратительную отвислую губу чудовища. А рядом с ним Вася вонзает штык в нижнюю челюсть зверя – прямо под толстый высунутый язык. Извивается чудовище, в ярости бьет длинным чешуйчатым хвостом, но не закрыть ему пасти, – разомкнута она двумя надежными штыками…
Несколько секунд длилось это почти бредовое видение, и вдруг неистовый порыв ветра вырвал из рук Наташи и затрепал угол одеяла, и она снова увидела эту сверкающую непрерывную цепь огней.
Почем знать? Может быть, и правда, папа и Вася сейчас где-то тут, совсем близко от нее, не дают чудовищу сомкнуть свою подлую пасть.
– Наташка, холодно, лови одеяло! – крикнула Люся. – И чего мы сели? Давайте попробуем снова лечь.
С огромным усилием, борясь с ветром, который рвал с них одеяло, улеглись они на дне кузова. Борт немного защищал их от ветра.
– Мне кажется, мы никогда не приедем, – уныло сказала Катя. – Так и будем ехать и ехать без конца.
– Ой, не пугай! – вздохнула Люся.
Вдруг машина остановилась. Девочки прислушались. Стукнула дверка кабины, – видно, шофер вышел из нее. Гудел, шуршал чем-то ветер.
– Я выгляну! – Наташа выползла из-под одеяла, встала на коленки, держась за борт машины, и огляделась. Кругом была черная ночь и так же бушевал ветер и обжигал лицо. Наташа снова поспешила под одеяло.
– Ну что, Наташа?
– Ничего не видно, все машины стоят.
– Как страшно! – повторила Люся.
Они долго лежали молча, стараясь как можно плотнее прижаться друг к другу.
Кузов качнулся, и они услышали голос Жениха, старавшегося перекричать шум ветра:
– Мамаша, может, в кабину тебя взять? Потеснимся там как-нибудь!
– Нет, сынок, тут мне лучше. В кабине сидеть надо, а мне только бы лежать и лежать… Мне все дремлется…
– Ничего, скоро поправишься, мамаша!.. Ну, а вы? Живы? – И руки Жениха затрясли девочек сквозь одеяло.
– Живы! – три головы высунулись наружу. – Что случилось? Почему мы стоим?
– Обстрел впереди был, лед трещину дал, вот и стоим.
– Девятый километр! – с ужасом крикнула Люся.
– Эка вспомнила! То место давно позади.
– И что же теперь будет? – спросила Наташа.
– Дорожная бригада мост через трещину налаживает. Как закончат, так и поедем.
– А как там моя мама?
– Ничего, в порядке. Ну, прячьтесь, девчата, носы поотморозите. – И Жених выскочил из кузова.
– Девочки, вы подумайте, – проговорила Наташа, – на таком морозе мост строить… – Невольно вздрогнув, они еще теснее прижались друг к другу.
* * *
Если бы много времени спустя девочек попросили подробно рассказать о том, как они приехали в деревню, – все три, вероятно, рассказали бы совсем по-разному. Все это было как во сне. Они смутно помнили, как их одну за другой кто-то вынимал из кузова и ставил на ноги и как затекшие ноги были словно деревянные; и кто-то вел их под руки в избу; и как старушечий голос причитал над ними, без конца повторяя жалостливые слова; и как они пили горячее, душистое топленое молоко и просили еще, но Софья Михайловна не позволяла; и как это молоко чудесным, бодрящим теплом разливалось по всему телу; и как они потом очутились все три рядышком на русской печке с мягкими подушками под головами; и пахло овчиной, и снизу снова вливалось в их тела волшебное тепло; и как им казалось, что они все еще едут на тряской машине, но это было недолго, потому что сон почти мгновенно сковал их.Когда Наташа проснулась и открыла глаза, было совсем темно. Рядом с ней ровно и глубоко дышала Люся. Все так же пахло овчиной, и снизу шло все такое же ласковое, мягкое тепло. Наташа с наслаждением потянулась и повернулась на бок. В темноте выделялись три ровных голубых квадрата. Наташа поняла, что это окна. Ей показалось, что она уже выспалась и больше не заснет. Ни о чем не думалось, было просто тихо, тепло, хорошо.
Она лежала и беспричинно улыбалась, и следила, как квадраты все голубели, как в комнате начинали смутно обозначаться предметы. Вот выделился стол. На нем огромный пузатый самовар. В углу кровать под пологом. На нее, наверно, положили маму с Тотиком. Как тихо! Только ровное дыхание спящих людей. Дверь в соседнюю комнату завешена светлой занавеской. А окна все голубее и голубее. Вот уже начинают вырисовываться на них морозные узоры.
И вдруг такая бурная, такая безудержная радость жизни охватила Наташу, что лежать больше было невтерпеж. Она порывисто села и тут только заметила, что спала нераздетая, – только шубку и валенки сняла. Вот все это лежит тут же, на печке.
Она так спешила, точно ей нужно было поспеть куда-то к сроку. Натянула валенки, надела шубку, шапочку и осторожно, изо всех сил стараясь не нашуметь слезла с печки. Дверь в сени скрипнула громко, и Наташа замерла, прислушалась. Нет, никто не проснулся. В темных сенях она ощупью отыскала дверь, отодвинула огромный деревянный засов и вышла на крыльцо.
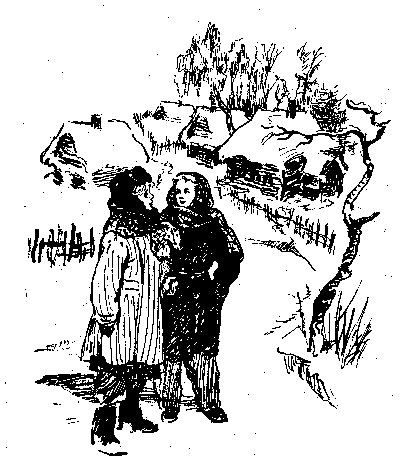
Тишина стояла такая, что Наташа слышала собственное дыхание. Она спустилась с крылечка и но тропочке вышла на совсем мало наезженную дорогу посреди улицы. Снег звонко скрипел под валенками. Где-то поблизости вдруг прокричал петух; ему сразу откликнулся второй, третий, четвертый; где-то замычала корова, заблеяли овцы, приглушенно донесся сердитый женский окрик – и снова тишина, тишина…
Наташа остановилась и оглянулась назад. Небо над горизонтом ярко розовело, и снег в той стороне был весь розоватый. Грудь глубоко вдыхала морозный воздух, глаза не могли оторваться от двух пушистых голубых берез.
И вдруг обе верхушки вспыхнули и стали ярко-розовыми. Наташа стояла словно зачарованная. Розовый блеск на верхушке берез спускался все ниже. Наташа снова оглянулась, – огромное совсем красное солнце уже наполовину вышло из-за горизонта, – и вот уже вся деревня словно ожила, залитая его яркими лучами. А внизу, за холмами, еще лежала голубая тень.
Заскрипел снег под быстрыми шагами, и под локоть Наташи просунулась рука. Наташа повернула голову.
– Катюшка! Хорошо как, правда?
– Хорошо!
Они почему-то говорили шепотом, словно боясь нарушить это торжественное безмолвие зимнего утра.
– Ты давно встала? – спросила Катя.
– Да, вышла, – еще только светало. Наши спят?
– Все спят. Только хозяйка встала, пошла корову доить.
– Тихо как… Катюшка, даже не верится…
– Да… Ни пальбы, ни свиста снарядов… А как-то там дедушка?.. доктор?.. – И Катя глубоко вздохнула.
Наташа зябко повела плечами.
– А мороз-то какой! Я замерзла… – прошептала она, – и, знаешь, снова спать захотелось.
– Да… И мне! Пойдем!
Держась за руки, они молча пошли домой.
Старушка хозяйка, мать Даши, увидев девочек, расплакалась.
– Родименькие мои, – запричитала она шепотом, – болезные вы мои, да на кого же вы похожи, бедняжечки? Неужто и моя Дашутка такая страшная?..
– Нет, – прошептала Наташа, – Даша ничего…
– Да чего вы это ранехонько вскочили, мои родименькие? Вам бы спать да спать… Приехали-то вчера, – наплакалась я, на вас глядючи. Ну-ко, полезайте снова на печку, дитятки вы мои…
– А мы и сами хотим, – сказала Катя и полезла на печку.
– Стойте-ко, стойте! – Старушка засуетилась. – Выпейте по кружечке молока парного. Еще тепленькое, душистое.
Девочки с наслаждением выпили парного молока. В избе было очень тепло, и после мороза их сразу разморило. Они забрались на печку и сразу заснули.
Когда Наташа снова проснулась и выглянула с печки, вся изба была залита солнцем. На столе кипел тот самый пузатый самовар, стояла тарелка с ржаными лепешками и горшок молока. За столом сидели хозяйка и Софья Михайловна с Тотиком на коленях и пили чай. Сбоку на лавке уселась немолодая женщина в полушубке и большом клетчатом платке на голове.
– Трудно, гражданочка дорогая, вот как нам сейчас трудно, – говорила она громким шепотом. – Одни бабы да старики да ребята малые остались. А был наш колхоз сильный, богатый. Не охота, чтоб в упадок пришел. А где же одним бабам управиться И дом, и ребята…
– А очаг и ясли у вас есть? – спросила Софья Михайловна.
– Какие там ясли! – женщина махнула рукой. – Кому за это взяться-то?..
– А вот погодите, дайте нам немного отдохнуть да подкрепиться, – весело заговорила Софья Михайловна. – Вон у меня три помощницы на печке спят…
Дальше Наташа не слышала; ее голова упала на подушку, и снова крепкий сон сковал ее.
Глава XVI
Старики читают письмо. На двери висит замок
Яков Иванович никак не мог в темноте попасть ключом в замочную скважину входной двери. Он еле стоял на ногах. За дверью раздались шаркающие шаги.– Я открою, Яков Иванович, – услыхал он голос доктора. Щелкнул замок, и дверь широко раскрылась. Яков Иванович вошел. Доктор стоял перед ним с ярко горящей лучиной в руке. Пламя лучины колебалось, и по истощенному лицу доктора двигались резкие тени, но глаза сияли.
– Письмо?! – почему-то шепотом спросил Яков Иванович, хватая доктора за руку.
– Письмо. Все хорошо. Жених был тут. Он уже несколько рейсов сделал. Идемте скорей! – И доктор за руку потащил старого слесаря в комнату.
На столе горела коптилочка и освещала большой каравай деревенского хлеба и несколько листков исписанной бумаги.
– Хлеб! – Яков Иванович даже остановился; у него захватило дух при виде такого количества еды.
– Хлеба Жених привез, и круп, и картошки! – оживленно говорил доктор. – А главное – письмо! Письмо! Все здоровы. Тотик поправляется… Давайте читать!
– Будем есть и читать! – Старый слесарь засмеялся счастливым, срывающимся смехом и опустился на стул. – Где ножик? – Он окинул взглядом стол и, не найдя ножа, отломил от каравая кусок корявой корки.
– А ты еще не ел? – удивленно спросил он, жуя.
– Жених только что ушел, а я… все читал письмо, – оправдывающимся тоном возразил доктор, тоже отломил кусок хлеба и начал жадно есть.
– Сразу много не надо… а то заболеем… – произнес он с полным ртом. – Ну, давайте читать вместе.
Он сел рядом с Яковом Ивановичем и придвинул коптилочку.
– Все пишут вместе… Кроме Тотика, конечно, – пояснил он, аккуратно раскладывая исписанные разными почерками листки. – Надевайте очки.
И две головы, почти прижавшись друг к другу, склонились над письмом.
Письмо начиналось крупным, твердым и четким почерком Наташи:
«Милые, дорогие наши доктор и Яков Иванович! Пользуемся случаем послать вам весточку о себе. Мы доехали очень хорошо, хотя дорога была трудная. Особенно когда ночью ехали по Ладожскому озеру. Был сильный мороз и ветер. Мама с Тотиком сидели в кабине. Тотик спал на руках у мамы, а мы втроем сжались вместе и с головой накрылись маминым пуховым одеялом. Но иногда выглядывали, и тогда было видно все кругом. По озеру несутся машины с яркими фарами, в обе стороны. Люся отнимает перо…»Дальше шли несколько убегающих кверху строчек с неровно глядящими в разные стороны буквами и без знаков препинания:
«Не понимаю как могла Наташа тогда видеть что-то! Было так ужасно-ужасно холодно и ужасно-ужасно хотелось спать, а когда я открывала глаза, они у меня сразу замерзали. Зато здесь так чудно-чудно!»Дальше снова почерк Наташи.
"Здесь, правда, чудно. В колхозе нас приняли очень хорошо. Мы живем у родных Даши; они все очень милые, и мы сдружились. Дружим мы и с нашей старушкой – матерью Жениха. В деревне совсем не осталось мужчин, все на фронте. Первым делом нас тут стали откармливать (тут снова Люсиным почерком вставлено: «и у нас всех сразу разболелись животы, но потом прошли и теперь мы здоровы»). Мама, – продолжала Наташа, – очень сошлась с председательницей колхоза и уговорила ее открыть детский сад и ясли.Дальше мазня, свидетельствующая о борьбе за перо, и несколько Люсиных строк совсем вкось:
В детском саду мама работает сама, а также руководит работой в яслях. Я помогаю маме только в детском саду, потому что не люблю самых маленьких, с ними возиться скучно. Люся опять отним…"
«Вот и неправда! Наши малыши – чудненькие! Мы с Катей их и кормим и купаем. Они такие уморительные…»Перо снова перешло к Наташе.
«А летом у нас будет свой огород, и мы все будем работать в колхозе. В школу мы не ходим. Здесь только начальная, а семилетка в другой деревне. Мы еще слабые, ходить далеко трудно. Этот год все равно для учебы пропал. Тотик в детском саду. Он снова стал прежним Тотиком, веселым и бойким, очень поправился, и все ребятишки любят играть с ним. Тотик все спрашивает: „Где же Гуливел?.. Когда он приедет?..“ Одно здесь плохо – мало книжек. Те, что нашлись в школе, я сразу прочитала. Пришлите нам с Женихом книг. Катя просит дать ей перо.»Дальше шли ровные, почти каллиграфические строчки Кати.
«Милые дедушка и доктор! Как вы живете? Мы постоянно вспоминаем вас и беспокоимся о вас. Дорогой дедушка, я очень соскучилась по тебе и все думаю, как ты там справляешься без меня? Мы так рады, что можем послать вам с Женихом немного продуктов. Кушайте и поправляйтесь, дорогие!»Читая Катины строки, старый слесарь вдруг крякнул и засопел носом.
Дальше шло несколько теплых, ласковых слов от Софьи Михайловны и целый список вещей, которые она просила прислать с Женихом.
Старики дочитали письмо до конца и, не сговариваясь, одновременно взяли первый листок и начали читать с начала.
Когда письмо было прочитано Яковом Ивановичем второй, а доктором неизвестно который раз, они оба взглянули друг на друга и счастливо засмеялись.
– Поправился Тотик. Ведь там ему и молочко, и яйца! – захлебываясь, говорил доктор.
– И блины! – прибавил Яков Иванович и причмокнул языком. Потом снова потянулся рукой к хлебу.
Доктор решительно отодвинул каравай.
– Довольно на сегодня, Яков Иванович, а то плохо будет.
– Ну ладно, – миролюбиво согласился старый слесарь. – Тебе и книги в руки. Потерпим до завтра.
– Завтра я вас буду ждать с готовым обедом. Сварю картошки и каши! – торжествующе заявил доктор. Он уже с неделю от слабости не мог ходить на работу и вел дома их нехитрое хозяйство.
– Э! Так у меня ноги сами домой побегут! – весело подмигнул ему слесарь.
– А помните Новый год? – спросил доктор.
– Помню! А как прибежал он тогда чуть ли не нагишом, «почему, – говорит, – меня не пригласили?»
– Да, да! Помните: «стланная селедка», «стланный сыл»?
– А девчонки-то переоделись тогда: догадайся кто – кто.
Снова смех.
– А помнишь…
Это был настоящий вечер воспоминаний. Еще долго-долго освещала коптилка две склоненных над письмом головы – одну лысую, другую – со спутанными и почерневшими от копоти седыми волосами.
Спать легли поздно. Укутываясь одеялом на широкой тахте, Яков Иванович сказал:
– Ну, доктор, нынче не будешь всю ночь ворочаться и вздыхать. Можно спокойно спать.
– Да, – отозвался доктор, – устал я сегодня.
– С радости, видимо, – засмеялся слесарь. – Ну, спи. – И он потушил коптилку.
В комнате стало тихо. Где-то далеко-далеко ухали пушки.
* * *
Яков Иванович спешил домой. Дома ждал настоящий обед! Картошка… каша… вволю хлеба!.. Доктор уже ждет его. Печурка топится, тепло… Они сейчас сядут, поедят и снова перечитают письмо… Эх, Катюшка… внучка… Хорошо как написала!..Яков Иванович, улыбаясь, поднялся по лестнице. Сегодня все было по-иному. Ключ в потемках сразу попал в замочную скважину, дверь, казалось, как-то особенно легко и поспешно открылась. Яков Иванович вошел.
В прихожей было темно и тихо. Старый слесарь ощупью пробрался через «классную», толкнул дверь в комнату. И в комнате было темно, тихо и холодно.
– Доктор! – растерянно позвал он.
Никто не отозвался.

Тишина. Только тикают часы.
У Якова Ивановича задрожали руки. Он поспешно достал из кармана спички, чиркнул, зажег коптилочку на столе. Слабенький свет разлился по комнате. Доктор лежал на кровати в той же самой позе, в какой Яков Иванович оставил его спящим, уходя на работу. Он лежал на спине, слегка закинув голову назад. Лицо было спокойно; едва заметная улыбка приподнимала уголки губ.
– Доктор… да ты… что?.. – прошептал Яков Иванович, подошел к кровати и положил руку на высокий, открытый лоб доктора
И сразу инстинктивно отдернул ее, – ему показалось, что его ладонь коснулась мрамора.
– Э, да ты и остыл уж… – произнес он вполголоса и сел на кровать. – Эх, товарищ, товарищ, как же ты это так?.. Оставил меня одного… – В голосе его прозвучал искренний упрек.
Он встал, взял в руки коптилочку, снова сел на кровать и поднес свет к самому лицу доктора. Тени задвигались на мертвом лице, и яснее обозначилась улыбка.
– Улыбаешься? – тихо произнес Яков Иванович и сам болезненно улыбнулся. – Тревогу старое сердце выдерживало, а на радость сил-то уже не хватило… Ну, что же, спи, старый товарищ…
Он наклонился, поцеловал холодный лоб и на цыпочках вышел из комнаты.
* * *
Вернувшись с кладбища в пустую квартиру, Яков Иванович собрал кое-какие вещи в чемодан, попробовал поднять его, но только покачал головой и поставил обратно. Потом связал в узелок смену белья и часть продуктов и вышел в прихожую.Было очень тихо. От тишины и усталости шумело в ушах. Яков Иванович закрыл глаза. Ему показалось, что вот сейчас зазвенит смех девочек, затопают ножки Тотика, и милый голос Софьи Михайловны позовет:
– Яков Иванович, идите к нам посумерничать.
Он открыл глаза, улыбнулся.
– А все-таки это была квартира хороших людей, – произнес он вслух. И вдруг почти закричал:
– Какую жизнь разрушили, дьяволы чертовы! Ну, погодите же, будет и вам!!!
Он вышел на лестницу, захлопнул за собой дверь, повесил большой висячий замок, отнес ключи управдому и по пустынной заснеженной улице, сутулясь, побрел на свой завод.
Эпилог
Победа! Снова дома. Клятва
Первым вернулся в квартиру Леонтий Федорович. Осенью 1944 года он был тяжело ранен. Долго лежал в госпиталях. Ногу удалось спасти, но кисть левой руки пришлось ампутировать, и вернуться в строй он уже не мог. Его отправили долечиваться на юг. Вскоре после победы он приехал, уже демобилизованный, в Ленинград. Сразу же он дал знать о своем возвращении Якову Ивановичу, жившему все эти годы на заводе.Старик пришел по первому зову. Встреча была радостной и сердечной. На другой же день Яков Иванович переехал домой. Они одновременно послали вызов своим эвакуированным и стали вместе поджидать их, понемногу приводя квартиру в порядок. Вставили стекла, разнесли уцелевшую мебель по местам и, насколько возможно, постарались привести все в прежний вид. Комнаты покойного доктора были заняты военным, уехавшим в длительную командировку.
– Какой-то он будет, наш новый сосед? – озабоченно говорил Яков Иванович. – Придется ли «ко двору»?
– Ничего. Авось поладим, – улыбнулся Леонтий Федорович.
«Классную» тоже привели в прежний вид. Правда, стол и полки девочек были сожжены в блокаду, но уцелел стол из комнаты доктора, которым и заменили сожженный. На одну из стен повесили сохранившийся портрет жены доктора. Полочки, очень похожие на те, что были, Леонтий Федорович купил на рынке «Классная» стала совсем такою, как была.
И начались дни радостного и нетерпеливого ожидания. Вечерами Леонтий Федорович снова и снова заставлял Якова Ивановича рассказывать во всех подробностях о том, как они тут жили в блокаду, как справлялась с непосильной работой Софья Михайловна, как ей помогали девочки, как засыпало Люсю, как чуть не погиб от голода Тотик… Часто вспоминали доктора.
– Как, по-вашему, отчего же он все-таки умер? – спросил как-то Леонтий Федорович.
Яков Иванович вздохнул.
– Сказать вам правду, – пока наши были здесь, он почти ничего не ел. Все Тотику, все Тотику… Да и годы его немалые, он ведь много старше меня был. А как уехали все, он и вовсе ослабел. Тосковал очень. Все весточки ждал, – доехали ли?.. Я-то на работе с утра до ночи, и тревожиться некогда. А он дома. Весь день – думы да тревога А как пришли хорошие вести, – видно, старому сердцу-то и не под силу… Отказало: хватит, мол, с меня переживаний… Как уснул в ту ночь, так и не проснулся. И то ладно, что счастливым уснул…
– Милый доктор!.. – чуть слышно проговорил Леонтий Федорович и долго молчал.
Они вместе читали и перечитывали письма близких, которые оба бережно хранили. Яков Иванович без конца мог рассказывать о том, как героически работали его «ребята» на заводе и на «Дороге жизни» в немыслимых, нечеловеческих условиях. Жадно выспрашивал Леонтия Федоровича о боях, о фронтовой жизни, о его ранении, о взятии Берлина. Меньше всего рассказывали о самих себе, хотя каждый думал, слушая другое: «Чего же ты, брат, о собственном-то героизме умалчиваешь?»
Они часто – внешне спокойно – беседовали о победе и о том, что мы спасли от фашизма не только свою Родину, но и всю Европу. Но каждый знал, какой гордостью за свой народ переполнено сердце другого.
И как эти беседы обо всем – самом близком, самом дорогом – облегчали им дни ожидания встречи с любимыми!
* * *
– Ну, теперь показывайтесь, какие вы стали; на вокзале в суете я вас не разглядел, – говорил Леонтий Федорович, опускаясь на тахту и усаживая рядом с собой Софью Михайловну.– А мы теперь – лесенка, смотрите! – И Люся встала перед ним, подзывая Катю и Наташу.
– Взрослые девушки, – не без удивления произнес Леонтий Федорович.
Девочки встали рядом, сияющие и счастливые.
– Рассматривай, папка, – весело сказала Наташа.
Они действительно стояли лесенкой.
Больше всех выросла Люся. Очень высокая, широкоплечая, загорелая, с крупными руками и ногами, она казалась бы старше своих лет, если бы не прежняя ребячья мордашка с вздернутым носиком и большим веселым ртом.
Рядом с ней стояла Наташа. Она выросла меньше и доставала Люсе только до глаз. Леонтия Федоровича поразило лицо дочки. Черты лица стали более четкими, определенными, а глаза – живые и внимательные – глядели уже совсем по-взрослому. В них увидел он то решительное, упорное, немного даже озорное выражение, которое он так любил в жене.
Катя выросла еще меньше. Но изменилась она, пожалуй, больше всех. Она была все такой же тихенькой и скромной, но смотрела уже не исподлобья, как раньше, а высоко подняв голову, ясно и открыто, прямо в глаза собеседнику. В ней не оставалось и тени прежней, почти болезненной застенчивости.
– А где Тотик? Тотик! – Леонтий Федорович искал глазами сына.
Тотик оказался на балконе, где, перевесившись через перила, внимательно разглядывал улицу. Наташа взяла его за руку и подвела к отцу.
– Неужели это Тотик? – засмеялся Леонтий Федорович, привлекая к себе высокого, худенького мальчика. – Ну, что же ты молчишь? Я еще и голоса твоего не слыхал! Ты что, папы стесняешься?
