Страница:
Мы напрасно таращим глаза. Невозможно ничего увидеть: густые тучи скрывают луну, и ночь черна, как чернила.
Пока мы бесполезно пытаемся просверлить глазами потёмки, гуденье удаляется к востоку, уменьшается, замирает… Но, прежде чем она окончательно замерло, мы слышим другое, которое к нам доносится с запада. Как и первое, это гуденье увеличивается, достигает максимума, постепенно уменьшается и удаляется на восток.
Лагерь поражён ужасом. Носильщики лежат лицом к земле. Мы все собираемся около капитана Марсенея. Здесь также Чумуки и Тонгане; пожив около белых, они приобрели некоторую силу духа. Напротив, Морилире я не вижу. Без сомнения, он лежит где-нибудь на брюхе и дрожит от страха…
Пять раз рождается ужасающий гул, увеличивается и угасает. Потом ночь возобновляет своё обычное спокойствие и кончается мирно.
Утром, это другое дело: когда начали строить колонну, испуганные негры упрямо отказываются идти. Капитан Марсеней в конце концов урезонивает их, и мы трогаемся в путь с трехчасовым запозданием.
Чудесное событие этой ночи, естественно, занимает всех, но никто не может его объяснить. Мало-помалу начинают говорить о другом. Прошли около двух километров от оставленного лагеря, как вдруг капитан Марсеней, который едет впереди, замечает что почва изрыта колеями, длиной около полсотни метров, направленными с запада на восток. Эти колеи, глубиной около десяти сантиметров на западной стороне, постепенно сглаживаются к востоку. Их десять, расположенных пятью группами, по две колеи в каждой.
Имеют ли они какое-нибудь отношение к шуму этой ночи? Сначала пытаемся ответить: нет.
И, однако, у них направление с запада на восток; они соответствуют в числе: пять пар колей, пять последовательных гулов…
Итак?
Итак, я не знаю.
Амедей Флоранс.
В СИКАСО
МОРИЛИРЕ
Пока мы бесполезно пытаемся просверлить глазами потёмки, гуденье удаляется к востоку, уменьшается, замирает… Но, прежде чем она окончательно замерло, мы слышим другое, которое к нам доносится с запада. Как и первое, это гуденье увеличивается, достигает максимума, постепенно уменьшается и удаляется на восток.
Лагерь поражён ужасом. Носильщики лежат лицом к земле. Мы все собираемся около капитана Марсенея. Здесь также Чумуки и Тонгане; пожив около белых, они приобрели некоторую силу духа. Напротив, Морилире я не вижу. Без сомнения, он лежит где-нибудь на брюхе и дрожит от страха…
Пять раз рождается ужасающий гул, увеличивается и угасает. Потом ночь возобновляет своё обычное спокойствие и кончается мирно.
Утром, это другое дело: когда начали строить колонну, испуганные негры упрямо отказываются идти. Капитан Марсеней в конце концов урезонивает их, и мы трогаемся в путь с трехчасовым запозданием.
Чудесное событие этой ночи, естественно, занимает всех, но никто не может его объяснить. Мало-помалу начинают говорить о другом. Прошли около двух километров от оставленного лагеря, как вдруг капитан Марсеней, который едет впереди, замечает что почва изрыта колеями, длиной около полсотни метров, направленными с запада на восток. Эти колеи, глубиной около десяти сантиметров на западной стороне, постепенно сглаживаются к востоку. Их десять, расположенных пятью группами, по две колеи в каждой.
Имеют ли они какое-нибудь отношение к шуму этой ночи? Сначала пытаемся ответить: нет.
И, однако, у них направление с запада на восток; они соответствуют в числе: пять пар колей, пять последовательных гулов…
Итак?
Итак, я не знаю.
Амедей Флоранс.
В СИКАСО
Экспедиция Барсака достигла Сикасо 12 января. В шесть недель, делая в среднем по двадцать пять километров в день, она прошла 1 100 километров, отделяющих от берега эту старинную столицу Кенедугу, сделавшуюся впоследствии последней крепостью Самори.
«Экспансьон Франсез» перестала получать статьи Амедея Флоранса после третьей, отправленной через два дня после оставления Канкана, и мы не имели бы никаких сведений о путешествии, если бы не записная книжка, в которую искусный репортёр ежедневно вносил свои заметки и наблюдения. Автор настоящего рассказа имеет её перед глазами и будет делать из неё, в случае надобности, обширные заимствования.
От Канкана до Сикасо путешествие прошло монотонно, неинтересно. Помимо нескольких шуток насчёт рассеянности Сен-Берена и подробного описания незначительных случаев, о которых читатель уже имеет достаточное понятие, Амедей Флоранс ограничивался описанием пути. До Тиолы местность была ровная а начиная с этого городка сделалась гористой. Репортёр коротко отметил, что Чумуки, избегая компании своего товарища Тонгане, по-видимому, заключил союз с главным проводником Морилире. Он, впрочем, не рассуждал по этому поводу, да и, в самом деле, вопрос о взаимоотношениях между этими тремя неграми не был настолько важным, чтобы занимать его внимание.
По молчанию Амедея Флоранса следовало заключить, что ничего существенного не случилось. Это означало, что ни одно из предсказаний Кеньелалы не начало исполняться ни в малейшей мере, как и следовало ожидать. Амедей Флоранс продолжал составлять свои письма и вручать Чумуки, который гарантировал их аккуратную доставку в Европу; и если, по той или иной причине, это обещание не выполнялось, репортёр об этом не знал. Сен-Берен продолжал гарцевать на лошади. Жанна Морна, — мы оставляем ей псевдоним, который, она выбрала, — не получила ещё никакой раны в сердце, по крайней мере никакой физической раны. А насчёт моральной раны, напротив, выходило, что третье предсказание было ближе всех к выполнению, если принимать его в переносном смысле, как думал Амедей Флоранс. В самом деле, он посвятил две одобрительных строчки все более интимной дружбе между Жанной Морна и капитаном Марсенеем и о растущем удовлетворении, которое молодые люди в ней находили.
Что же касается четвёртого предсказания, самого серьёзного и самого мрачного, ничто, абсолютно ничто не указывало, что какой-нибудь факт может его подтвердить. Экспедиция не была ни уничтожена, ни захвачена в рабство и спокойно продвигалась под охраной двухсот сабель капитана Марсенея. Бе верховые и вьючные животные были в добром здоровье, багаж в хорошем состоянии и при переправах через реки подмокал лишь в малой степени, неизбежной при услугах негров.
И в самом деле, рассуждения Амедея Флоранса в конце статьи, отправленной из Канкана, выражавшие его мысли в то время, когда он писал, не оправдались последующими событиями. Никто не устраивал действительных или мнимых покушений на колонну, и никакой другой Кеньелала не встретился на пути, чтобы изрекать угрожающие пророчества. Если даже Амедей Флоранс открыл истину и где-то существовал кто-то, строивший абсурдные планы запугать экспедицию и заставить её вернуться, то, вероятно, он от них отказался.
Вдобавок, сам Амедей Флоранс не имел ясного мнения по этому вопросу на пути в Сикасо. Факты, на которых основывались его рассуждения: более или менее правдоподобная попытка отравить экспедицию ядом «дунг-коно» и зловещие предсказания колдуна-негра, устарели.
Хотя ещё не прибыли в Сикасо, а предсказанная опасность начиналась только после этой древней столицы, репортёр успокаивался со дня на день: настолько ему казалось абсурдным утверждение, что эти безобидные негры, которые время от времени попадались на дороге, рискнут напасть на такой крупный отряд регулярных солдат. Подобным происшествиям не было примера, и только такой тиран, как Самори, силой принуждал эти несозревшие племена воевать.
И всё-таки Амедей Флоранс, быть может, чересчур успокоился, полагаясь только на солдат капитана Марсенея, так как в Сикасо воинская сила должна была уменьшиться наполовину.
В Сикасо, если не забыл читатель, экспедиция Барсака должна была разделиться. Одна часть, под начальством самого Барсака, достигнув Нигера, через Уагадугу, столицу Мосси, возьмёт путь к югу и вернётся к океану через Бургу и Дагомею. Вторая, под управлением Бодрьера, сразу спустится на юг и направится почти по прямой линии на Гран-Бассам. Разумеется, каждая из частей экспедиции имела право на одинаковую защиту, одинаковый эскорт, сведённый, таким образом, до сотни людей в том и другом отряде.
В тот момент, как экспедиция в полном своём составе прибыла в Сикасо, прошло не очень много времени с тех пор, когда эта крепость Самори, взятая штурмом в начале 1898 года войсками полковника Одеу, стала принадлежать Франции. В окрестностях Сикасо страна ещё чувствовала следы беспрестанных грабежей, которым подвергал её тот пагубный торговец невольниками, которого мы украсили, неизвестно почему, пышным именем д'Альмани. Повсюду встречались только сожжённые или опустошённые деревни — доказательства перенесённых несчастий.
Город Сикасо, — если только позволительно применить это выражение к чёрному поселению, — находится почти в таком же состоянии, как застал его полковник Одеу. Это — скопление нескольких деревушек, разделяемых возделанными полями; их объединяет ограда, как принято в этих краях, «тата», которая в Сикасо достигает не менее шести метров высоты и восьми метров толщины у основания.
Внутри «тата» французская администрация занималась только самыми неотложными делами и, не считая работ по очистке, воздвигла лишь необходимые сооружения, где помещался гарнизон.
Этот гарнизон составляли в то время три роты: одна колониальной пехоты и две — сенегальских стрелков под начальством французских офицеров и сержантов. Можно себе представить, с какой радостью встретили экспедицию Барсака молодые офицеры, так давно оторванные от себе подобных! Особенно велика была радость, когда во главе колонны увидели капитана Марсенея, который нашёл на этом отдалённом посту несколько лучших своих друзей; эта радость дошла до предела, когда в составе экспедиции обнаружили белую женщину.
Знатным посетителям оказали торжественный приём. Развевающиеся по ветру знамёна, звуки труб, бой барабанов, триумфальные арки из листвы, восклицания негров, искусно сведённых в толпы, — все было, и даже речь Барсака!
Вечером офицеры устроили торжественный пунш, где царило самое непринуждённое веселье. На празднике председательствовала Жанна Морна. Можно себе представить, какой успех она имела! Её окружили, вокруг неё теснились. Вся эта горячая молодёжь радостно соревновалась из-за прекрасных глаз соотечественницы, которая принесла в их изгнание луч солнца.
Но Жанну Морна не опьянил успех. Среди всех почестей легче всего находили дорогу к её сердцу те, которые оказывал ей капитан Марсеней, а он на них не скупился.
Это предпочтение, которое она проявляла, даже не замечая, было таким невинным, и о нем знали все. Товарищи капитана Марсенея, как истые французы, деликатно и постепенно потушили свой пыл, и один за другим обращались к счастливому капитану со скромными поздравлениями, от которых тот напрасно пытался уклониться.
Марсеней опускал глаза, отнекивался, уверял, что он не понимает их речей. Напротив, он-то их хорошо понимал и утопал в блаженстве.
Так любовь, которую питали друг к другу Жанна Морна и Марсеней, явилась откровением для них самих.
На следующий день начали заниматься вопросом о том, как разделить экспедицию, и внезапно столкнулись с непредвиденными трудностями.
Относительно европейцев дело было просто. С Бодрьером отправлялись Эйрье и Кирье — согласно полученным ими инструкциям — и Тассен — по своему личному вкусу. К Барсаку присоединились Понсен и доктор Шатонней. К ним же примкнул и Амедей Флоранс, так как более длинный путь этой части экспедиции обещал дать обширный репортёрский материал.
Капитан Марсеней имел приказ: откомандировать в конвой Бодрьера сто своих людей под командой лейтенанта из гарнизона Сикасо, самому же с другой сотней присоединиться к Барсаку. Приученный к дисциплине, он был очень смущён и с тоскою спрашивал себя, к какой части присоединятся Жанна Морна и Сен-Берен.
Какой вздох облегчения, когда молодая девушка объявила, что она сопровождает Барсака! И какой вздох разочарования последовал за первым, когда Жанна прибавила, что она и Сен-Берен ненадолго останутся с почтенным депутатом Юга и намерены покинуть его через несколько переходов, чтобы продолжать собственные исследования севернее.
Среди офицеров поднялся всеобщий шум возмущения. Не было ни одного, кто не порицал бы девушку за такой неблагоразумный проект. Как! Одна, без эскорта она рискует углубляться в эти почти неизведанные области, куда не проникала даже французская армия? Ей доказывали, что такое путешествие невыполнимо, что она рискует жизнью, в лучшем же случае старшины деревень не позволят ей пройти.
Ничто не помогало. Жанна Морна оставалась непоколебимой, и даже капитан Марсеней не мог на неё повлиять.
— Вы теряете время, — смеясь заявила она. — Вы лишь застращаете дядюшку, который выкатывает вон там испуганные глаза.
— Я?! — запротестовал Аженор, захваченный врасплох.
— Да, вы! — подтвердила Жанна Морна. — Вы умираете от страха, это видно. Значит, на вас повлияли все эти предсказатели несчастья?
— На меня?! — снова повторил бедный Сен-Берен.
— Чего вы боитесь, племянник? — спросила Жанна с величавым видом. — Ведь я буду с вами!
— Но я не боюсь! — возражал Сен-Берен, разъярённый тем, что к нему были привлечены все взгляды.
Жанна Морна обратилась к собеседникам.
— Я покинула Европу с целью пересечь Хомбори и достигнуть Нигера в вершине петли у Гао. Я пересеку Хомбори и достигну Гао.
— А туареги ауэлиммидены, которые занимают в этой области оба берега Нигера?
— Я смеюсь над туарегами, — ответила Жанна Морна, — я пройду среди них.
— Но почему Гао, а не какой-либо иной пункт? Какая могущественная причина заставляет вас направиться именно туда, раз вы путешествуете для удовольствия?
— Мой каприз! — ответила Жанна Морна. Раздались аплодисменты. Офицеры нашли, что ответ вполне во французском духе.
— Это, в самом деле, могущественный мотив, — провозгласил комендант Вергез. — Каприз хорошенькой женщины это ultima ratio[32], и мы не будем спорить,
Когда закончилось распределение официального и полуофициального персонала экспедиции, оставалось распределить низший, что казалось лёгким.
Десять ослов, пять погонщиков и десять носильщиков, принадлежавших Жанне Морна и Сен-Берену, естественно, следовали за теми, кто их нанял. Остальных погонщиков, носильщиков и вьючных животных разделили на две неравные группы: более многочисленная должна присоединиться к той из двух экспедиций, которой предстоит более долгий путь, то есть к экспедиции Барсака, и у неё же должен был остаться проводник Морилире. Все без возражений с этим согласились.
Но когда дошло до осуществления этой комбинации, начались затруднения.
При первых же словах, сказанных на этот счёт, Морилире заявил решительный отказ, и его не могли образумить никакие доводы. По его словам, он нанимался только до Сикасо, и ничто в мире не заставит его идти дальше. Напрасно настаивали; напрасно употребляли всякие средства, включая запугивание, от Морилире только удалось добиться согласия сопровождать экспедицию Бодрьера. А убедить упрямого негра идти на восток с Барсаком оказалось невозможным.
Вдобавок ко всему этому появились такие же затруднения с погонщиками и носильщиками; за исключением нанятых Жанной Морна и её племянником, они единодушно отказались идти дальше Сикасо. Просьбы, обещания, угрозы — все было бесполезно. Точно столкнулись со стеной; пришлось отказаться от мысли переспорить их,
Стали искать нового проводника и других слуг. Не стоило большого труда набрать слуг, но несколько дней прошло, прежде чем нашли проводника-туземца, внушающего некоторое доверие. Это был негр лет 35-40 по имени Бала Конере, уроженец Ньелы, из посёлка Фол-лона, расположенного на пути экспедиции Бодрьера, но знакомого с некоторыми местностями в Мосси. Этот Бала Конере был нанят.
И сейчас же резкая перемена с Морилире. Равнодушно, даже насмешливо наблюдавший бесплодные поиски своих начальников, он сразу изменил позицию, как только поиски увенчались успехом. Он смиренно просил у Барсака прощения за упрямство, объясняя его страхом, и предложил сопровождать экспедицию до Уагадугу и Дагомеи, как и нанимался. Сразу исчезло и сопротивление погонщиков и носильщиков, объявивших, что они готовы следовать за своим проводником, куда бы он их ни повёл.
Это внезапное единодушие с очевидностью показало, что Морилире был единственным виновником неожиданной стачки, и на мгновение явилась мысль отклонить его запоздалые предложения. Но было выгодно воспользоваться услугами испытанного персонала и проводника, уроженца страны, которую нужно было пересечь, поэтому на проделки Морилире закрыли глаза.
Решили, что Бала Конере поступит к Бодрьеру с меньшей .частью прежнего персонала, к которому присоединят несколько новых носильщиков, а за Барсаком остаётся Морилире и большая часть старых погонщиков и носильщиков.
Все эти колебания и перемены потребовали значительного времени. Войдя в Сикасо 12 января, Бодрьер и Барсак могли его покинуть только 21-го.
В этот день, на рассвете, роты снова выстроились под оружием; они выровняли ряды под командованием своих офицеров в парадной форме. Снова развевались по ветру знамёна, снова гремели трубы. Экспедиция Барсака первой, экспедиция Бодрьера второй прошли среди двух рядов солдат. Колонна тронулась за ними и проводила до ограды.
Там, за «тата», обменялись приветствиями. Офицеры гарнизона высказывали пожелания счастливого путешествия, а Барсак и Бодрьер не без живого волнения пожали друг другу руки. Пока отряд возвращался в свои казармы, два каравана тронулись в путь, каждый в свою сторону. Бодрьер со своим эскортом удалился в направлении к югу. Барсак, Понсен, доктор Шатонней, Амедей Флоранс, Жанна Морна и Сен-Берен, окружённые сотней всадников под командой капитана Марсенея, повернули налево и исчезли на востоке.
Но этим почти одинаковым колоннам была предназначена совершенно различная судьба. Если первой не предстояло встретить на своём пути никакой опасности, никакой серьёзной трудности, не так получилось со второй. Бодрьер мирно выполнил своё назначение, без труда собрал все данные для отчёта, которого ждала от него Палата депутатов, и, наконец, прибыл в Гран-Бассам почти в намеченный срок. Зато судьба захотела, чтобы с Барсаком и его друзьями случились события самые необыкновенные и ужасные, какие только можно вообразить.
И вот почему, пренебрегая мелкими событиями, отметившими спокойный путь Бодрьера, этот рассказ отныне прикован исключительно к той части экспедиции, которая удаляется на восток и под предводительством проводника Морилире все дальше уходит в глубь чёрной страны.
«Экспансьон Франсез» перестала получать статьи Амедея Флоранса после третьей, отправленной через два дня после оставления Канкана, и мы не имели бы никаких сведений о путешествии, если бы не записная книжка, в которую искусный репортёр ежедневно вносил свои заметки и наблюдения. Автор настоящего рассказа имеет её перед глазами и будет делать из неё, в случае надобности, обширные заимствования.
От Канкана до Сикасо путешествие прошло монотонно, неинтересно. Помимо нескольких шуток насчёт рассеянности Сен-Берена и подробного описания незначительных случаев, о которых читатель уже имеет достаточное понятие, Амедей Флоранс ограничивался описанием пути. До Тиолы местность была ровная а начиная с этого городка сделалась гористой. Репортёр коротко отметил, что Чумуки, избегая компании своего товарища Тонгане, по-видимому, заключил союз с главным проводником Морилире. Он, впрочем, не рассуждал по этому поводу, да и, в самом деле, вопрос о взаимоотношениях между этими тремя неграми не был настолько важным, чтобы занимать его внимание.
По молчанию Амедея Флоранса следовало заключить, что ничего существенного не случилось. Это означало, что ни одно из предсказаний Кеньелалы не начало исполняться ни в малейшей мере, как и следовало ожидать. Амедей Флоранс продолжал составлять свои письма и вручать Чумуки, который гарантировал их аккуратную доставку в Европу; и если, по той или иной причине, это обещание не выполнялось, репортёр об этом не знал. Сен-Берен продолжал гарцевать на лошади. Жанна Морна, — мы оставляем ей псевдоним, который, она выбрала, — не получила ещё никакой раны в сердце, по крайней мере никакой физической раны. А насчёт моральной раны, напротив, выходило, что третье предсказание было ближе всех к выполнению, если принимать его в переносном смысле, как думал Амедей Флоранс. В самом деле, он посвятил две одобрительных строчки все более интимной дружбе между Жанной Морна и капитаном Марсенеем и о растущем удовлетворении, которое молодые люди в ней находили.
Что же касается четвёртого предсказания, самого серьёзного и самого мрачного, ничто, абсолютно ничто не указывало, что какой-нибудь факт может его подтвердить. Экспедиция не была ни уничтожена, ни захвачена в рабство и спокойно продвигалась под охраной двухсот сабель капитана Марсенея. Бе верховые и вьючные животные были в добром здоровье, багаж в хорошем состоянии и при переправах через реки подмокал лишь в малой степени, неизбежной при услугах негров.
И в самом деле, рассуждения Амедея Флоранса в конце статьи, отправленной из Канкана, выражавшие его мысли в то время, когда он писал, не оправдались последующими событиями. Никто не устраивал действительных или мнимых покушений на колонну, и никакой другой Кеньелала не встретился на пути, чтобы изрекать угрожающие пророчества. Если даже Амедей Флоранс открыл истину и где-то существовал кто-то, строивший абсурдные планы запугать экспедицию и заставить её вернуться, то, вероятно, он от них отказался.
Вдобавок, сам Амедей Флоранс не имел ясного мнения по этому вопросу на пути в Сикасо. Факты, на которых основывались его рассуждения: более или менее правдоподобная попытка отравить экспедицию ядом «дунг-коно» и зловещие предсказания колдуна-негра, устарели.
Хотя ещё не прибыли в Сикасо, а предсказанная опасность начиналась только после этой древней столицы, репортёр успокаивался со дня на день: настолько ему казалось абсурдным утверждение, что эти безобидные негры, которые время от времени попадались на дороге, рискнут напасть на такой крупный отряд регулярных солдат. Подобным происшествиям не было примера, и только такой тиран, как Самори, силой принуждал эти несозревшие племена воевать.
И всё-таки Амедей Флоранс, быть может, чересчур успокоился, полагаясь только на солдат капитана Марсенея, так как в Сикасо воинская сила должна была уменьшиться наполовину.
В Сикасо, если не забыл читатель, экспедиция Барсака должна была разделиться. Одна часть, под начальством самого Барсака, достигнув Нигера, через Уагадугу, столицу Мосси, возьмёт путь к югу и вернётся к океану через Бургу и Дагомею. Вторая, под управлением Бодрьера, сразу спустится на юг и направится почти по прямой линии на Гран-Бассам. Разумеется, каждая из частей экспедиции имела право на одинаковую защиту, одинаковый эскорт, сведённый, таким образом, до сотни людей в том и другом отряде.
В тот момент, как экспедиция в полном своём составе прибыла в Сикасо, прошло не очень много времени с тех пор, когда эта крепость Самори, взятая штурмом в начале 1898 года войсками полковника Одеу, стала принадлежать Франции. В окрестностях Сикасо страна ещё чувствовала следы беспрестанных грабежей, которым подвергал её тот пагубный торговец невольниками, которого мы украсили, неизвестно почему, пышным именем д'Альмани. Повсюду встречались только сожжённые или опустошённые деревни — доказательства перенесённых несчастий.
Город Сикасо, — если только позволительно применить это выражение к чёрному поселению, — находится почти в таком же состоянии, как застал его полковник Одеу. Это — скопление нескольких деревушек, разделяемых возделанными полями; их объединяет ограда, как принято в этих краях, «тата», которая в Сикасо достигает не менее шести метров высоты и восьми метров толщины у основания.
Внутри «тата» французская администрация занималась только самыми неотложными делами и, не считая работ по очистке, воздвигла лишь необходимые сооружения, где помещался гарнизон.
Этот гарнизон составляли в то время три роты: одна колониальной пехоты и две — сенегальских стрелков под начальством французских офицеров и сержантов. Можно себе представить, с какой радостью встретили экспедицию Барсака молодые офицеры, так давно оторванные от себе подобных! Особенно велика была радость, когда во главе колонны увидели капитана Марсенея, который нашёл на этом отдалённом посту несколько лучших своих друзей; эта радость дошла до предела, когда в составе экспедиции обнаружили белую женщину.
Знатным посетителям оказали торжественный приём. Развевающиеся по ветру знамёна, звуки труб, бой барабанов, триумфальные арки из листвы, восклицания негров, искусно сведённых в толпы, — все было, и даже речь Барсака!
Вечером офицеры устроили торжественный пунш, где царило самое непринуждённое веселье. На празднике председательствовала Жанна Морна. Можно себе представить, какой успех она имела! Её окружили, вокруг неё теснились. Вся эта горячая молодёжь радостно соревновалась из-за прекрасных глаз соотечественницы, которая принесла в их изгнание луч солнца.
Но Жанну Морна не опьянил успех. Среди всех почестей легче всего находили дорогу к её сердцу те, которые оказывал ей капитан Марсеней, а он на них не скупился.
Это предпочтение, которое она проявляла, даже не замечая, было таким невинным, и о нем знали все. Товарищи капитана Марсенея, как истые французы, деликатно и постепенно потушили свой пыл, и один за другим обращались к счастливому капитану со скромными поздравлениями, от которых тот напрасно пытался уклониться.
Марсеней опускал глаза, отнекивался, уверял, что он не понимает их речей. Напротив, он-то их хорошо понимал и утопал в блаженстве.
Так любовь, которую питали друг к другу Жанна Морна и Марсеней, явилась откровением для них самих.
На следующий день начали заниматься вопросом о том, как разделить экспедицию, и внезапно столкнулись с непредвиденными трудностями.
Относительно европейцев дело было просто. С Бодрьером отправлялись Эйрье и Кирье — согласно полученным ими инструкциям — и Тассен — по своему личному вкусу. К Барсаку присоединились Понсен и доктор Шатонней. К ним же примкнул и Амедей Флоранс, так как более длинный путь этой части экспедиции обещал дать обширный репортёрский материал.
Капитан Марсеней имел приказ: откомандировать в конвой Бодрьера сто своих людей под командой лейтенанта из гарнизона Сикасо, самому же с другой сотней присоединиться к Барсаку. Приученный к дисциплине, он был очень смущён и с тоскою спрашивал себя, к какой части присоединятся Жанна Морна и Сен-Берен.
Какой вздох облегчения, когда молодая девушка объявила, что она сопровождает Барсака! И какой вздох разочарования последовал за первым, когда Жанна прибавила, что она и Сен-Берен ненадолго останутся с почтенным депутатом Юга и намерены покинуть его через несколько переходов, чтобы продолжать собственные исследования севернее.
Среди офицеров поднялся всеобщий шум возмущения. Не было ни одного, кто не порицал бы девушку за такой неблагоразумный проект. Как! Одна, без эскорта она рискует углубляться в эти почти неизведанные области, куда не проникала даже французская армия? Ей доказывали, что такое путешествие невыполнимо, что она рискует жизнью, в лучшем же случае старшины деревень не позволят ей пройти.
Ничто не помогало. Жанна Морна оставалась непоколебимой, и даже капитан Марсеней не мог на неё повлиять.
— Вы теряете время, — смеясь заявила она. — Вы лишь застращаете дядюшку, который выкатывает вон там испуганные глаза.
— Я?! — запротестовал Аженор, захваченный врасплох.
— Да, вы! — подтвердила Жанна Морна. — Вы умираете от страха, это видно. Значит, на вас повлияли все эти предсказатели несчастья?
— На меня?! — снова повторил бедный Сен-Берен.
— Чего вы боитесь, племянник? — спросила Жанна с величавым видом. — Ведь я буду с вами!
— Но я не боюсь! — возражал Сен-Берен, разъярённый тем, что к нему были привлечены все взгляды.
Жанна Морна обратилась к собеседникам.
— Я покинула Европу с целью пересечь Хомбори и достигнуть Нигера в вершине петли у Гао. Я пересеку Хомбори и достигну Гао.
— А туареги ауэлиммидены, которые занимают в этой области оба берега Нигера?
— Я смеюсь над туарегами, — ответила Жанна Морна, — я пройду среди них.
— Но почему Гао, а не какой-либо иной пункт? Какая могущественная причина заставляет вас направиться именно туда, раз вы путешествуете для удовольствия?
— Мой каприз! — ответила Жанна Морна. Раздались аплодисменты. Офицеры нашли, что ответ вполне во французском духе.
— Это, в самом деле, могущественный мотив, — провозгласил комендант Вергез. — Каприз хорошенькой женщины это ultima ratio[32], и мы не будем спорить,
Когда закончилось распределение официального и полуофициального персонала экспедиции, оставалось распределить низший, что казалось лёгким.
Десять ослов, пять погонщиков и десять носильщиков, принадлежавших Жанне Морна и Сен-Берену, естественно, следовали за теми, кто их нанял. Остальных погонщиков, носильщиков и вьючных животных разделили на две неравные группы: более многочисленная должна присоединиться к той из двух экспедиций, которой предстоит более долгий путь, то есть к экспедиции Барсака, и у неё же должен был остаться проводник Морилире. Все без возражений с этим согласились.
Но когда дошло до осуществления этой комбинации, начались затруднения.
При первых же словах, сказанных на этот счёт, Морилире заявил решительный отказ, и его не могли образумить никакие доводы. По его словам, он нанимался только до Сикасо, и ничто в мире не заставит его идти дальше. Напрасно настаивали; напрасно употребляли всякие средства, включая запугивание, от Морилире только удалось добиться согласия сопровождать экспедицию Бодрьера. А убедить упрямого негра идти на восток с Барсаком оказалось невозможным.
Вдобавок ко всему этому появились такие же затруднения с погонщиками и носильщиками; за исключением нанятых Жанной Морна и её племянником, они единодушно отказались идти дальше Сикасо. Просьбы, обещания, угрозы — все было бесполезно. Точно столкнулись со стеной; пришлось отказаться от мысли переспорить их,
Стали искать нового проводника и других слуг. Не стоило большого труда набрать слуг, но несколько дней прошло, прежде чем нашли проводника-туземца, внушающего некоторое доверие. Это был негр лет 35-40 по имени Бала Конере, уроженец Ньелы, из посёлка Фол-лона, расположенного на пути экспедиции Бодрьера, но знакомого с некоторыми местностями в Мосси. Этот Бала Конере был нанят.
И сейчас же резкая перемена с Морилире. Равнодушно, даже насмешливо наблюдавший бесплодные поиски своих начальников, он сразу изменил позицию, как только поиски увенчались успехом. Он смиренно просил у Барсака прощения за упрямство, объясняя его страхом, и предложил сопровождать экспедицию до Уагадугу и Дагомеи, как и нанимался. Сразу исчезло и сопротивление погонщиков и носильщиков, объявивших, что они готовы следовать за своим проводником, куда бы он их ни повёл.
Это внезапное единодушие с очевидностью показало, что Морилире был единственным виновником неожиданной стачки, и на мгновение явилась мысль отклонить его запоздалые предложения. Но было выгодно воспользоваться услугами испытанного персонала и проводника, уроженца страны, которую нужно было пересечь, поэтому на проделки Морилире закрыли глаза.
Решили, что Бала Конере поступит к Бодрьеру с меньшей .частью прежнего персонала, к которому присоединят несколько новых носильщиков, а за Барсаком остаётся Морилире и большая часть старых погонщиков и носильщиков.
Все эти колебания и перемены потребовали значительного времени. Войдя в Сикасо 12 января, Бодрьер и Барсак могли его покинуть только 21-го.
В этот день, на рассвете, роты снова выстроились под оружием; они выровняли ряды под командованием своих офицеров в парадной форме. Снова развевались по ветру знамёна, снова гремели трубы. Экспедиция Барсака первой, экспедиция Бодрьера второй прошли среди двух рядов солдат. Колонна тронулась за ними и проводила до ограды.
Там, за «тата», обменялись приветствиями. Офицеры гарнизона высказывали пожелания счастливого путешествия, а Барсак и Бодрьер не без живого волнения пожали друг другу руки. Пока отряд возвращался в свои казармы, два каравана тронулись в путь, каждый в свою сторону. Бодрьер со своим эскортом удалился в направлении к югу. Барсак, Понсен, доктор Шатонней, Амедей Флоранс, Жанна Морна и Сен-Берен, окружённые сотней всадников под командой капитана Марсенея, повернули налево и исчезли на востоке.
Но этим почти одинаковым колоннам была предназначена совершенно различная судьба. Если первой не предстояло встретить на своём пути никакой опасности, никакой серьёзной трудности, не так получилось со второй. Бодрьер мирно выполнил своё назначение, без труда собрал все данные для отчёта, которого ждала от него Палата депутатов, и, наконец, прибыл в Гран-Бассам почти в намеченный срок. Зато судьба захотела, чтобы с Барсаком и его друзьями случились события самые необыкновенные и ужасные, какие только можно вообразить.
И вот почему, пренебрегая мелкими событиями, отметившими спокойный путь Бодрьера, этот рассказ отныне прикован исключительно к той части экспедиции, которая удаляется на восток и под предводительством проводника Морилире все дальше уходит в глубь чёрной страны.
МОРИЛИРЕ
(Из записной книжки Амедея Флоранса)
22 января. Прошло два дня, как мы покинули Сика-со, а у меня впечатление, что дела идут неладно. Я повторяю, это только впечатление, но мне кажется, что настроение у наших слуг хуже, что погонщики .проявляют ещё меньше усердия и сильнее замедляют шаг ослов, если только это возможно, и что носильщики утомляются быстрее и требуют более частых остановок. Быть может, это моя фантазия, и я нахожусь под влиянием предсказаний Кеньелалы из Канкана. Нет ничего невероятного в том, что эти почти забытые предсказания приобрели некоторый вес с тех пор, как мы покинули Сикасо и наш конвой уменьшился наполовину.
Боюсь ли я? Почему бы и нет! Или, скорее, если я и боюсь, то только того, что глупец Кеньелала не одарён «вторым зрением», а просто бестолково повторял свой урок. Чего я хочу? Приключений, приключений и ещё. раз приключений, которые я превратил бы в хороший отчёт. Да, я жду настоящих приключений.
23 января. Я продолжаю настаивать, что мы ползём, как караван черепах. Правда, природа местности не способствует быстрому продвижению. Только подъёмы да спуски. И все же скверные намерения наших негров мне кажутся несомненными.
24 января. Что я говорил? Вечером мы прибыли в Кафеле, Мы сделали в четыре дня пятьдесят километров. Двенадцать километров в день — это неплохо как рекорд.
31 января. Ну! Он побит, этот рекорд! Мы употребили шесть дней, чтобы пройти следующие пятьдесят километров. Итого: сто километров в десять дней! И вот мы в маленькой деревушке Кокоро. Прошу вас поверить, что я не нанял бы там дачу — провести лето на берегу моря. Какая дыра! Оставив три дня назад деревню Нгана — кой черт выдумывает эти имена?! — и преодолев последний достаточно крутой подъем, мы спустились в долину, по которой сейчас идём. Горы на западе, севере и юге. Перед нами, на востоке, равнина.
К довершению несчастья, мы задержались на некоторое время в Кокоро. Это не потому, что мы были там пленниками; наоборот, старшина деревни, некий Пинтье. Ба, — наш сердечный друг. Но…
Но я чувствую, что литературные правила требуют начинать с самого скучного. Поэтому я быстро набросаю несколько этнографических заметок, прежде чем продолжать мой рассказ.
В Кокоро начинается страна бобо. Название скорее смешное, но жители не так смешны: настоящие скоты.
Несколько слов об этих скотал.
Мужчины, в большинстве достаточно хорошо сложенные, совершенно нагие. Старики носят вокруг бёдер повязку, называемую «била». Старухи заменяют «била» пучком листьев внизу живота: это кокетливее. Некоторые молодые люди, законодатели мод, используют «била», украшая её позади хвостом из бумажной материи, собранной на конце пучком. Это последний крик моды! Добавьте к этому простому одеянию ожерелье из трех рядов раковин, подвязки под коленями, пальмовый лист вокруг лодыжки, железные серьги и костяную или тростниковую стрелу, протыкающую нос: вот .вам тип щёголя у бобо.
Женщины отвратительны с их слишком большими бюстами и чересчур короткими ногами, с выдающимся, заострённым животом, с их толстой нижней губой, проколотой костью или пучком листьев толщиной со свечку. Надо видеть это!
Их оружие — копья и несколько кремнёвых ружей.
Кое-кто носит кнутики, к концу которых подвешены священные амулеты .
Эти молодчики не очень разборчивы насчёт пищи. Они без всякого отвращения едят полуразложившуюся падаль. Пффф!.. Их умственное развитие соответствует всему этому. Можно судить о нем по тому, как они нас встретили.
Этот искусный литературный переход возвращает меня к нити моего рассказа.
Сцена в Кокоро, вчера, 30 января. Ночь.
Подходя к деревне, мы сталкиваемся с завывающей толпой негров. Мы их насчитали при свете факелов по меньшей мере восемьсот; кажется, они настроены совсем не дружественно. Мы в первый раз встречаем такой приём и потому останавливаемся немного удивлённые.
Удивлённые, но не слишком обеспокоенные. Все эти парни могут сколько угодно размахивать оружием; нам ясно, что один ружейный залп начисто выметет весь этот превосходный народ.
Капитан Марсеней отдаёт приказ. Его люди расстёгивают футляры, но не вытаскивают из них ружей. Капитан выжидает. Стрелять в своего ближнего всегда серьёзная штука, даже если этот ближний — бобо. Оружие остаётся немым, и, кажется, оно не заговорит.
Так обстоит дело, когда лошадь Сен-Берена, испуганная криками, становится на дыбы. Выбитый из седла Сен-Берен летит вниз головой и падает прямо в кучу негров. Они испускают свирепые завывания и устремляются на нашего несчастного друга, когда…
…когда мадемуазель Морна погоняет свою лошадь и во весь опор мчится на толпу. Тотчас же внимание отвлекается от Сен-Берена. Смелую наездницу окружают. Двадцать копий направляются на неё…
— Манто! — кричит она нападающим. — Нте а бе суба! (Молчание! Я волшебница!)
При этих словах она вытаскивает электрический фонарь, который, к счастью, при ней находился, и зажигает его, потом тушит и снова зажигает, чтобы показать, что она по своей воле распоряжается лучами света. При виде этого завывания умолкают, и вокруг неё образуется почтительный круг, на середину которого выходит уже упомянутый Пинтье-Ба. Он хочет держать речь: это болезнь всех правителей на земле. Но мадемуазель Морна призывает его к молчанию. Она спешит на помощь Сен-Берену, который не шевелится после падения и, очевидно, ранен.
 По заключению доктора Шатоннея, который проник в круг с таким же спокойствием, как входит к пациенту, Сен-Берен действительно ранен. Он покрыт кровью. Он упал так неудачно, что острый камень нанёс ему широкую рану пониже поясницы. В этот момент я думаю, что одно из предсказаний Кенье-лалы исполнилось. Это подаёт мне надежду на исполнение остальных, но по моей спине пробегает холодок, когда я думаю о судьбе моих статей.
По заключению доктора Шатоннея, который проник в круг с таким же спокойствием, как входит к пациенту, Сен-Берен действительно ранен. Он покрыт кровью. Он упал так неудачно, что острый камень нанёс ему широкую рану пониже поясницы. В этот момент я думаю, что одно из предсказаний Кенье-лалы исполнилось. Это подаёт мне надежду на исполнение остальных, но по моей спине пробегает холодок, когда я думаю о судьбе моих статей.
Доктор Шатонней берет чемодан с инструментами, промывает и перевязывает рану, в то время как негры созерцают его в глубоком изумлении.
Пока длится операция, мадемуазель Морна, остающаяся на лошади, разрешает Пинтье-Ба говорить. Он приближается и спрашивает на языке бамбара, почему тубаб (тубаб — это Сен-Берен) атаковал их с ружьём. Мадемуазель Морна отрицает это. Старшина настаивает, показывая на футляр с удочками, который Сен-Берен носит на перевязи. Ему объясняют истину. Напрасный труд. Чтобы его убедить, приходится стянуть покрышку, открыть футляр, сверкающий при свете факелов, и показать удочки.
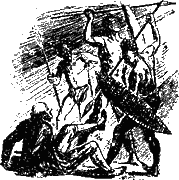 Глаза Пинтье-Ба блестят жадностью? Его руки протягиваются к блестящему предмету. Как избалованный ребёнок, он его просит, он хочет, он требует. Сен-Берен гневно отказывает.
Глаза Пинтье-Ба блестят жадностью? Его руки протягиваются к блестящему предмету. Как избалованный ребёнок, он его просит, он хочет, он требует. Сен-Берен гневно отказывает.
Напрасно мадемуазель Морна настаивает, желая укрепить только что установленный мир. Наконец, она сердится.
— Племянник! — говорит она сурово и направляет на упрямого рыболова электрический фонарь.
Сен-Берен немедленно уступает и передаёт футляр от удочек Пинтье-Ба, который приписывает свой успех магической силе электрического фонаря и влиянию волшебницы. Завладев сокровищем, бездельник безумствует. Он отплясывает дьявольский танец, потом по его знаку все оружие исчезает, и Пинтье-Ба приглашает нас в деревню, где мы можем жить сколько угодно.
Старшина держит речь, в которой, как кажется, приказывает устроить завтра «там-там» в нашу честь.
Ввиду мирного настроения бобо капитан Марсеней не видит никакого неудобства в том, что мы примем их приглашение. На следующий день, то есть сегодня, после полудня, мы нанесли визит нашим новым друзьям, тогда как наш конвой и чёрный персонал оставались снаружи, за «тата».
22 января. Прошло два дня, как мы покинули Сика-со, а у меня впечатление, что дела идут неладно. Я повторяю, это только впечатление, но мне кажется, что настроение у наших слуг хуже, что погонщики .проявляют ещё меньше усердия и сильнее замедляют шаг ослов, если только это возможно, и что носильщики утомляются быстрее и требуют более частых остановок. Быть может, это моя фантазия, и я нахожусь под влиянием предсказаний Кеньелалы из Канкана. Нет ничего невероятного в том, что эти почти забытые предсказания приобрели некоторый вес с тех пор, как мы покинули Сикасо и наш конвой уменьшился наполовину.
Боюсь ли я? Почему бы и нет! Или, скорее, если я и боюсь, то только того, что глупец Кеньелала не одарён «вторым зрением», а просто бестолково повторял свой урок. Чего я хочу? Приключений, приключений и ещё. раз приключений, которые я превратил бы в хороший отчёт. Да, я жду настоящих приключений.
23 января. Я продолжаю настаивать, что мы ползём, как караван черепах. Правда, природа местности не способствует быстрому продвижению. Только подъёмы да спуски. И все же скверные намерения наших негров мне кажутся несомненными.
24 января. Что я говорил? Вечером мы прибыли в Кафеле, Мы сделали в четыре дня пятьдесят километров. Двенадцать километров в день — это неплохо как рекорд.
31 января. Ну! Он побит, этот рекорд! Мы употребили шесть дней, чтобы пройти следующие пятьдесят километров. Итого: сто километров в десять дней! И вот мы в маленькой деревушке Кокоро. Прошу вас поверить, что я не нанял бы там дачу — провести лето на берегу моря. Какая дыра! Оставив три дня назад деревню Нгана — кой черт выдумывает эти имена?! — и преодолев последний достаточно крутой подъем, мы спустились в долину, по которой сейчас идём. Горы на западе, севере и юге. Перед нами, на востоке, равнина.
К довершению несчастья, мы задержались на некоторое время в Кокоро. Это не потому, что мы были там пленниками; наоборот, старшина деревни, некий Пинтье. Ба, — наш сердечный друг. Но…
Но я чувствую, что литературные правила требуют начинать с самого скучного. Поэтому я быстро набросаю несколько этнографических заметок, прежде чем продолжать мой рассказ.
В Кокоро начинается страна бобо. Название скорее смешное, но жители не так смешны: настоящие скоты.
Несколько слов об этих скотал.
Мужчины, в большинстве достаточно хорошо сложенные, совершенно нагие. Старики носят вокруг бёдер повязку, называемую «била». Старухи заменяют «била» пучком листьев внизу живота: это кокетливее. Некоторые молодые люди, законодатели мод, используют «била», украшая её позади хвостом из бумажной материи, собранной на конце пучком. Это последний крик моды! Добавьте к этому простому одеянию ожерелье из трех рядов раковин, подвязки под коленями, пальмовый лист вокруг лодыжки, железные серьги и костяную или тростниковую стрелу, протыкающую нос: вот .вам тип щёголя у бобо.
Женщины отвратительны с их слишком большими бюстами и чересчур короткими ногами, с выдающимся, заострённым животом, с их толстой нижней губой, проколотой костью или пучком листьев толщиной со свечку. Надо видеть это!
Их оружие — копья и несколько кремнёвых ружей.
Кое-кто носит кнутики, к концу которых подвешены священные амулеты .
Эти молодчики не очень разборчивы насчёт пищи. Они без всякого отвращения едят полуразложившуюся падаль. Пффф!.. Их умственное развитие соответствует всему этому. Можно судить о нем по тому, как они нас встретили.
Этот искусный литературный переход возвращает меня к нити моего рассказа.
Сцена в Кокоро, вчера, 30 января. Ночь.
Подходя к деревне, мы сталкиваемся с завывающей толпой негров. Мы их насчитали при свете факелов по меньшей мере восемьсот; кажется, они настроены совсем не дружественно. Мы в первый раз встречаем такой приём и потому останавливаемся немного удивлённые.
Удивлённые, но не слишком обеспокоенные. Все эти парни могут сколько угодно размахивать оружием; нам ясно, что один ружейный залп начисто выметет весь этот превосходный народ.
Капитан Марсеней отдаёт приказ. Его люди расстёгивают футляры, но не вытаскивают из них ружей. Капитан выжидает. Стрелять в своего ближнего всегда серьёзная штука, даже если этот ближний — бобо. Оружие остаётся немым, и, кажется, оно не заговорит.
Так обстоит дело, когда лошадь Сен-Берена, испуганная криками, становится на дыбы. Выбитый из седла Сен-Берен летит вниз головой и падает прямо в кучу негров. Они испускают свирепые завывания и устремляются на нашего несчастного друга, когда…
…когда мадемуазель Морна погоняет свою лошадь и во весь опор мчится на толпу. Тотчас же внимание отвлекается от Сен-Берена. Смелую наездницу окружают. Двадцать копий направляются на неё…
— Манто! — кричит она нападающим. — Нте а бе суба! (Молчание! Я волшебница!)
При этих словах она вытаскивает электрический фонарь, который, к счастью, при ней находился, и зажигает его, потом тушит и снова зажигает, чтобы показать, что она по своей воле распоряжается лучами света. При виде этого завывания умолкают, и вокруг неё образуется почтительный круг, на середину которого выходит уже упомянутый Пинтье-Ба. Он хочет держать речь: это болезнь всех правителей на земле. Но мадемуазель Морна призывает его к молчанию. Она спешит на помощь Сен-Берену, который не шевелится после падения и, очевидно, ранен.

Доктор Шатонней берет чемодан с инструментами, промывает и перевязывает рану, в то время как негры созерцают его в глубоком изумлении.
Пока длится операция, мадемуазель Морна, остающаяся на лошади, разрешает Пинтье-Ба говорить. Он приближается и спрашивает на языке бамбара, почему тубаб (тубаб — это Сен-Берен) атаковал их с ружьём. Мадемуазель Морна отрицает это. Старшина настаивает, показывая на футляр с удочками, который Сен-Берен носит на перевязи. Ему объясняют истину. Напрасный труд. Чтобы его убедить, приходится стянуть покрышку, открыть футляр, сверкающий при свете факелов, и показать удочки.
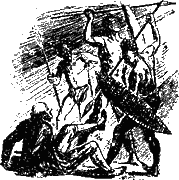
Напрасно мадемуазель Морна настаивает, желая укрепить только что установленный мир. Наконец, она сердится.
— Племянник! — говорит она сурово и направляет на упрямого рыболова электрический фонарь.
Сен-Берен немедленно уступает и передаёт футляр от удочек Пинтье-Ба, который приписывает свой успех магической силе электрического фонаря и влиянию волшебницы. Завладев сокровищем, бездельник безумствует. Он отплясывает дьявольский танец, потом по его знаку все оружие исчезает, и Пинтье-Ба приглашает нас в деревню, где мы можем жить сколько угодно.
Старшина держит речь, в которой, как кажется, приказывает устроить завтра «там-там» в нашу честь.
Ввиду мирного настроения бобо капитан Марсеней не видит никакого неудобства в том, что мы примем их приглашение. На следующий день, то есть сегодня, после полудня, мы нанесли визит нашим новым друзьям, тогда как наш конвой и чёрный персонал оставались снаружи, за «тата».
