Страница:
— Вы за нами? — обрадовалась Вера Васильевна. — Только какая же я барыня?
— Ну как не барыня. Только больно худа… — Он похлопал себя кнутиком по рукаву. — Поедем, что ли?
У коновязи переминалась пегая лошадка, запряженная в телегу.
— Хотели дрожки послать, да грязи убоялись, — объяснил незнакомец. — Кланяться велели.
— Кто? — спросила Вера Васильевна.
— Известно кто, — сказал мужик, отвязывая лошадь. — Павел Федорыч.
— А вы кто же будете? — поинтересовалась Вера Васильевна.
— Мы-то? — удивился мужик, точно это было само собой очевидным. — Мы работники.
Он поправил сбрую, подошел к телеге, подоткнул сено под домотканую попону.
— Садитесь, что ли. Дорога дальняя.
— А вы кем же работаете? — спросила Вера Васильевна. — Кучером?
— Мы работники, Федосеем меня зовут, Федосом.
— Очень приятно, Федосей, — сказала Вера Васильевна. — А как по батюшке?
— А меня по батюшке не величают, — сказал Федосей. — По батюшке я только в списках, а запросто меня по батюшке не зовут.
Вера Васильевна и Славушка взобрались на телегу и утонули в сене.
— Ой, как мягко! — воскликнул Славушка.
— Тебе удобно? — спросила Вера Васильевна. — Застегни получше пальто, можно простудиться, ты слышал, дорога дальняя.
— Я уже не маленький, мама, — возразил Славушка. — И к тому же на мне калоши.
Федосей сел на грядку телеги, сунул под себя кнутик, дернул вожжами.
— Мил-лай!
— А как ее зовут? — спросил Славушка.
— Чевой-то? — спросил Федосей. — Вы об ком?
— Говорю, как ее зовут? — повторил Славушка, кивая на лошадь.
— Кобылу-то? — переспросил Федосей. — Эту Машкой, а дома еще Павлинка, та постатней, да не объезжена, хозяин на завод бережет…
— Это как на завод? — не понял Славушка.
— Ну, для хозяйства, для хозяйства, — сказала Вера Васильевна. — Та лошадь получше, вот ее и берегут.
— На племя, — разъяснил Федосей. — От ей потомствие будет получше.
Путешественники миновали станционные пакгаузы, миновали громоздкий серый элеватор, и Машка затрусила по широкой, плохо вымощенной дороге с глубокими колеями, полными жидкой грязи.
Федосей подстегнул Машку, повернулся к Вере Васильевне.
— Значит, ты и есть Федор Федорычева барыня? — полувопросительно сказал он и покачал головой. — Мы-то думали…
Он не договорил.
— Кто мы? — спросила Вера Васильевна.
— С жаной мы, — пояснил Федосей. — Мы с Надеждой шестой год у твоей родни…
— Так что же вы думали? — поинтересовалась Вера Васильевна.
— Думали, показистей будешь, — с прежней непосредственностью объяснил Федосей. — А ты и мала и худа, не будут тебя уважать у нас…
Почмокал языком, то ли подгоняя Машку, то ли сочувствуя.
— А сколько верст до Успенского? — спросил Славушка.
— Верст-то? — переспросил Федосей и посмотрел вперед, точно пересчитал лежащие перед ним версты. — Поболе сорока.
Нельзя понять, много это в его представлении или мало.
Славушка рукой обвел окрестность, точно хотел приблизить к себе открывшиеся перед ним однообразные мокрые поля.
— И все так? — спросил он.
— Что так? — переспросил Федосей.
— Поля, — сказал Славушка. — До самого дома?
— Поля-то? — переспросил Федосей и утвердительно кивнул. — До самого дома.
И Славушке подумалось, как скучно жить среди этих мокрых и черных полей.
— Да, мамочка! — вырвалось вдруг у него. — Заехали мы с тобой…
— Ты так думаешь, Славушка? — тихо спросила Вера Васильевна и нахмурилась. — У нас не было иного выхода…
— Да я ничего, — сказал Славушка. — Жить можно везде.
Он вытащил из внутреннего кармана своего пальтишка полученную им в подарок газету… Что-то будет впереди? Славушка вспомнил, как его товарищи по гимназии пытались угадывать будущее: раскрывали наугад какую-нибудь книгу и первую попавшуюся фразу считали предсказанием. Мальчик заглянул в газету и прочел: «В Европе чувствуется дыхание нарастающей пролетарской революции…» К чему бы это?… И снова запихнул газету в карман.
Нескончаемые пустые поля, грязная ухабистая дорога, сердитый осенний ветер, монотонная рысца Машки, не то придурковатый, не то равнодушный ко всему Федосей, так похожий на дикобраза, мать со своими печальными и тревожными глазами и такими же печальными и тревожными раздумьями…
Они находились далеко, очень далеко от Европы.
Поля, поля, бесконечное унылое жнивье, исконная русская деревня, Орловщина, черноземный край…
Отойти бы подальше в комкастое поле, стать над бурой стерней, наклониться, схватить в горсть сырую черную землю и, не боясь ни выпачкаться, ни показаться смешным, прижаться щекой к этой земле, к своей земле, такой нестерпимо холодной и влажной… Вот как можно ощутить свое родство с этой землей!
И ехать дальше — от ветлы на горизонте до ветлы на горизонте.
— Шевелись, мил-лай…
Моросит дождичек. Мелкий, надоедливый… А Славушка чувствует, что он в России: серое небо, серое поле, а он дома.
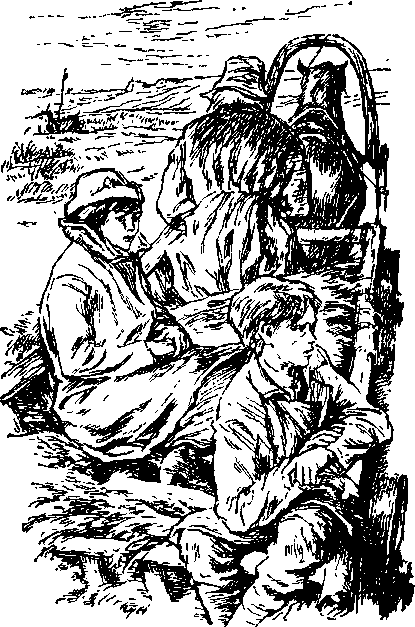
— Ну как не барыня. Только больно худа… — Он похлопал себя кнутиком по рукаву. — Поедем, что ли?
У коновязи переминалась пегая лошадка, запряженная в телегу.
— Хотели дрожки послать, да грязи убоялись, — объяснил незнакомец. — Кланяться велели.
— Кто? — спросила Вера Васильевна.
— Известно кто, — сказал мужик, отвязывая лошадь. — Павел Федорыч.
— А вы кто же будете? — поинтересовалась Вера Васильевна.
— Мы-то? — удивился мужик, точно это было само собой очевидным. — Мы работники.
Он поправил сбрую, подошел к телеге, подоткнул сено под домотканую попону.
— Садитесь, что ли. Дорога дальняя.
— А вы кем же работаете? — спросила Вера Васильевна. — Кучером?
— Мы работники, Федосеем меня зовут, Федосом.
— Очень приятно, Федосей, — сказала Вера Васильевна. — А как по батюшке?
— А меня по батюшке не величают, — сказал Федосей. — По батюшке я только в списках, а запросто меня по батюшке не зовут.
Вера Васильевна и Славушка взобрались на телегу и утонули в сене.
— Ой, как мягко! — воскликнул Славушка.
— Тебе удобно? — спросила Вера Васильевна. — Застегни получше пальто, можно простудиться, ты слышал, дорога дальняя.
— Я уже не маленький, мама, — возразил Славушка. — И к тому же на мне калоши.
Федосей сел на грядку телеги, сунул под себя кнутик, дернул вожжами.
— Мил-лай!
— А как ее зовут? — спросил Славушка.
— Чевой-то? — спросил Федосей. — Вы об ком?
— Говорю, как ее зовут? — повторил Славушка, кивая на лошадь.
— Кобылу-то? — переспросил Федосей. — Эту Машкой, а дома еще Павлинка, та постатней, да не объезжена, хозяин на завод бережет…
— Это как на завод? — не понял Славушка.
— Ну, для хозяйства, для хозяйства, — сказала Вера Васильевна. — Та лошадь получше, вот ее и берегут.
— На племя, — разъяснил Федосей. — От ей потомствие будет получше.
Путешественники миновали станционные пакгаузы, миновали громоздкий серый элеватор, и Машка затрусила по широкой, плохо вымощенной дороге с глубокими колеями, полными жидкой грязи.
Федосей подстегнул Машку, повернулся к Вере Васильевне.
— Значит, ты и есть Федор Федорычева барыня? — полувопросительно сказал он и покачал головой. — Мы-то думали…
Он не договорил.
— Кто мы? — спросила Вера Васильевна.
— С жаной мы, — пояснил Федосей. — Мы с Надеждой шестой год у твоей родни…
— Так что же вы думали? — поинтересовалась Вера Васильевна.
— Думали, показистей будешь, — с прежней непосредственностью объяснил Федосей. — А ты и мала и худа, не будут тебя уважать у нас…
Почмокал языком, то ли подгоняя Машку, то ли сочувствуя.
— А сколько верст до Успенского? — спросил Славушка.
— Верст-то? — переспросил Федосей и посмотрел вперед, точно пересчитал лежащие перед ним версты. — Поболе сорока.
Нельзя понять, много это в его представлении или мало.
Славушка рукой обвел окрестность, точно хотел приблизить к себе открывшиеся перед ним однообразные мокрые поля.
— И все так? — спросил он.
— Что так? — переспросил Федосей.
— Поля, — сказал Славушка. — До самого дома?
— Поля-то? — переспросил Федосей и утвердительно кивнул. — До самого дома.
И Славушке подумалось, как скучно жить среди этих мокрых и черных полей.
— Да, мамочка! — вырвалось вдруг у него. — Заехали мы с тобой…
— Ты так думаешь, Славушка? — тихо спросила Вера Васильевна и нахмурилась. — У нас не было иного выхода…
— Да я ничего, — сказал Славушка. — Жить можно везде.
Он вытащил из внутреннего кармана своего пальтишка полученную им в подарок газету… Что-то будет впереди? Славушка вспомнил, как его товарищи по гимназии пытались угадывать будущее: раскрывали наугад какую-нибудь книгу и первую попавшуюся фразу считали предсказанием. Мальчик заглянул в газету и прочел: «В Европе чувствуется дыхание нарастающей пролетарской революции…» К чему бы это?… И снова запихнул газету в карман.
Нескончаемые пустые поля, грязная ухабистая дорога, сердитый осенний ветер, монотонная рысца Машки, не то придурковатый, не то равнодушный ко всему Федосей, так похожий на дикобраза, мать со своими печальными и тревожными глазами и такими же печальными и тревожными раздумьями…
Они находились далеко, очень далеко от Европы.
Поля, поля, бесконечное унылое жнивье, исконная русская деревня, Орловщина, черноземный край…
Отойти бы подальше в комкастое поле, стать над бурой стерней, наклониться, схватить в горсть сырую черную землю и, не боясь ни выпачкаться, ни показаться смешным, прижаться щекой к этой земле, к своей земле, такой нестерпимо холодной и влажной… Вот как можно ощутить свое родство с этой землей!
И ехать дальше — от ветлы на горизонте до ветлы на горизонте.
— Шевелись, мил-лай…
Моросит дождичек. Мелкий, надоедливый… А Славушка чувствует, что он в России: серое небо, серое поле, а он дома.
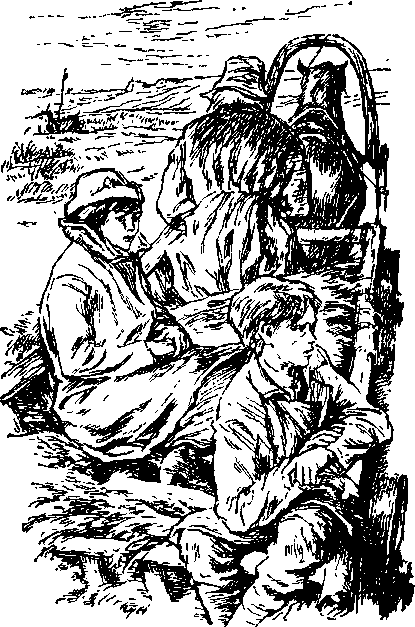
4
— И-ий-ёх! — вскрикивает Федосей и решительно встряхивает вожжами.
Вдали показалась рощица, с краю — облезшие ветлы, а за ними березы, не утратившие прелести даже в конце октября, желтые листья на ветвях трепещут, точно бабочки.
Рощица приблизилась, мелькнули за стволами кресты и остались позади.
Кладбище…
«Что за примета? — подумал Славушка. — К добру? Не к добру?»
Вот и церковь, вот и дома…
Усталая Машка перешла на рысь, даже как-то весело бежит мимо палисадников, за которыми скучно стоят серые домики, мимо новенькой белой церкви, телега прыгает по ухабам, ныряет из колеи в колею, и Славушка понял — это конец пути.
— Чует дом, — хрипло произнес Федосей и кнутом указал на серые домишки. — Поповка.
— Какая Поповка? — спросил Славушка, с огорчением думая, что ошибся. — Деревня?
— Какая деревня? — пренебрежительно сказал Федосей. — Приехали. Успенское. А здеся у нас попы живут.
На крыльце одного из домиков пламенела девица в оранжевом, не по погоде легком платье, всматриваясь в проезжающих.
Федосей искоса взглянул на нее и помахал кнутиком.
— И поповны, — добавил он, натянул вожжи и свернул на деревенскую улицу.
За избами — лужок, проулок, палисадник, дом на высоком фундаменте, тесовая галерея вдоль дома, амбары, сараи, какие-то пристроечки…
— Приехали, — объявил Федосей, подъехав к галерее. — Тпру…
Вечер пал на землю, лишь брезжит белесая галерейка.
— Надежда!
На крыльце появилась босая баба, в кацавейке с короткими рукавами, в клетчатой поневе, с лицом, багровым даже в темноте.
— Примай!
— Какракужи назазализя…
Славушка с трудом, но разбирает: «Как раз к ужину, заждались».
— Айдате прямо по галдарейке в куфню…
Славушка торопливо потянул саквояж из примятого сена, хотел спрыгнуть — и не успел, его приняли сильные руки Федора Федоровича.
— Доехали? — с облегчением спрашивает отчим.
Славушка — на земле, а выбежавший Петя взбирается на телегу.
Федор Федорович протягивает руки жене:
— Наконец-то, Вера…
Тут же, следом за отчимом, появился худощавый мужчина в черной куртке, застегнутой до самого ворота, вразвалочку приблизился к Вере Васильевне.
— Будем знакомы, деверек ваш. Слышу, кричат. Думал, померещилось. Я наказывал Федосею: запоздаете, ночевать в Каменке. Проходите, проходите, маменька очень даже вами интересуются…
Громадные темные сени. Кухня. Четверть помещения занимает громадная печь. Кухня разделена перегородками на три части, в большей, сразу от входа, две скамейки вдоль стены и большой, темный от времени, дощатый стол, прямо за перегородкой собственно кухня, устье печи с шестком, направо закуток с полатями… Целая изба, и не как у бедного мужика!
Все за одним столом, как в феодальном замке, и господа и слуги.
Мальчику вспомнился Вальтер Скотт — мрачная трапезная в поместье какого-нибудь шотландского эсквайра.
Владетельная дама — старуха необъятной толщины, в ситцевом синем капоте, старший сын на возрасте и младший, Федор Федорович, заехавший в родной дом на перепутье, две невзрачные женщины, одна помоложе, востроносенькая, бледненькая, другая, краснорожая, постарше, двое странных субъектов в потрепанных синих мундирах…
Федор Федорович шепчет что-то Вере Васильевне на ухо, и мама прикасается губами к старушечьей щеке, а отчим наказывает Славушке, и тоже шепотом, подойти, поцеловать старухе руку, и Славушка приближается, — рука, пухлая, коричневая от загара, с набрякшими венами, неподвижно лежит на столе, — Славушка наклоняется, и запах прелого белья ударяет ему в нос.
С Петей Славушка так и не успевает поздороваться.
На столе таз с супом, все черпают и несут ложки ко рту, подставляя ломоть хлеба, чтоб не капать.
Павел Федорович взглянул на гостью, оборотился к востроносенькой:
— Нюрка, подай…
Та мигом слетала на чистую половину, принесла тарелку.
Павел Федорович своей ложкой наполнил тарелку, подвинул гостье.
— Мы здесь по-простому, со свиньями из одного корыта хлебаем.
Славушке отдельной тарелки не полагается.
— Мы вас в зале поместим, — обращается Павел Федорович к гостье. — Тут вам и спальня и будуар.
Правильно произнес: «будуар». Приветливо, но не без насмешки.
Прасковья Егоровна мычит, не понять — одобряет ли, возражает, может, к лучшему, что не понять.
Зал! Два дивана с покатыми сиденьями, обтянутыми черной клеенкой, с деревянными выгнутыми спинками, два овальных стола, киот до потолка, загороженный огромным филодендроном, между окон фикусы, застекленная горка, на верхних полках фарфор, на нижних — книги. Жить можно.
— Я устала, Федя, — говорит мужу Вера Васильевна.
— Иди укладывай детей.
Славушка перебирается к Пете.
— Ну как ты? — расспрашивает брата. — Не обижают? С кем подружился? Бандиты здесь есть?
Петя рассказывает. Прасковья Егоровна с трудом двигается после удара, еле ворочает языком, но по-прежнему все ее боятся, даже Павел Федорович, а когда не понимают, сердится, грозит палкой. Павел Федорович весь в хлопотах. Востроносая Нюрка — кухарка, доверенное лицо Павла Федоровича, и, пожалуй, не только доверенное лицо. Багроволицая Надежда и ее муж Федосей — безземельные крестьяне, заколоченная их изба разваливается в Нижней Залегощи, а сами вот уже восьмой год живут у Астаховых в батраках. Кавалеры в синих мундирах — пленные австрийские солдаты, тот, что пониже, Петер Ковач, не то хорват, не то мадьяр, мало чем отличается от русских крестьян, длинный — Франц Шлезингер, управляющий большим конфекционом в самой Вене, оба направлены на работу в хозяйство Астаховых.
— Как же ты проводишь время? — интересуется Славушка.
— Работаю, — хвастается Петя. — Федосей пашет, а я бороню.
Славушка пугается, что его тоже заставят боронить.
— А в школу ходишь?
— Иногда, но чаще я с Федосеем.
Павел Федорович уже приспособил Петю в работники!
— А бандиты здесь есть?
— Самый главный — Быстров!
— Откуда?
— Председатель исполкома. Всех грабит подряд.
Петя рассказывает о Быстрове. У Дроздовых, помещики тут, отнял пианино. Отнимает хлеб у мужиков. В Орле у генерала Харламова отнял жену…
Петя наслышан о многих похождениях Быстрова, и Славушка замирает от желания увидеть этого разбойника.
— Как же его выбрали председателем?
— Разве не слышал, что все большевики — бывшие каторжники?
Они долго еще говорят, пока сон не смежит их веки.
Вдали показалась рощица, с краю — облезшие ветлы, а за ними березы, не утратившие прелести даже в конце октября, желтые листья на ветвях трепещут, точно бабочки.
Рощица приблизилась, мелькнули за стволами кресты и остались позади.
Кладбище…
«Что за примета? — подумал Славушка. — К добру? Не к добру?»
Вот и церковь, вот и дома…
Усталая Машка перешла на рысь, даже как-то весело бежит мимо палисадников, за которыми скучно стоят серые домики, мимо новенькой белой церкви, телега прыгает по ухабам, ныряет из колеи в колею, и Славушка понял — это конец пути.
— Чует дом, — хрипло произнес Федосей и кнутом указал на серые домишки. — Поповка.
— Какая Поповка? — спросил Славушка, с огорчением думая, что ошибся. — Деревня?
— Какая деревня? — пренебрежительно сказал Федосей. — Приехали. Успенское. А здеся у нас попы живут.
На крыльце одного из домиков пламенела девица в оранжевом, не по погоде легком платье, всматриваясь в проезжающих.
Федосей искоса взглянул на нее и помахал кнутиком.
— И поповны, — добавил он, натянул вожжи и свернул на деревенскую улицу.
За избами — лужок, проулок, палисадник, дом на высоком фундаменте, тесовая галерея вдоль дома, амбары, сараи, какие-то пристроечки…
— Приехали, — объявил Федосей, подъехав к галерее. — Тпру…
Вечер пал на землю, лишь брезжит белесая галерейка.
— Надежда!
На крыльце появилась босая баба, в кацавейке с короткими рукавами, в клетчатой поневе, с лицом, багровым даже в темноте.
— Примай!
— Какракужи назазализя…
Славушка с трудом, но разбирает: «Как раз к ужину, заждались».
— Айдате прямо по галдарейке в куфню…
Славушка торопливо потянул саквояж из примятого сена, хотел спрыгнуть — и не успел, его приняли сильные руки Федора Федоровича.
— Доехали? — с облегчением спрашивает отчим.
Славушка — на земле, а выбежавший Петя взбирается на телегу.
Федор Федорович протягивает руки жене:
— Наконец-то, Вера…
Тут же, следом за отчимом, появился худощавый мужчина в черной куртке, застегнутой до самого ворота, вразвалочку приблизился к Вере Васильевне.
— Будем знакомы, деверек ваш. Слышу, кричат. Думал, померещилось. Я наказывал Федосею: запоздаете, ночевать в Каменке. Проходите, проходите, маменька очень даже вами интересуются…
Громадные темные сени. Кухня. Четверть помещения занимает громадная печь. Кухня разделена перегородками на три части, в большей, сразу от входа, две скамейки вдоль стены и большой, темный от времени, дощатый стол, прямо за перегородкой собственно кухня, устье печи с шестком, направо закуток с полатями… Целая изба, и не как у бедного мужика!
Все за одним столом, как в феодальном замке, и господа и слуги.
Мальчику вспомнился Вальтер Скотт — мрачная трапезная в поместье какого-нибудь шотландского эсквайра.
Владетельная дама — старуха необъятной толщины, в ситцевом синем капоте, старший сын на возрасте и младший, Федор Федорович, заехавший в родной дом на перепутье, две невзрачные женщины, одна помоложе, востроносенькая, бледненькая, другая, краснорожая, постарше, двое странных субъектов в потрепанных синих мундирах…
Федор Федорович шепчет что-то Вере Васильевне на ухо, и мама прикасается губами к старушечьей щеке, а отчим наказывает Славушке, и тоже шепотом, подойти, поцеловать старухе руку, и Славушка приближается, — рука, пухлая, коричневая от загара, с набрякшими венами, неподвижно лежит на столе, — Славушка наклоняется, и запах прелого белья ударяет ему в нос.
С Петей Славушка так и не успевает поздороваться.
На столе таз с супом, все черпают и несут ложки ко рту, подставляя ломоть хлеба, чтоб не капать.
Павел Федорович взглянул на гостью, оборотился к востроносенькой:
— Нюрка, подай…
Та мигом слетала на чистую половину, принесла тарелку.
Павел Федорович своей ложкой наполнил тарелку, подвинул гостье.
— Мы здесь по-простому, со свиньями из одного корыта хлебаем.
Славушке отдельной тарелки не полагается.
— Мы вас в зале поместим, — обращается Павел Федорович к гостье. — Тут вам и спальня и будуар.
Правильно произнес: «будуар». Приветливо, но не без насмешки.
Прасковья Егоровна мычит, не понять — одобряет ли, возражает, может, к лучшему, что не понять.
Зал! Два дивана с покатыми сиденьями, обтянутыми черной клеенкой, с деревянными выгнутыми спинками, два овальных стола, киот до потолка, загороженный огромным филодендроном, между окон фикусы, застекленная горка, на верхних полках фарфор, на нижних — книги. Жить можно.
— Я устала, Федя, — говорит мужу Вера Васильевна.
— Иди укладывай детей.
Славушка перебирается к Пете.
— Ну как ты? — расспрашивает брата. — Не обижают? С кем подружился? Бандиты здесь есть?
Петя рассказывает. Прасковья Егоровна с трудом двигается после удара, еле ворочает языком, но по-прежнему все ее боятся, даже Павел Федорович, а когда не понимают, сердится, грозит палкой. Павел Федорович весь в хлопотах. Востроносая Нюрка — кухарка, доверенное лицо Павла Федоровича, и, пожалуй, не только доверенное лицо. Багроволицая Надежда и ее муж Федосей — безземельные крестьяне, заколоченная их изба разваливается в Нижней Залегощи, а сами вот уже восьмой год живут у Астаховых в батраках. Кавалеры в синих мундирах — пленные австрийские солдаты, тот, что пониже, Петер Ковач, не то хорват, не то мадьяр, мало чем отличается от русских крестьян, длинный — Франц Шлезингер, управляющий большим конфекционом в самой Вене, оба направлены на работу в хозяйство Астаховых.
— Как же ты проводишь время? — интересуется Славушка.
— Работаю, — хвастается Петя. — Федосей пашет, а я бороню.
Славушка пугается, что его тоже заставят боронить.
— А в школу ходишь?
— Иногда, но чаще я с Федосеем.
Павел Федорович уже приспособил Петю в работники!
— А бандиты здесь есть?
— Самый главный — Быстров!
— Откуда?
— Председатель исполкома. Всех грабит подряд.
Петя рассказывает о Быстрове. У Дроздовых, помещики тут, отнял пианино. Отнимает хлеб у мужиков. В Орле у генерала Харламова отнял жену…
Петя наслышан о многих похождениях Быстрова, и Славушка замирает от желания увидеть этого разбойника.
— Как же его выбрали председателем?
— Разве не слышал, что все большевики — бывшие каторжники?
Они долго еще говорят, пока сон не смежит их веки.
5
Проснулся Славушка поздно, в комнатах никого, оделся, побежал через сени в кухню, за столом только Вера Васильевна и Федор Федорович, да Надежда возится за перегородкой у загнетки. Самовар остыл, по столу хлебные корки, яичная скорлупа.
— Нельзя так долго спать… — Вера Васильевна наливает сыну чай. — Пей, пожалуйста.
Чай теплый, спитой, но Славушка рад, что мать не ушла без него.
— Мне пора, Вера… — начинает Федор Федорович и не договаривает. — Завтра утром…
— Как, уже? — Вера Васильевна растерянно смотрит — сперва на мужа, затем на сына. — А как же мы?
— Все будет хорошо, — не очень уверенно утешает жену Федор Федорович. — Для чего бы иначе сюда ехать? По крайней мере, не придется голодать.
Вера Васильевна знает: уговаривать Федора Федоровича бесполезно.
— Можно изменять женщинам, но не принципам, — любит он повторять чью-то фразу.
Все-таки она спросила:
— А ты не можешь…
Он покончил с ее колебаниями:
— Не допускаю, чтоб ты могла любить дезертира.
Надежда понимает эти слова по-своему.
— А почему не любить, коль не дурак? — говорит она, выглядывая из-за перегородки. — На деревне беглец — живой покойник, никуда не скрыться, чего ж любить, а в таком хозяйстве, как ваше, очень даже свободно укроешься…
— Как так? — весело спрашивает Федор Федорович.
— Хоть на хуторе, — поясняет Надежда. — Три года там не найдут!
— Пойдем, покажу тебе наше хозяйство, — зовет Федор Федорович жену…
Ключи от построек висят у двери на гвозде, Федор Федорович по-хозяйски снимает всю связку.
Славушка, как тень, неотступно следует за матерью.
Из просторных темных сеней ход и в кухню, и в горницы, и лестница на чердак…
Чистая половина состоит из четырех комнат, в ближней ко входу — буфет, стол, деревянный диван, столовая, за ней зал, отведенный под жилье Вере Васильевне, рядом со столовой спальня Прасковьи Егоровны, а дальше комната Павла Федоровича, наполовину спальня, наполовину кладовая, здесь в сундуках польты, штуки сукна, сатина, вельвета и деньги, как думают все в доме, хотя никто их не видел.
Громадный двор, налево лавка, амбары, подальше пасека, направо сараи с сеном, с инвентарем, конюшня, коровник, свинарник…
Два чувства борются в Астахове, он презирает это хозяйство, знает, как засасывает оно людей, и гордится им — сколько труда потратила мать, чтобы превратить телегу о трех колесах в такое обилие построек и живности.
Впрочем, живности сильно поубавилось за последний год, часть предусмотрительно продана, часть отобрана, стойла пустуют…
Федор Федорович ведет Веру Васильевну из амбара в амбар, пахнет пылью, мукой, кожей, из сарая в сарай, тут другие ароматы — навоза, сена, кислого молока.
Двор замыкает легкая изгородь, две ветлы у калитки, как два сторожа.
— Огород…
Можно бы вернуться, но Федор Федорович настойчиво выводит Веру Васильевну за калитку.
Вот оно, продолговатое кирпичное здание под железной крышей посреди огорода — радость и горе Астаховых…
Мельница с нефтяным двигателем, построенная перед самой войной, ее так и не успели пустить, возникли затруднения с доставкой нефти, не стало рабочих рук… Эксплуатацию мельницы пришлось отложить до лучших времен.
— И какое же у тебя впечатление? — интересуется Федор Федорович.
— Не знаю, — неуверенно произносит Вера Васильевна. — Зачем это все?
Славушка стоял позади отчима и сдирал с березовых жердей изгороди несчищенную бересту.
Пошли обратно.
Прасковья Егоровна топталась у коровника, стучала по земле палкой, мычала.
— М-мы… м-мы…
Федор Федорович подошел к матери.
— Вам что, мамаша?
Она ткнула палкой в сторону невестки и зашаркала в коровник.
— М-мы… м-мы…
Палкой указывала куда-то в угол.
Федор Федорович догадался: в темном углу пустого стойла, прильнув к земле, сидела курица.
— Снеслась?
— Н-ны… н-ны…
— Сейчас возьму.
Но старуха только что не ударила сына палкой, замычала что-то уж совсем гневно, еще раз ткнула палкой в невестку.
— Н-ны!… Н-ны!
— Она хочет, чтобы я… — догадалась Вера Васильевна.
Старуха действительно хотела бы помыкать невестками, заставлять выполнять свои причуды, даже ударить иногда. Павел Федорович лишил ее этого удовольствия, он рад бы жениться, но старуха не позволяет сыну ввести в дом избранницу своего сердца, роман Павла Федоровича с Машкой Зыкиной длится много лет, и Прасковья Егоровна неизменно именует Машку только одним звучным и непристойным словом, исчерпывающе определяющим ее пол. Другой сын привел невестку без спросу, немолода, небогата, вдова, двое пасынков, зато барыня, хорошо бы подчинить ее своей воле, ткнуть в нее костылем и заставить подать хотя бы это куриное яйцо.
Невестка понимает свекровь. Отстранив мужа легким движением руки, ступает за перегородку, сует руку под курицу и подает свекрови яйцо.
Солнечный лучик освещает мертвенное лицо старухи, трясущаяся рука исчезает в складках коричневой юбки.
Обедают опять вместе, хозяева и работники, опять из общей миски, но для Веры Васильевны заранее поставлена тарелка. Павел Федорович крошит вареное мясо, Прасковья Егоровна трясущейся рукой хватает доску с мясом, тянется к Вере Васильевне и ссыпает добрую половину в ее тарелку.
После обеда Федор Федорович зовет жену пойти в школу.
— Надо ж тебя представить…
Славушка тоже выходит с ними.
— Идем, идем, — говорит отчим мальчику, — таких учителей, как Иван Фомич, на всю Россию сто человек.
Село рассечено оврагом, по дну бежит речка, за речкой белый дом, это и есть школа.
За палисадником лужайка, раскатанная дорога, деревенская улица, прямо через дорогу дом Заузольниковых, где помещалась лавка, астаховской не чета, поменьше, поплоше, правее от Заузольниковых кирпичное здание волостного правления, еще правее сторожка, еще правее огород десятины в две, и совсем в отдалении аккуратный домик, в котором почта.
Голубое небо сияет, с утра серело, хмурилось, как и положено в октябре, а сейчас, после обеда, по-летнему сине и бездонно, золотом блестят соломенные крыши, полыхают крашенные суриком железные, даже речка слепит черным блеском, будто впрямь нет у нее дна, хотя на самом деле в любом месте можно перейти по камням.
— Ах, Вера, если б ты знала, какой человек Никитин, — рассказывает Федор Федорович. — Три брата, и все удивительно талантливы. Отец у них самый что ни на есть средний мужичок, при жизни не замечали, и умер как не жил. Зато сыновья… Старший, Митрофан Фомич, вряд ли умеет расписаться, а богаче, пожалуй, нет на селе мужика, батраков не держит, но у него ребят с дюжину, не успеют штаны надеть — как уже в поле. Второй брат, Дмитрий Фомич, бессменный волостной писарь, теперь секретарь волисполкома. Государственный ум! С любой неразберихой идут к нему, рассудит, что твой Соломон, и что решит, так тому быть, для всех здесь последняя инстанция. Но самый талантливый младший, Иван Фомич, директор школы…
О нем Федор Федорович рассказывает с особой охотой, в судьбе Ивана Фомича и Федора Федоровича много общего, оба ушли из деревни, можно сказать, в одних портках, оба выбились в интеллигенты и всем обязаны самим себе.
— Иван Фомич ушел из дома с трешкой в кармане. Работал письмоводителем, телеграфистом, кассиром, окончил экстерном гимназию, поступил в Петербургский университет. Уроки, переписка — все на оплату образования. Трехкопеечные обеды в студенческой столовой: щи без мяса — копейка, две — с мясом, каша тоже копейка, а хлеб бесплатно. Иногда только этим хлебом и жили. Одолжишь копейку на щи и жуешь, и жуешь этот хлеб…
Не так-то просто выбивались мужицкие дети в интеллигенты!
— Окончил университет, защитил магистерскую диссертацию, пригласили в Псков, получил в тамошней гимназии место учителя русского языка. Стал инспектором, директором гимназии, статским советником, а тут революция… И вот встретились мы на днях, так он мундиром своим гордится больше, чем диссертацией. Неразбериха кругом, говорит, Псков того и гляди немцы займут, вернулся на родину, теперь самое время гимназию в Успенском открыть. Называется — трудовая школа второй ступени, но это не суть важно, все равно деревенская гимназия.
У речки Федор Федорович прерывает рассказ.
— Осторожнее, — останавливает жену. — Вода холодная, не поскользнись…
Славушка ступил на камень, вода подбиралась к подошвам, запрыгал с камня на камень: смотрите, мол, как ловко перебираюсь через реку, а реки столько, что не утопить щенка.
— Видишь, Вера? Сперва по голышам, вдоль берега, потом прыгай вверх, по большим камням. Я перейду, подам тебе руку…
Федор Федорович подошел к жене, подхватил на руки, как девочку, перенес через реку.
— Ах, Федя…
Такой у него характер, сперва разъяснит, как поступить, а потом все сделает сам.
Поддерживая жену под руку, Федор Федорович продолжал рассказывать о младшем Никитине.
— Странный человек, перед мужиками гордится тем, что дослужился до статского советника, а перед гимназистами хвастался, что он мужик. «Я в генералы из мужиков выбился, — говорит, — из Пскова уехал, — говорит, — из-за нелюбви к немцам». А на самом деле испугался голода не меньше, чем немцев. Материалист, знает Фейербаха, цитирует Герцена, в бога не верит, а по приезде в Успенское напялил вицмундир и отправился в церковь. «Я, — говорит, — в бога не верю, но обрядность дисциплинирует народ, со временем Советская власть тоже выработает свои обряды». Обряды обрядами, но тщеславия в нем, думаю, больше всего, очень уж хотелось показать односельчанам мундир, смотрите, мол, чего достиг Ванька Никитин, вон кто у вас директор трудовой школы…
Подошли к саду. От каменной ограды остались только обломки кирпичей. Две лиственницы. Множество пней. Ободранный, общипанный сад. Очертания клумб, обрубленная ель, яблони с обломанными ветками…
Белый дом в два этажа, высокие окна, четыре колонны по фасаду и фронтон, украшенный лепными завитушками, — русский ампир, начало девятнадцатого века.
— Вот твоя академия…
Федор Федорович внезапно засмеялся.
— Чему ты смеешься?
— А как же! Опоздай Никитин на два месяца, от здания остались бы рожки да ножки, мужики локти себе кусают, дважды потерять такой дом!
— Дважды?
— Помещикам Озеровым принадлежал дом. Лет сто назад владели тысячей десятин, а к началу века порастряслись, остались дом, службы и десятин сорок земли. В шестнадцатом году, перед самой революцией, продали остатки поместья успенским мужикам. Те посудили, порядили — под школу дом или под больницу — и решили разобрать и поделить все, вплоть до кирпичей и паркета. Ограду и конюшни разобрали, столетние липы вырубили, подобрались к дому, а тут революция… Задаром отдали деньги! Впали мужики в каталептическое состояние, а когда пришли в себя и снова двинулись на штурм дома, подоспел Иван Фомич и наложил на дом свою руку. «Нет, — говорит, — уважаемые товарищи односельчане, не для того делалась революция, чтобы разорять собственную страну, есть у меня, — говорит, — одна идея, в этом самом доме открыть деревенскую гимназию». Мужики, конечно, туда-сюда, зачесали затылки, а он в исполком: «Прошу вынести решение». Ну решение принять проще всего. Никитин — в дом. «Здесь, — говорит, — и школа, и квартира директора». Мужики так про него и говорят: «Озеровы у нас деньги отняли, а Никитин — именье». Вырубили со зла фруктовый сад, а дом… Не то, что разбирать, самим еще пришлось ремонтировать!
С заднего фасада дом выглядел неказисто, стены пожелтели, заднее крыльцо кто-то все ж успел увезти, и везде предостаточно грязи.
На пороге маленькая женщина в пуховом платке счищала с калош землю.
— Ирина Власьевна, жена Ивана Фомича, — сказал Федор Федорович, — А это моя жена…
На Ирине Власьевне Никитин женился в Успенском, из всех учительниц в ближних школах выбрал самую некрасивую.
— Мне нужна семья, — отвечал он, когда ему говорили, что мог он найти жену и покрасивее. — Меня интересует психология, а не физиономия.
Он не ошибся в выборе. Действительно, Ирина Власьевна не блистала красотой, но ее пытливые и даже пронзительные глаза не позволяли обмануться в ней умным людям.
Она испытующе посмотрела на Веру Васильевну.
— Не очень рады приезду сюда?
Федор Федорович помешал жене ответить.
— А где Иван Фомич? — быстро спросил он. — Завтра я уже в путь…
— В свинарнике, где же еще, — ответила Ирина Власьевна, бросила взгляд на дощатый сарайчик, стоящий наискосок от школы, усмехнулась и крикнула: — И-ван Фо-мич, к тебе!
— Давай их сюда, кто там? — не торопясь, ответил певучий бас, и Никитин показался в двери свинарника.
В выцветшей красной неподпоясанной рубахе, в посконных портках, заправленных в яловые рыжие сапоги… Какой там статский советник! Волнистые черные волосы сползают на белый, белейший, можно сказать, мраморный лоб без единой морщинки, живые черные глазки, румяные, как на морозе, щеки, пухлые губы, кудлатая борода. Он, как Нептун, держал в руке вилы, зубьями вверх, и смотрел меж зубьев как через решетку.
— Вера Васильевна! — закричал он, в момент сообразив, кто перед ним, и так, точно давно ждал ее. — Сейчас побеседуем, только добросаю навоз. А пока полюбуйтесь моими свинками…
Повернулся и снова принялся подбирать навоз вилами.
— Уборка на зиму, — пояснил Иван Фомич, не отрываясь от работы. — На Луначарского надежда слаба, не обеспечит, сам не плошай…
Он причмокнул так аппетитно, точно перед ним не живые свиньи, а готовое свиное сало, поиграл еще вилами, сильным ударом воткнул в землю, обтер ладонь о рубашку и подал Вере Васильевне руку.
— Наслышан о вас достаточно, будем теперь знакомы.
— Нельзя так долго спать… — Вера Васильевна наливает сыну чай. — Пей, пожалуйста.
Чай теплый, спитой, но Славушка рад, что мать не ушла без него.
— Мне пора, Вера… — начинает Федор Федорович и не договаривает. — Завтра утром…
— Как, уже? — Вера Васильевна растерянно смотрит — сперва на мужа, затем на сына. — А как же мы?
— Все будет хорошо, — не очень уверенно утешает жену Федор Федорович. — Для чего бы иначе сюда ехать? По крайней мере, не придется голодать.
Вера Васильевна знает: уговаривать Федора Федоровича бесполезно.
— Можно изменять женщинам, но не принципам, — любит он повторять чью-то фразу.
Все-таки она спросила:
— А ты не можешь…
Он покончил с ее колебаниями:
— Не допускаю, чтоб ты могла любить дезертира.
Надежда понимает эти слова по-своему.
— А почему не любить, коль не дурак? — говорит она, выглядывая из-за перегородки. — На деревне беглец — живой покойник, никуда не скрыться, чего ж любить, а в таком хозяйстве, как ваше, очень даже свободно укроешься…
— Как так? — весело спрашивает Федор Федорович.
— Хоть на хуторе, — поясняет Надежда. — Три года там не найдут!
— Пойдем, покажу тебе наше хозяйство, — зовет Федор Федорович жену…
Ключи от построек висят у двери на гвозде, Федор Федорович по-хозяйски снимает всю связку.
Славушка, как тень, неотступно следует за матерью.
Из просторных темных сеней ход и в кухню, и в горницы, и лестница на чердак…
Чистая половина состоит из четырех комнат, в ближней ко входу — буфет, стол, деревянный диван, столовая, за ней зал, отведенный под жилье Вере Васильевне, рядом со столовой спальня Прасковьи Егоровны, а дальше комната Павла Федоровича, наполовину спальня, наполовину кладовая, здесь в сундуках польты, штуки сукна, сатина, вельвета и деньги, как думают все в доме, хотя никто их не видел.
Громадный двор, налево лавка, амбары, подальше пасека, направо сараи с сеном, с инвентарем, конюшня, коровник, свинарник…
Два чувства борются в Астахове, он презирает это хозяйство, знает, как засасывает оно людей, и гордится им — сколько труда потратила мать, чтобы превратить телегу о трех колесах в такое обилие построек и живности.
Впрочем, живности сильно поубавилось за последний год, часть предусмотрительно продана, часть отобрана, стойла пустуют…
Федор Федорович ведет Веру Васильевну из амбара в амбар, пахнет пылью, мукой, кожей, из сарая в сарай, тут другие ароматы — навоза, сена, кислого молока.
Двор замыкает легкая изгородь, две ветлы у калитки, как два сторожа.
— Огород…
Можно бы вернуться, но Федор Федорович настойчиво выводит Веру Васильевну за калитку.
Вот оно, продолговатое кирпичное здание под железной крышей посреди огорода — радость и горе Астаховых…
Мельница с нефтяным двигателем, построенная перед самой войной, ее так и не успели пустить, возникли затруднения с доставкой нефти, не стало рабочих рук… Эксплуатацию мельницы пришлось отложить до лучших времен.
— И какое же у тебя впечатление? — интересуется Федор Федорович.
— Не знаю, — неуверенно произносит Вера Васильевна. — Зачем это все?
Славушка стоял позади отчима и сдирал с березовых жердей изгороди несчищенную бересту.
Пошли обратно.
Прасковья Егоровна топталась у коровника, стучала по земле палкой, мычала.
— М-мы… м-мы…
Федор Федорович подошел к матери.
— Вам что, мамаша?
Она ткнула палкой в сторону невестки и зашаркала в коровник.
— М-мы… м-мы…
Палкой указывала куда-то в угол.
Федор Федорович догадался: в темном углу пустого стойла, прильнув к земле, сидела курица.
— Снеслась?
— Н-ны… н-ны…
— Сейчас возьму.
Но старуха только что не ударила сына палкой, замычала что-то уж совсем гневно, еще раз ткнула палкой в невестку.
— Н-ны!… Н-ны!
— Она хочет, чтобы я… — догадалась Вера Васильевна.
Старуха действительно хотела бы помыкать невестками, заставлять выполнять свои причуды, даже ударить иногда. Павел Федорович лишил ее этого удовольствия, он рад бы жениться, но старуха не позволяет сыну ввести в дом избранницу своего сердца, роман Павла Федоровича с Машкой Зыкиной длится много лет, и Прасковья Егоровна неизменно именует Машку только одним звучным и непристойным словом, исчерпывающе определяющим ее пол. Другой сын привел невестку без спросу, немолода, небогата, вдова, двое пасынков, зато барыня, хорошо бы подчинить ее своей воле, ткнуть в нее костылем и заставить подать хотя бы это куриное яйцо.
Невестка понимает свекровь. Отстранив мужа легким движением руки, ступает за перегородку, сует руку под курицу и подает свекрови яйцо.
Солнечный лучик освещает мертвенное лицо старухи, трясущаяся рука исчезает в складках коричневой юбки.
Обедают опять вместе, хозяева и работники, опять из общей миски, но для Веры Васильевны заранее поставлена тарелка. Павел Федорович крошит вареное мясо, Прасковья Егоровна трясущейся рукой хватает доску с мясом, тянется к Вере Васильевне и ссыпает добрую половину в ее тарелку.
После обеда Федор Федорович зовет жену пойти в школу.
— Надо ж тебя представить…
Славушка тоже выходит с ними.
— Идем, идем, — говорит отчим мальчику, — таких учителей, как Иван Фомич, на всю Россию сто человек.
Село рассечено оврагом, по дну бежит речка, за речкой белый дом, это и есть школа.
За палисадником лужайка, раскатанная дорога, деревенская улица, прямо через дорогу дом Заузольниковых, где помещалась лавка, астаховской не чета, поменьше, поплоше, правее от Заузольниковых кирпичное здание волостного правления, еще правее сторожка, еще правее огород десятины в две, и совсем в отдалении аккуратный домик, в котором почта.
Голубое небо сияет, с утра серело, хмурилось, как и положено в октябре, а сейчас, после обеда, по-летнему сине и бездонно, золотом блестят соломенные крыши, полыхают крашенные суриком железные, даже речка слепит черным блеском, будто впрямь нет у нее дна, хотя на самом деле в любом месте можно перейти по камням.
— Ах, Вера, если б ты знала, какой человек Никитин, — рассказывает Федор Федорович. — Три брата, и все удивительно талантливы. Отец у них самый что ни на есть средний мужичок, при жизни не замечали, и умер как не жил. Зато сыновья… Старший, Митрофан Фомич, вряд ли умеет расписаться, а богаче, пожалуй, нет на селе мужика, батраков не держит, но у него ребят с дюжину, не успеют штаны надеть — как уже в поле. Второй брат, Дмитрий Фомич, бессменный волостной писарь, теперь секретарь волисполкома. Государственный ум! С любой неразберихой идут к нему, рассудит, что твой Соломон, и что решит, так тому быть, для всех здесь последняя инстанция. Но самый талантливый младший, Иван Фомич, директор школы…
О нем Федор Федорович рассказывает с особой охотой, в судьбе Ивана Фомича и Федора Федоровича много общего, оба ушли из деревни, можно сказать, в одних портках, оба выбились в интеллигенты и всем обязаны самим себе.
— Иван Фомич ушел из дома с трешкой в кармане. Работал письмоводителем, телеграфистом, кассиром, окончил экстерном гимназию, поступил в Петербургский университет. Уроки, переписка — все на оплату образования. Трехкопеечные обеды в студенческой столовой: щи без мяса — копейка, две — с мясом, каша тоже копейка, а хлеб бесплатно. Иногда только этим хлебом и жили. Одолжишь копейку на щи и жуешь, и жуешь этот хлеб…
Не так-то просто выбивались мужицкие дети в интеллигенты!
— Окончил университет, защитил магистерскую диссертацию, пригласили в Псков, получил в тамошней гимназии место учителя русского языка. Стал инспектором, директором гимназии, статским советником, а тут революция… И вот встретились мы на днях, так он мундиром своим гордится больше, чем диссертацией. Неразбериха кругом, говорит, Псков того и гляди немцы займут, вернулся на родину, теперь самое время гимназию в Успенском открыть. Называется — трудовая школа второй ступени, но это не суть важно, все равно деревенская гимназия.
У речки Федор Федорович прерывает рассказ.
— Осторожнее, — останавливает жену. — Вода холодная, не поскользнись…
Славушка ступил на камень, вода подбиралась к подошвам, запрыгал с камня на камень: смотрите, мол, как ловко перебираюсь через реку, а реки столько, что не утопить щенка.
— Видишь, Вера? Сперва по голышам, вдоль берега, потом прыгай вверх, по большим камням. Я перейду, подам тебе руку…
Федор Федорович подошел к жене, подхватил на руки, как девочку, перенес через реку.
— Ах, Федя…
Такой у него характер, сперва разъяснит, как поступить, а потом все сделает сам.
Поддерживая жену под руку, Федор Федорович продолжал рассказывать о младшем Никитине.
— Странный человек, перед мужиками гордится тем, что дослужился до статского советника, а перед гимназистами хвастался, что он мужик. «Я в генералы из мужиков выбился, — говорит, — из Пскова уехал, — говорит, — из-за нелюбви к немцам». А на самом деле испугался голода не меньше, чем немцев. Материалист, знает Фейербаха, цитирует Герцена, в бога не верит, а по приезде в Успенское напялил вицмундир и отправился в церковь. «Я, — говорит, — в бога не верю, но обрядность дисциплинирует народ, со временем Советская власть тоже выработает свои обряды». Обряды обрядами, но тщеславия в нем, думаю, больше всего, очень уж хотелось показать односельчанам мундир, смотрите, мол, чего достиг Ванька Никитин, вон кто у вас директор трудовой школы…
Подошли к саду. От каменной ограды остались только обломки кирпичей. Две лиственницы. Множество пней. Ободранный, общипанный сад. Очертания клумб, обрубленная ель, яблони с обломанными ветками…
Белый дом в два этажа, высокие окна, четыре колонны по фасаду и фронтон, украшенный лепными завитушками, — русский ампир, начало девятнадцатого века.
— Вот твоя академия…
Федор Федорович внезапно засмеялся.
— Чему ты смеешься?
— А как же! Опоздай Никитин на два месяца, от здания остались бы рожки да ножки, мужики локти себе кусают, дважды потерять такой дом!
— Дважды?
— Помещикам Озеровым принадлежал дом. Лет сто назад владели тысячей десятин, а к началу века порастряслись, остались дом, службы и десятин сорок земли. В шестнадцатом году, перед самой революцией, продали остатки поместья успенским мужикам. Те посудили, порядили — под школу дом или под больницу — и решили разобрать и поделить все, вплоть до кирпичей и паркета. Ограду и конюшни разобрали, столетние липы вырубили, подобрались к дому, а тут революция… Задаром отдали деньги! Впали мужики в каталептическое состояние, а когда пришли в себя и снова двинулись на штурм дома, подоспел Иван Фомич и наложил на дом свою руку. «Нет, — говорит, — уважаемые товарищи односельчане, не для того делалась революция, чтобы разорять собственную страну, есть у меня, — говорит, — одна идея, в этом самом доме открыть деревенскую гимназию». Мужики, конечно, туда-сюда, зачесали затылки, а он в исполком: «Прошу вынести решение». Ну решение принять проще всего. Никитин — в дом. «Здесь, — говорит, — и школа, и квартира директора». Мужики так про него и говорят: «Озеровы у нас деньги отняли, а Никитин — именье». Вырубили со зла фруктовый сад, а дом… Не то, что разбирать, самим еще пришлось ремонтировать!
С заднего фасада дом выглядел неказисто, стены пожелтели, заднее крыльцо кто-то все ж успел увезти, и везде предостаточно грязи.
На пороге маленькая женщина в пуховом платке счищала с калош землю.
— Ирина Власьевна, жена Ивана Фомича, — сказал Федор Федорович, — А это моя жена…
На Ирине Власьевне Никитин женился в Успенском, из всех учительниц в ближних школах выбрал самую некрасивую.
— Мне нужна семья, — отвечал он, когда ему говорили, что мог он найти жену и покрасивее. — Меня интересует психология, а не физиономия.
Он не ошибся в выборе. Действительно, Ирина Власьевна не блистала красотой, но ее пытливые и даже пронзительные глаза не позволяли обмануться в ней умным людям.
Она испытующе посмотрела на Веру Васильевну.
— Не очень рады приезду сюда?
Федор Федорович помешал жене ответить.
— А где Иван Фомич? — быстро спросил он. — Завтра я уже в путь…
— В свинарнике, где же еще, — ответила Ирина Власьевна, бросила взгляд на дощатый сарайчик, стоящий наискосок от школы, усмехнулась и крикнула: — И-ван Фо-мич, к тебе!
— Давай их сюда, кто там? — не торопясь, ответил певучий бас, и Никитин показался в двери свинарника.
В выцветшей красной неподпоясанной рубахе, в посконных портках, заправленных в яловые рыжие сапоги… Какой там статский советник! Волнистые черные волосы сползают на белый, белейший, можно сказать, мраморный лоб без единой морщинки, живые черные глазки, румяные, как на морозе, щеки, пухлые губы, кудлатая борода. Он, как Нептун, держал в руке вилы, зубьями вверх, и смотрел меж зубьев как через решетку.
— Вера Васильевна! — закричал он, в момент сообразив, кто перед ним, и так, точно давно ждал ее. — Сейчас побеседуем, только добросаю навоз. А пока полюбуйтесь моими свинками…
Повернулся и снова принялся подбирать навоз вилами.
— Уборка на зиму, — пояснил Иван Фомич, не отрываясь от работы. — На Луначарского надежда слаба, не обеспечит, сам не плошай…
Он причмокнул так аппетитно, точно перед ним не живые свиньи, а готовое свиное сало, поиграл еще вилами, сильным ударом воткнул в землю, обтер ладонь о рубашку и подал Вере Васильевне руку.
— Наслышан о вас достаточно, будем теперь знакомы.
