Страница:
Наверняка Ахматова, в сердцах, в «дни разрыва», и впрямь горько жаловалась Лидии Корнеевне, что Пунин постоянно раздражен житейской ее беспомощностью (они, мол, надрываются, пытаясь заработать хотя бы прожиточный минимум, а она…) И все-таки, исходя только из опубликованных текстов, включая и переписку Пунина и Ахматовой, предполагаю, что и сама Анна Андреевна, а за ней и Чуковская-дочь, сложением усилий, сильно огрубили, хотя и по разным причинам, ситуацию. И в данном конкретном случае и вообще. Николая Николаевича действительно сильно угнетало безденежье, но (см. Дневник, уж он-то не лжесвидетельствует!) не потому, что был скуп, а потому, что не мог, как хотелось бы, не считать рубли и копейки. Когда-то, в самом начале растянувшегося на семилетие жениховства, двадцатипятилетний Пунин писал будущей жене:
«Я знаю, что к Вам я могу прислониться, как к камню, если меня задавит жизнь» (письмо от 17 июля 1913 г.). В отношениях с Анной Андреевной, равно как и с многочисленными родственниками, особенно после того, как на него свалились заботы о семье младшего брата Анны Евгеньевны, репрессированного за «происхождение», Пунину пришлось годами исполнять роль камня, к которому могли бы «прислониться» те, кто слабее и несчастнее.
Согласитесь, одно дело родиться человеком камня, и совсем другое – окаменеть под слишком высоким давлением обстоятельств, да еще и стать «упорным работником», вовсе не будучи таковым по генетическому предопределению…
Среди ахматовских «заботников» и «заботниц» антипунинцы составляют весьма внушительный подотряд. Особенно не по сердцу им то, что Анна Андреевна, когда наконец-то стала прилично зарабатывать стихотворными переводами, была нерасчетливо, по-королевски щедра к «девочкам Пуниным» – к дочери его и внучке. На намеки подобного рода Ахматова, как уже вскользь упоминалось, никогда не откликалась: переносила их молча. Не могла же она в самом деле сказать, что отдает взятое в долг? Но это было уже после смерти Николая Николаевича. А при его жизни любую ситуацию мысленно (и не только!) разворачивала так, что в должниках оказывался один он. Конечно, Анна Андреевна и тогда прекрасно знала, какого нервного напряжения стоила Пунину (его ведь даже от мобилизации в 14-м году медкомиссия освободила по причине крайней нервности) вынужденная твердокаменность. Но ей нравилось быть несправедливой! Несправедливость утишала обиду, которую приходилось скрывать: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву!» Драма Пунина, похоже, тем и кровоточила, что его не-выбором оказались одинаково сильно оскорблены обе Анны. Анна Евгеньевна отрицательных эмоций не таила. Анна Андреевна долго переносила двусмысленное свое положение тихо и молча. Хотя это вовсе не означало, что милый друг Легкое Сердце, который так и не развелся ради нее с женой, прощен и оправдан. А кроме того, на взгляд Анны Андреевны, унаследовавшей от матери почти патологическое равнодушие к надежной собственности (Ахматова, как известно, немедленно раздаривала даже преподнесенные ей подарки), Николай Николаевич, страдающий из-за безденежья (нечем заплатить за дрова, за художественную штопку выходной, лекционной, пиджачной пары, за сливочное масло для дочери, перенесшей тяжелую операцию, и т. п.) – и впрямь выглядел скупердяем…
Считается также, с легкой, точнее, тяжелой, руки Надежды Яковлевны Мандельштам, что Пунин сына Анны Андреевны не переносил и при его виде сразу начинал «пунические войны». Отчасти это подтверждает и его знаменитое Письмо к Ахматовой (из Самарканда в Ташкент от 14 апреля 1942 года), где Николай Николаевич признает за собой вину перед Левой. Действительно для Пуниных Лева был дичком из Бежецка, с их Акумой как бы и не имеющим прямого родства. В Фонтанном Доме его не воспринимали как равноправного члена семьи даже тогда, когда он уже учился в Ленинграде. Что до Николая Николаевича, то он, вообще-то любивший детей, именно этого мальчика действительно не любил. Гумилев-сын в подростковом возрасте стал слишком уж походить на своего отца. И повадкой, и странностями, и завиральностью идей. До декабря 1924 года Пунин к мертвому Николаю Степановичу практически Анну Андреевну не ревновал, спокойно отмечая в Дневнике, что она правильно сделала, уйдя от Гумилева и порвав с «богемой». Но в начале того декабря в дом к Ахматовой заявился обходительный и обаятельный молодой человек – Павел Николаевич Лукницкий, вздумавший собирать материалы к биографии Н. С. Гумилева, и они, Лукницкий и Ахматова, закопались и окопались в этих материалах на целых пять лет. Было от чего заревновать, тем паче, что молодой человек ненароком в Анну Андреевну влюбился, и не на шутку. Однако дело, думаю, не только в ревности Николая Пунина к Николаю Гумилеву. Дело, как мне представляется, скорее в том, что Пунин вообще не любил тех, кто его не любил. А этот мальчишка, нескладный и странный, его откровенно не выносил, невзлюбив заочно, до личного знакомства. Наверное, другой человек, не-пунинской складки, попав в аналогичную ситуацию, постарался бы завоевать если не сердце, то хотя бы лояльность трудного подростка. Пунин же нелюбовь к себе преодолевать не умел. Он даже женщин не выбирал сам. Ждал, когда та или иная сделает ему разрешающий приближение знак. Так было с женой. Так было и с Ахматовой. При всей своей чуткости Анна Андреевна этого, видимо, не замечала по более чем понятной (со стороны!) причине: все остальные мужчины ее судьбы были из рода завоевателей. А Пунин… Десять, какое там, четырнадцать лет ходил мимо, а стоило ей сделать еле заметный шажок навстречу – всего лишь записка с приглашением в «Звучащую раковину» (август – начало сентября 1922), а он – и месяца не прошло – уже «не может без нее» (письмо от 19 октября 1922 г.). И это при том, что приглашение вовсе не содержало в себе никаких намеков, наоборот. Поэтическую студию «Звучащая раковина» вел до своей гибели Гумилев, заседание, на которое Ахматова звала Николая Николаевича, устраивалось негласно к годовщине его гибели на частной квартире. Как объяснил ей эту странность Пунин, мы не знаем. Ни Дневник, ни письма к Анне Андреевне ответа не дают. По всей вероятности, как-то объяснил. Но, видимо, не настолько внятно, чтобы Анна Андреевна время от времени не возвращалась к этой загадке. В воспоминаниях Фаины Раневской сохранен такой эпизод:
Ахматова заговорила с Раневской об этой обиде – встретился взглядом и не узнал!!! – в декабре 1964-го. Поскольку она всегда отмечала всякого рода годовщины, можно предположить, что данный эпизод произошел ровно полвека назад, в декабре 1914-го, а может быть, даже 1 декабря! Потому что именно 1 декабря 1924 года, то есть в первую десятилетнюю годовщину их роковой невстречи, Анна Андреевна в открытую сказала Пунину:
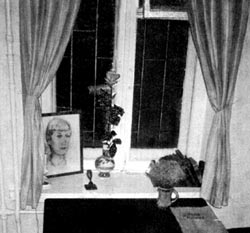




Когда-то, в 1916 г., Марина Цветаева возвела Анну Ахматову в высочайший чин:
На обратном пути из Лондона, хотя на это и не было спецразрешения, Ахматова, благодаря счастливому стечению обстоятельств, на несколько дней задержалась в Париже.

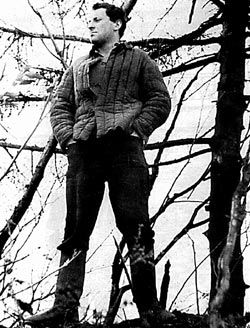

ПОЭМЫ

И она рискнула! Блоку мешал Толстой, ей – южные поэмы Пушкина, но она все-таки написала настоящую, свою, от первой до последней строчки – ахматовскую, поэму про дикую девочку, родившуюся у самого синего моря, на улице Хрустальной, и о заморском царевиче, который ee, «мертвую царевну», так и не «расколдовал»…
 Эта фотография – единственное изображение замужней Ахматовой, в котором можно угадать «дикую девочку», шальную и быстроногую.
Эта фотография – единственное изображение замужней Ахматовой, в котором можно угадать «дикую девочку», шальную и быстроногую.
У САМОГО МОРЯ
«Я знаю, что к Вам я могу прислониться, как к камню, если меня задавит жизнь» (письмо от 17 июля 1913 г.). В отношениях с Анной Андреевной, равно как и с многочисленными родственниками, особенно после того, как на него свалились заботы о семье младшего брата Анны Евгеньевны, репрессированного за «происхождение», Пунину пришлось годами исполнять роль камня, к которому могли бы «прислониться» те, кто слабее и несчастнее.
Согласитесь, одно дело родиться человеком камня, и совсем другое – окаменеть под слишком высоким давлением обстоятельств, да еще и стать «упорным работником», вовсе не будучи таковым по генетическому предопределению…
Среди ахматовских «заботников» и «заботниц» антипунинцы составляют весьма внушительный подотряд. Особенно не по сердцу им то, что Анна Андреевна, когда наконец-то стала прилично зарабатывать стихотворными переводами, была нерасчетливо, по-королевски щедра к «девочкам Пуниным» – к дочери его и внучке. На намеки подобного рода Ахматова, как уже вскользь упоминалось, никогда не откликалась: переносила их молча. Не могла же она в самом деле сказать, что отдает взятое в долг? Но это было уже после смерти Николая Николаевича. А при его жизни любую ситуацию мысленно (и не только!) разворачивала так, что в должниках оказывался один он. Конечно, Анна Андреевна и тогда прекрасно знала, какого нервного напряжения стоила Пунину (его ведь даже от мобилизации в 14-м году медкомиссия освободила по причине крайней нервности) вынужденная твердокаменность. Но ей нравилось быть несправедливой! Несправедливость утишала обиду, которую приходилось скрывать: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву!» Драма Пунина, похоже, тем и кровоточила, что его не-выбором оказались одинаково сильно оскорблены обе Анны. Анна Евгеньевна отрицательных эмоций не таила. Анна Андреевна долго переносила двусмысленное свое положение тихо и молча. Хотя это вовсе не означало, что милый друг Легкое Сердце, который так и не развелся ради нее с женой, прощен и оправдан. А кроме того, на взгляд Анны Андреевны, унаследовавшей от матери почти патологическое равнодушие к надежной собственности (Ахматова, как известно, немедленно раздаривала даже преподнесенные ей подарки), Николай Николаевич, страдающий из-за безденежья (нечем заплатить за дрова, за художественную штопку выходной, лекционной, пиджачной пары, за сливочное масло для дочери, перенесшей тяжелую операцию, и т. п.) – и впрямь выглядел скупердяем…
Считается также, с легкой, точнее, тяжелой, руки Надежды Яковлевны Мандельштам, что Пунин сына Анны Андреевны не переносил и при его виде сразу начинал «пунические войны». Отчасти это подтверждает и его знаменитое Письмо к Ахматовой (из Самарканда в Ташкент от 14 апреля 1942 года), где Николай Николаевич признает за собой вину перед Левой. Действительно для Пуниных Лева был дичком из Бежецка, с их Акумой как бы и не имеющим прямого родства. В Фонтанном Доме его не воспринимали как равноправного члена семьи даже тогда, когда он уже учился в Ленинграде. Что до Николая Николаевича, то он, вообще-то любивший детей, именно этого мальчика действительно не любил. Гумилев-сын в подростковом возрасте стал слишком уж походить на своего отца. И повадкой, и странностями, и завиральностью идей. До декабря 1924 года Пунин к мертвому Николаю Степановичу практически Анну Андреевну не ревновал, спокойно отмечая в Дневнике, что она правильно сделала, уйдя от Гумилева и порвав с «богемой». Но в начале того декабря в дом к Ахматовой заявился обходительный и обаятельный молодой человек – Павел Николаевич Лукницкий, вздумавший собирать материалы к биографии Н. С. Гумилева, и они, Лукницкий и Ахматова, закопались и окопались в этих материалах на целых пять лет. Было от чего заревновать, тем паче, что молодой человек ненароком в Анну Андреевну влюбился, и не на шутку. Однако дело, думаю, не только в ревности Николая Пунина к Николаю Гумилеву. Дело, как мне представляется, скорее в том, что Пунин вообще не любил тех, кто его не любил. А этот мальчишка, нескладный и странный, его откровенно не выносил, невзлюбив заочно, до личного знакомства. Наверное, другой человек, не-пунинской складки, попав в аналогичную ситуацию, постарался бы завоевать если не сердце, то хотя бы лояльность трудного подростка. Пунин же нелюбовь к себе преодолевать не умел. Он даже женщин не выбирал сам. Ждал, когда та или иная сделает ему разрешающий приближение знак. Так было с женой. Так было и с Ахматовой. При всей своей чуткости Анна Андреевна этого, видимо, не замечала по более чем понятной (со стороны!) причине: все остальные мужчины ее судьбы были из рода завоевателей. А Пунин… Десять, какое там, четырнадцать лет ходил мимо, а стоило ей сделать еле заметный шажок навстречу – всего лишь записка с приглашением в «Звучащую раковину» (август – начало сентября 1922), а он – и месяца не прошло – уже «не может без нее» (письмо от 19 октября 1922 г.). И это при том, что приглашение вовсе не содержало в себе никаких намеков, наоборот. Поэтическую студию «Звучащая раковина» вел до своей гибели Гумилев, заседание, на которое Ахматова звала Николая Николаевича, устраивалось негласно к годовщине его гибели на частной квартире. Как объяснил ей эту странность Пунин, мы не знаем. Ни Дневник, ни письма к Анне Андреевне ответа не дают. По всей вероятности, как-то объяснил. Но, видимо, не настолько внятно, чтобы Анна Андреевна время от времени не возвращалась к этой загадке. В воспоминаниях Фаины Раневской сохранен такой эпизод:
«В тот вечер мы вдруг заговорили о том, что в жизни каждой из нас было самого страшного. Зная ее жизнь, я замерла. Она рассказывала первой. Вспомнила, как однажды шла в Петербурге по Невскому – народу почему-то было немного – и вдруг увидела идущего ей навстречу Пунина… „У меня была доля секунды, чтобы как-то собраться, вытянуться, выглядеть так, как хотелось бы. Я успела. Пунин встретился со мной взглядом и, „не узнав“, прошел мимо. Вы знаете, Фаина, в моей жизни было много всего. Но именно эта невстреча оставила самое гнетущее чувство. До сих пор не могу от него избавиться. Вам это не кажется странным?“Процитированный фрагмент из дневниковых замет Ф.Г. Раневской, датированный декабрем 1964 года, общеизвестен, но не отрефлектирован. На всякий случай его, без объяснений, привязывают к периоду «разрыва» (вторая половина 30-х годов) и помещают в раздел «Комментарии», не замечая, что эта датировка делает из Анны Ахматовой полусумасшедшую и нелепую старуху. Через одиннадцать лет после трагической в инвалидном лагере гибели Николая Николаевича злопамятно вспоминать как самое страшное в своей жизни то, что он, видите ли, прошел мимо нее на Невском! И когда? В то время, когда они, живя в одной квартире, не разговаривали и, сталкиваясь у туалета, делали вид, что не видят друг друга? Но все-все подробности этого рассказа обретут совсем иной, важный смысл, если мы поставим его в правильный временной и ситуационный контекст, то есть отнесем к началу века. Ведь Ахматова, называя «город на Неве» по имени, аккуратно употребляла именно то, каким его называли в народе («Петербург в 1913 году, Питер – в 1918-м, Ленинград в 1941-м). Следовательно, случай на Невском в Петербурге мог произойти лишь тогда, когда Ленинград – Питер был еще Петербургом, то есть до первой войны или в самом ее начале, может быть, вскоре после 24 октября 1914 года, когда Пунин и Ахматова, впервые оказавшись вдвоем в царскосельском поезде, разговорились, и Анна Андреевна, видимо, полагала, что произвела на своего спутника сильное впечатление. Неудивительно, что, случайно встретив его на Невском, разволновалась и „подобралась“ – чтобы выглядеть как хотелось!
Ахматова заговорила с Раневской об этой обиде – встретился взглядом и не узнал!!! – в декабре 1964-го. Поскольку она всегда отмечала всякого рода годовщины, можно предположить, что данный эпизод произошел ровно полвека назад, в декабре 1914-го, а может быть, даже 1 декабря! Потому что именно 1 декабря 1924 года, то есть в первую десятилетнюю годовщину их роковой невстречи, Анна Андреевна в открытую сказала Пунину:
«Я тебе не могу простить, что ты прошел мимо… в начале XX».Словом, в год последних итогов, в присутствии Фаины Раневской Анна Андреевна положила в «укладку», да так, чтобы легла сверху, записочку, в которой «наискосок» ответила на неизбежный и для читателей, и для биографов вопрос, кого же из многих и разных мужчин своей судьбы она и вправду любила? Ежели б не любила, не стала бы, на старости, проживая сызнова миновавшую жизнь, представлять себе, как бы сложилась ее судьба, если бы тогда, на Невском еще неженатый Пунин не прошел мимо.
«Приехал к ней из Стокгольма почтительный швед, писавший о ней какую-то ученую книгу. Через два-три дня ее спросили, пришлись ли ей по душе те суждения, какие он высказал об ее даровании.
Анна Андреевна мгновенно ответила:
– Я никогда не видела такой ослепительной белой рубашки, как та, что была на нем. Мы тут воевали, устраивали революцию, голодали, снова воевали, а шведы все эти годы сти-и-рали и гла-а-дили эту рубашку.
Последние слова Анна Андреевна произнесла очень протяжно».
Корней Иванович Чуковский, На воспоминаний об Анне Ахматовой
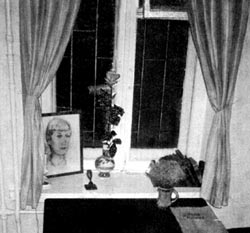
Комната Анны Андреевны на Ордынке, в Москве, в квартире Ардовых

Анна Ахматова. Комарово. 1962 г.
* * *
«…К ней приходили почти ежедневно – и в Ленинграде, и в Комарове. Не говоря уже о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называлось „ахматовкой“… Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и – воспользуюсь ее собственным выражением – беспастушна. Близкие знакомые называли ее „королева-бродяга“; и действительно, в ее облике – особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры – было нечто от странствующей бесприютной государыни. Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали по мере сил…
Существование это было не слишком комфортабельное, но тем не менее все-таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она любила многих. То есть каким-то образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю и этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших».
Иосиф Бродский

Анна Ахматова. 1962 г.
Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи – побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.В 1961 году по Москве полетел слух, что Ахматова, вслед за Пастернаком, выдвинута на Нобелевскую премию. Анна Андреевна и обрадовалась, и всполошилась: а ну как выплывет потаенный «Реквием» и у нее, а главное, у сына, наконец-то защитившего докторскую диссертацию, опять начнутся соответствующие неприятности. Нобеля в том году, к счастью, получил другой поэт, и тогда итальянцы, продолжающие считать родину Данте центром мировой поэзии, присудили Анне Ахматовой более скромную, но ничуть не менее престижную литературную премию «Этна-Таормина». Первого декабря 1964 года в сопровождении Ирины Пуниной она вылетела из Ленинграда; Анну Всея Руси наконец-то выпустили за границу, в Италию; до Вены самолетом, а оттуда через Альпы поездом.
Анна Ахматова, «Коротко о себе»
Альпы. Зимой зрелище мрачное. Снова вспоминаю сон 30 авг<уста> о хаосе. Скорость самолетная. Мне – дурно…
Подъезжаем к Риму. Все розово-ало. Похоже на мой последний незабвенный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, простившись навсегда с Н. В. Н<едоброво>.
Рим. Первое ощущенье чьего-то огромного, небывалого торжества. Передать словами еще не могу, однако, надежду не теряю.
Hotel Plaza… Я – все еще не в себе после Альп.
Cafe Греко. Автограф Гоголя. («Я только в Риме могу писать о России…») Там весь 19 век. Старомодно и очаровательно. (Не о Р<име>, конечно, а Cafe Греко.)
Воскресенье. На площади Св<ятого> Петра. Папа. Чувство, что время работает на нас, т. е. на русскую культуру.
В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом. Очень страшно! (Или Бога с Сатаной.)
В Катанье. В древнейшем дворце Урсино (15 век) 12 дек<абря> 1964 я прочла мою «Музу». Огромная внешняя лестница казалась неодолимым препятствием. Думала – не дойду. Мерещились факелы и стук копыт… Дорога в Рим трудная.
Анна Ахматова, Из «Записных книжек»

Анна Ахматова после вручения премии «Этна-Таормина» вместе с членами комитета по премиям. Италия. 1964 г.
Церемония вручения премии «Этна-Таормина» состоялась 12 декабря 1964 года в старинном замке Урсино. Присутствовавшая на этом торжестве итальянская писательница Джанна Мандзини вспоминает:«Речи, вручение премии, аплодисменты и аплодисменты. Все время сидя, с выпрямленными плечами и высоко поднятой головой, она произнесла короткую благодарственную речь. Но повернулась, захваченная врасплох, когда ей преподнесли в подарок сицилийскую марионетку. Она улыбнулась. Взгляд блеснул, как лезвие, когда, нагнувшись, она внимательно и с удивлением всматривалась в эту странную игрушку для взрослых.
Еще больше тронуло меня, когда ей подарили большую «Божественную Комедию» в издании «Канези» с иллюстрациями Боттичелли. Меня тронуло не только радостное и восхищенное «О!», которое ее губы явственно обрисовали, но и то, что она сразу же поспешно надела очки, совсем просто, по-домашнему. Она больше не сидела за почетным столом. Она была за своим рабочим столиком наедине с высочайшим произведением, далеко от всяких торжественных церемоний.
Повторяю, она все время сидела. Но, когда ее попросили прочесть какое-нибудь короткое стихотворение, она встала. Она встала ради поэзии.
Что за голос! – чуть гортанный, широкий – открытый горизонт и древний плач…
Стихотворение, которое она любезно согласилась прочитать нам, не было, не могло быть тем, посвященным Данте. Но мне нравится думать, что это было оно.
Поэт-изгнанник, увиденный ею, удивляет и волнует меня…»

О.А. Глебова-Судейкина с куклой собственной работы
Итальянский сувенир, сицилийская марионетка, возвращал ее в молодость: подруга Анны Андреевны Ольга Судейкина, актриса и танцовщица, – «Коломбина 10-х годов», помимо всего прочего, мастерила замечательных театральных кукол, и когда в начале 20-х гг. они жили вместе, Ахматову окружали и развлекали Ольгины марионетки.Когда-то, в 1916 г., Марина Цветаева возвела Анну Ахматову в высочайший чин:
В Италии Ахматову чествовали как Великую княгиню Русской поэзии. По всей вероятности, именно с этим событием и с воспоминаниями о Цветаевой, о которой много говорили в Париже, связано «непонятное» двустишие:
Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу —
Ветер, голос мой донеси.
Нужен мне он или не нужен —
Этот титул мной заслужен.
1965
* * *
По возвращении из Италии на родину Ахматова получила и еще один подарок к новому, 1965 году: приглашение в Англию – по случаю присуждения ей звания почетного доктора литературы. Инициатором выдвижения был Оксфордский университет.
И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это – только рана
И муки облачко над ней.
18 декабря. Рим. Ночь
На обратном пути из Лондона, хотя на это и не было спецразрешения, Ахматова, благодаря счастливому стечению обстоятельств, на несколько дней задержалась в Париже.

Анна Ахматова и Анна Каминская. Лондон. 5 июня 1965 г.
Георгий Адамович вспоминает:«Анна Андреевна провела в Париже три дня. Был я у нее три раза. При первой же встрече я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу, где дважды была она в ранней молодости, больше чем полвека тому назад. Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы неведомом.
Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно, восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже… сколько раз он тут у меня бывал», – тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и наконец отправились на Монпарнас, завтракать в «Купель», шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.
Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула и наконец сказала:
– Если бы вы знали, что это!… вот так сидеть… а вокруг все эти люди, эта молодежь… входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные…
Фразу она оборвала, своего «если бы вы знали» не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно».
Георгий Адамович, «Мои встречи с Ахматовой»
«…В последних числах мая 1965 года Ахматова… приехала в Англию для получения в Оксфорде звания доктора honoris causa. На обратном пути ей было разрешено остановиться в Париже… В эти дни у меня с Ахматовой были три встречи, продолжавшиеся в общей сложности более восьми часов… Вести разговор было нелегко, в комнату все время входили люди. В какой-то момент, по ее просьбе, я подсел к ней. Она вынула из сумки фотографию и рукопись: „Смотрите, мне только что принесли“. Это была семейная фотография 1916 года: слева Гумилев в форме, перед отъездом на фронт, „с одним „Георгием“, как пояснила она мне, справа Ахматова, посредине сын. Чувствуется отчужденность и какой-то мир. Я это сказал Анне Андреевне. Она отнеслась недоверчиво: „Мир? Не знаю“. Рукопись была написана рукой Гумилева: шуточное стихотворение и рисунок в красках“.Ахматова одна из первых заметила и оценила талант тогда еще совсем юного Иосифа Бродского; во многом именно благодаря ее хлопотам поэт, осужденный за тунеядство, был в конце концов возвращен из северной ссылки. Ему, первому, и написала, добравшись наконец до своей Будки.
Никита Струве, Из воспоминаний
Анна Ахматова – Иосифу Бродскому
Иосиф, милый!
Так как число неотправленных Вам моих писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее, т. е. реально существующее письмо (в конверте, с маркой, с адресом), и сама немного смутилась.
Сегодня Петров день – самое сердце лета. Все сияет и светится изнутри. Вспоминаю столько [самых] [таких] разных Петровых дней.
Я – в Будке. Скрипит колодезь, кричат вороны. Слушаю привезенную по Вашему совету «Дидону». Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя.
Оказывается, мы выехали из Англии на другой день после ставшей настоящим бедствием бури, о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я увидела такой страшной северную Францию из окна вагона. Тогда подумала: «Такое небо должно быть над генеральным сраженьем». (День, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, что мне сказали в Париже.) Черные дикие тучи кидались друг на друга, вся земля была залита бурной мутной водой: речки, ручьи, озера вышли из берегов. Из воды торчали каменные кресты – там множество кладбищ и отдельных могил от последней войны.
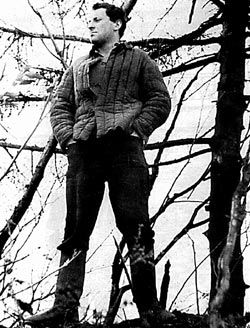
Иосиф Бродский в ссылке
Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый. Потом обратный путь, когда хотелось только одного – домой, домой…Вернувшись домой ответила стихами Георгию Адамовичу, а через него, наискосок, всем бывшим русским, в том числе и И. Берлину, «Гостю из Будущего», как он назван в «Поэме без героя», в таком загадочном четверостишии:
12 июля 1965, Комарово
* * *
Не в таинственную беседку
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.
5 августа 1965

А как музыка зазвучала,
Я очнулась – вокруг зима;
Стало ясно, что у причала
Стало ясно, что у причала
Государыня-смерть сама.
ПОЭМЫ

Анна Андреевна Ахматова. Художник Н. Тырса. 1927 г.
«В характере Ахматовой было немало разнообразнейших качеств, не вмещающихся в ту или иную упрощенную схему… Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитою чопорностью, как светская дама высокого тона, и тгда вей чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом…В декабре 1913 года Анна Андреевна была торжественно приглашена в гости к Блоку. Блок в те месяцы вновь работал над «Возмездием», жаловался гостье, что ему мешает Лев Толстой, а Анну расспрашивал о ее севастопольском детстве, черноморской юности и очень удивился тому, что она до сих пор ничего не написала про свой удивительный Херсонес. И вообще: почему бы ей не попробовать себя в поэме? Не получается как хотите? А Вы рискните – а вдруг?
Один напыщенный критик даже назвал ее «Звездой Севера». Почему-то все охотно забывали, что родилась она у Черного моря и в детстве была южной дикаркой – лохматой, шальной, быстроногой… какой она описала себя в поэме «У самого моря»:
«Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы, – вспоминала она четверть века спустя. – Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, – и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и назад. И тут появлялось чудовище – я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращаясь, надевала платье на голое тело… И, кудлатая, мокрая, бежала домой».
Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море.
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В каких бы царскосельских и ленинградских обличьях ни являлась она в своих книгах и в жизни, я всегда чувствовал в ней ту «кудлатую» бесстрашную девчонку, которая в любую погоду с любого камня, с любого утеса готова была броситься в море – навстречу всем ветрам и волнам».
Корней Иванович Чуковский, Из воспоминаний об Анне Ахматовой
И она рискнула! Блоку мешал Толстой, ей – южные поэмы Пушкина, но она все-таки написала настоящую, свою, от первой до последней строчки – ахматовскую, поэму про дикую девочку, родившуюся у самого синего моря, на улице Хрустальной, и о заморском царевиче, который ee, «мертвую царевну», так и не «расколдовал»…

У САМОГО МОРЯ
Поэма
1
Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убегали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
