Страница:
— А чего худого? Похоже! Вся наружность налицо!
— Вот именно — наружность… Наружность есть, а меня — нет. Бумага и краска и ничего больше… Не живопись.
Кускова страшно обижало, что Вадим, такой умный, сильный Вадим, разговаривает с этим старикашкой как с равным, а с ним, Лёшкой, молчит… Буркнет только: «Принеси воды» или: «Разожги костёр, а то совсем извёлся…» — вот и всё.
Вчера Вадим забился к деду в сарайчик и часа четыре всяких матрёшек да петухов рассматривал. Старикан-то рад, конечно, кто хочешь обрадуется, когда такой человек с тобой целых четыре часа разговаривает. Надавал художнику полный мешок всяких копилок, грибов штопальных, каталок деревянных, коней резных… У Лёшки от всей этой деревенской пестроты в глазах рябило.
«Зачем вам вся эта чепуха?» — спросил он художника. «Чепуха? — Вадим поворачивал к свету то одну, то другую игрушку. — А ты такое можешь сделать? Придумать такое можешь?» — «А чего тут сложного?» — «Много чего, — сказал художник. — Это не просто деревяшка, а душа мастера… Этот старик — мастер. Понял?»
Лёшка вспомнил, как он тогда крикнул отцу: «Это мой учитель, понял?»
«Какой мастер! — возразил Кусков. — Научился строгать, вот и мастер…» — «А я научился краской мазать…» — «Ха! — сказал Кусков. — Вы — художник!» — «Нет! — ответил Вадим. — Я не художник! Вот старик этот — художник, а я ремесленник! Штамповщик…» — «Интересненько. Он, наверно, и рисовать-то не умеет». — «У него свой мир! — сказал Вадим. — Свой, понимаешь! Как это объяснить! Зачем вообще искусство, живопись в частности? А?»
Лёшка никогда на такой вопрос бы не ответил.
«Затем, чтобы увидеть и показать мир по-новому. Для этого нужен свой взгляд… Вот у старика он есть, а у меня нет».
Лёшка ничего не понял, но старика невзлюбил.
«Тоже мне мастер! — думал он, рассматривая старика. — А у самого из засаленной жилетки вата торчит».
Он тут же вспомнил, как отец сказал про реставратора, что у того, мол, ботинки скороходовские, и ему стало неприятно.
— А ты за натурой не гонись! — услышал он слова деда Клавы. — Не торопись!
«Вон! — подумал он с неприязнью. — Поучает. Учитель нашёлся. Репин!»
Но Вадим слушал внимательно.
— Ты вон шахматного коня посмотри. Ведь ни с чем не спутаешь — конь, он конь и есть. А ведь ни ног, ни хвоста, ни копыт! Один изгиб шеи!
Дед примостился поближе к Вадиму.
— Я раз взялся коня вырезать. Штук пяток вырезал… И всё у меня собаки получаются. Я уж и так и сяк, едва не плачу… А потом как этот изгиб ухватил, так сразу и конь… Теперь… с любой щепки, с глины, с проволоки могу сделать, всё будет конь…
— Эх! — крякнул Вадим, с силой вдавливая кнопки в крышку этюдника. — Давайте, отец, к нам в Академию! Композицию преподавать!
— Не! — засмеялся старик, по-молодому сверкнув зубами. — Я в городе не могу! Машин боюся! Вечером-то чё делаете? Приходите на беседу? Остання, значит, будет беседа. Часов в семь стол. Расставание, значит, играть будем. Со всей округи народ будет, и Антипа Пророков придёт.
— А кто это? — спросил Вадим, пристально всматриваясь в пейзаж.
— Егерь наш. Эх! — хлопнул себя по коленям дед. — Вы, случаем, портреты не рисуете? Это ж Сусанин да и только. В войну у него немцы всю родню в избу загнали да и сожгли.
— Как сожгли? — ахнул Кусков.
— Огнём.
— Живых?
— Живых, милай! Живых. У них тут в болоте укрытие было, они там от врага отсиживались, а тут в недобрый час в село вернулись да прямо на эсэсовцев и наскочили, те к своим через фронт ладились, проводника требовали, ну а Пророковы ни в какую… Вот всех и сожгли. Ты думашь, тут войны не было? Она, проклятая, во все углы позалезла! — вздохнул старик.
— Ну, а Антипа? Что он?
— Он фашистов догнал, проводником вызвался да всех в болотине и потопил!
— Круто! — покачал головой Вадим.
— Красивый! Бородища — во! Кудри как завитые! Рослый! Я ему едва не по пояс… Приходи, сам увидишь.
— Надо прийти! — сказал Вадим, делая на бумаге контурный набросок.
— Хотели мы эту беседу с экспедицией править, а не поспевает экспедиция. Вот счас на почту ходил, по телефону кричал. Пётра, как бы внук мой, говорит — через неделю… А уж мы беседу откладывать не можем. Вы того, приходите, не побрезгуйте компанейством, — тараторил дед.
— Придём, — сказал Вадим. — Спасибо.
Старик вприскочку стал спускаться с холма в деревню, а художник откинулся на спину и, глядя в небо, прошептал:
— Через неделю, значит, — и лицо его приняло жестокое и замкнутое выражение, как в городе.
— Эй! — закричал, обернувшись, старик. — Голова я садовая! Беседа ишо вечером будет, пошли пообедаем пока…
Глава десятая
Глава одиннадцатая
— Вот именно — наружность… Наружность есть, а меня — нет. Бумага и краска и ничего больше… Не живопись.
Кускова страшно обижало, что Вадим, такой умный, сильный Вадим, разговаривает с этим старикашкой как с равным, а с ним, Лёшкой, молчит… Буркнет только: «Принеси воды» или: «Разожги костёр, а то совсем извёлся…» — вот и всё.
Вчера Вадим забился к деду в сарайчик и часа четыре всяких матрёшек да петухов рассматривал. Старикан-то рад, конечно, кто хочешь обрадуется, когда такой человек с тобой целых четыре часа разговаривает. Надавал художнику полный мешок всяких копилок, грибов штопальных, каталок деревянных, коней резных… У Лёшки от всей этой деревенской пестроты в глазах рябило.
«Зачем вам вся эта чепуха?» — спросил он художника. «Чепуха? — Вадим поворачивал к свету то одну, то другую игрушку. — А ты такое можешь сделать? Придумать такое можешь?» — «А чего тут сложного?» — «Много чего, — сказал художник. — Это не просто деревяшка, а душа мастера… Этот старик — мастер. Понял?»
Лёшка вспомнил, как он тогда крикнул отцу: «Это мой учитель, понял?»
«Какой мастер! — возразил Кусков. — Научился строгать, вот и мастер…» — «А я научился краской мазать…» — «Ха! — сказал Кусков. — Вы — художник!» — «Нет! — ответил Вадим. — Я не художник! Вот старик этот — художник, а я ремесленник! Штамповщик…» — «Интересненько. Он, наверно, и рисовать-то не умеет». — «У него свой мир! — сказал Вадим. — Свой, понимаешь! Как это объяснить! Зачем вообще искусство, живопись в частности? А?»
Лёшка никогда на такой вопрос бы не ответил.
«Затем, чтобы увидеть и показать мир по-новому. Для этого нужен свой взгляд… Вот у старика он есть, а у меня нет».
Лёшка ничего не понял, но старика невзлюбил.
«Тоже мне мастер! — думал он, рассматривая старика. — А у самого из засаленной жилетки вата торчит».
Он тут же вспомнил, как отец сказал про реставратора, что у того, мол, ботинки скороходовские, и ему стало неприятно.
— А ты за натурой не гонись! — услышал он слова деда Клавы. — Не торопись!
«Вон! — подумал он с неприязнью. — Поучает. Учитель нашёлся. Репин!»
Но Вадим слушал внимательно.
— Ты вон шахматного коня посмотри. Ведь ни с чем не спутаешь — конь, он конь и есть. А ведь ни ног, ни хвоста, ни копыт! Один изгиб шеи!
Дед примостился поближе к Вадиму.
— Я раз взялся коня вырезать. Штук пяток вырезал… И всё у меня собаки получаются. Я уж и так и сяк, едва не плачу… А потом как этот изгиб ухватил, так сразу и конь… Теперь… с любой щепки, с глины, с проволоки могу сделать, всё будет конь…
— Эх! — крякнул Вадим, с силой вдавливая кнопки в крышку этюдника. — Давайте, отец, к нам в Академию! Композицию преподавать!
— Не! — засмеялся старик, по-молодому сверкнув зубами. — Я в городе не могу! Машин боюся! Вечером-то чё делаете? Приходите на беседу? Остання, значит, будет беседа. Часов в семь стол. Расставание, значит, играть будем. Со всей округи народ будет, и Антипа Пророков придёт.
— А кто это? — спросил Вадим, пристально всматриваясь в пейзаж.
— Егерь наш. Эх! — хлопнул себя по коленям дед. — Вы, случаем, портреты не рисуете? Это ж Сусанин да и только. В войну у него немцы всю родню в избу загнали да и сожгли.
— Как сожгли? — ахнул Кусков.
— Огнём.
— Живых?
— Живых, милай! Живых. У них тут в болоте укрытие было, они там от врага отсиживались, а тут в недобрый час в село вернулись да прямо на эсэсовцев и наскочили, те к своим через фронт ладились, проводника требовали, ну а Пророковы ни в какую… Вот всех и сожгли. Ты думашь, тут войны не было? Она, проклятая, во все углы позалезла! — вздохнул старик.
— Ну, а Антипа? Что он?
— Он фашистов догнал, проводником вызвался да всех в болотине и потопил!
— Круто! — покачал головой Вадим.
— Красивый! Бородища — во! Кудри как завитые! Рослый! Я ему едва не по пояс… Приходи, сам увидишь.
— Надо прийти! — сказал Вадим, делая на бумаге контурный набросок.
— Хотели мы эту беседу с экспедицией править, а не поспевает экспедиция. Вот счас на почту ходил, по телефону кричал. Пётра, как бы внук мой, говорит — через неделю… А уж мы беседу откладывать не можем. Вы того, приходите, не побрезгуйте компанейством, — тараторил дед.
— Придём, — сказал Вадим. — Спасибо.
Старик вприскочку стал спускаться с холма в деревню, а художник откинулся на спину и, глядя в небо, прошептал:
— Через неделю, значит, — и лицо его приняло жестокое и замкнутое выражение, как в городе.
— Эй! — закричал, обернувшись, старик. — Голова я садовая! Беседа ишо вечером будет, пошли пообедаем пока…
Глава десятая
«Ах он бедный!»
Обедали долго. Разговаривали про виды на урожай, про погоду.
— Ноне, вишь, весна кака ранняя да жаркая, май ишо, а уж всё сплошь сохнет. Антипа, егерь, говорит — на болотине и то всё посохло, не дай бог огня заронить, так и пойдёт, — рассуждал, прихлёбывая чай, дед Клава.
— Да мы уж и так в избе не готовим, — сказала бабушка Настя. — Нонешний год рано пожарный приказ вышел… А уж что теперь пожара бояться, — пригорюнилась она и стала до того похожа на Лёшкину бабушку, что ему захотелось вскочить, обхватить её за плечи.
— Раз есть пожарный приказ, стало быть, надо его исполнять! И нечего обсуждать! — сказал дед Клава. — Ноне человек до того стал умный, образованный, всё так объяснить может. Тут один из заключения ехал, на станции я с ним разговаривал. Вор, значит, за воровство сидел… Магазин они подломили втроём! Ну вор как вор, — сказал дед, вытирая полотенцем лоб, — я его не сторонюся, как он своё отсидел, но и дружбу не веду! А он как развёл разговоры… Что, мол, это как посмотреть… кто вор, а кто не вор… Через полчаса смотрю — это я, оказывается, перед ним кругом виноватый, что он магазин подломил… «Ты, — кричит, — обчество, ты, — кричит, — социальная эта… среда! Ты меня довёл!» Спасибо, Антипа тут случился, говорит: «Ты магазин подломил? Стало быть, вор! А ежели и совести в тебе нет, и душа не болит, стало быть, и прощения тебе нет!» Плюнули мы да пошли! Так он меня разволновал, что голова кругом… Как же это так? Крал — и вроде не вор?
— Не с того у тебя кружение было! — хихикнула бабушка Настя. — До того хмелён приехал — спасибо, Антипа — непьющий — довёз. Всю выручку от игрушек прогулял…
— Так ведь как же? — загорячился Клава. — Раз чужое брал, стало быть, вор! А кто тебе помогал — пособник, хуже вора… Или ноне вором быть не зазорно?
— Тут трезвой головой не враз разберёшь, а ты её ещё захмеляешь, — пророкотал над Лёшкиной головой бас. — Мир дому сему!
— Антипушка! — вскочил дед. — Милай, а у нас гости! Вот рад я тебе, уж как рад…
Лёшка оглянулся и увидел настоящего богатыря, совсем такого, как Илья Муромец на картине Васнецова. Репродукция была в учебнике по литературе за третий класс, Кусков на неё целый год смотрел!
— Садись, садись, Антипушка. — Бабушка Настя и Клавдий принялись усаживать и угощать гостя.
Вадим с любопытством рассматривал старого егеря, а Кускова после сытного обеда клонило в сон, и он обрадовался, когда бабушка сказала:
— Олёшенька, ты бы шёл на сенник подремал. Вон лесенка стоит, полезай! Ну как, мягонько? — спросила она, когда Кусков взобрался на чердак сарая и растянулся на свежем сене. — Вот и поспи!
Минут через пять она подала мальчишке пёстрое лоскутное одеяло:
— Вот укройся, а то в щели может спину надуть…
Она спустилась к обедающим и стала подавать то мочёные яблоки, то капусту.

Лёшке было хорошо лежать на сене и смотреть на сидящих за столом отсюда, сверху, сквозь кружевные ветви цветущих яблонь…
Он задрёмывал, просыпался и снова слышал разговор за столом, и звяканье стаканов, и тоненькое постанывание самовара.
Лёшка не понимал, отчего ему здесь, в деревне, так хорошо. Оттого ли, что тут красиво? Или потому, что никто его не воспитывал? Не стоял над душой? Или оттого, что бабушка Настя была похожа на его бабушку? Наверное, от всего вместе.
«Вот поселиться бы здесь навсегда! — думал он. И тут же тоскливо думал: — А как же мечта о пальмах и море? А как же дзюдо? Нет, здесь только короткий отпуск! Вот я вернусь в город — я всем покажу!»
— Что он у тебя грустный такой? — услышал сквозь дрёму Кусков, понял, что дед Клава спрашивает про него, и насторожился. — Не хворает, часом?
— Да нет! — ответил Вадим. — Мать у него замуж вышла.
— Ах, — всплеснула руками бабушка. — А его бросила?
— Да нет. Он сам ушёл.
— Отчим, что ли, плохой? Пьяница? — спросил Антипа.
— Да нет, там всё сложнее…
— Да что ж? — удивилась бабушка. — Ежели люди хорошие, так что ж не жить? Она, наверное, женщина молодая…
«Ну вот, — подумал Лёшка. — Вот и всё. И никто меня понять не может. Раз молодая, так можно и замуж выходить…» Он вспомнил, какое у матери бывало счастливое лицо, когда приходил этот Иван Иванович, и, чтобы не застонать, закусил ладонь.
— «Молодая»! «Молодая»! — вдруг, к великому Лёшкиному изумлению, возмутился дед Клава. — Ты этих делов понимать не можешь! Страдает он!
— Да что ж страдать? — сказала бабушка. — Коли люди хорошие… Или он своей матери счастья не желает?
— Вот заладила! — крякнул дед. — Сказано — ты этих чувств понимать не можешь!
— Ну так что ж ты кричишь? Чем я виноватая?
— Я не на тебя кричу, — утих старик. — Я оттого кричу, что объяснить не могу. А парнишку понимаю! И всем его страданиям сочувствую.
— А мать что, не страдает? У ней, может, любовь?
— Любовь! — опять заголосил Клавдий. — У ей любовь, а ему на эту любовь глядеть, как в муравейнике сидеть! Тут на край света побежишь. Любит он мать, вот и бежит… Сколь ему годов?
— Тринадцать, — сказал Вадим. И Лёшка удивился, откуда он знает.
— Во! — сказал дед. — Ах он бедный!
Чего угодно ожидал Кусков, но только не этих слов.
Когда он думал о матери, то ему казалось, что все в мире будут его осуждать! Будут говорить: «А, это тот Кусков, который не хочет своей матери счастья! Это тот Кусков, который думает только о себе…»
«Да, — ответил бы Кусков, — я такой. Я, к вашему сведению, ещё хуже, чем вы думаете! Я на любую подлость, к вашему сведению, готов! Мать я теперь ненавижу!»
И вдруг этот нелепый старик, похожий на ощипанного петуха, говорит: «Ах он бедный!»
«Это я-то бедный?» — обмер Кусков. Он чуть было не закричал: «Никакой я не бедный! Я, если хотите знать, ни в ком не нуждаюсь…»
Но вдруг Лёшка почувствовал, что в горле у него появился ком…
«Что это?» — смятенно подумал он.
— Ты его побереги, — говорил Вадиму дед. — Он парень ничего.
— Я вот маленькая была, сестра моей матери второй раз замуж шла, как детишки радовались.
— Маленькие были! Да и жрать тогда было нечего! — кричал дед Клавдий. — Мне вот одиннадцать годов было, когда отца убили. Как я опасался, что мать замуж пойдёт! По всем ночам плакал! Думал, ежели замуж пойдёт, так на войну сбегу. «Мамынька, — говорю, — родненькая, ты только замуж не ходи! Я день и ночь работать буду!»
— А она чего? — спросил Антипа.
— А она говорит: «Стара я для невест! Да и не за кого, сынок, идти, все на войне!» Я кричу: «А когда придут?» — «Ни за кого я от тебя не пойду!» Вот и весь сказ. А всё ж нервы были на пределе, всё, бывало, убегу в поле да плачу!
— И чтой-то мы росли, ни про каки нервы не слыхали, — сказала бабушка. — Выдумываешь ты всё, Клавдюша…
— Да ну тебя! Ставь лучше самовар. Это чувства! Их словами не расскажешь… — Он горестно подпёр голову рукой. — Ты думаешь, он умом не понимает? Он всё умом понимает, а сердце ему другое говорит! Кричит сердце!
Далеко в лесу куковала кукушка, трещали кузнечики, где-то совсем близко пробовал голос соловей.
— А он тебя любит! — сказал дед Клава Вадиму. — Прямо как собачонка за тобой.
— Любит, — прогудел Антипа.
— Вы думаете? — сказал Вадим.
— Ноне, вишь, весна кака ранняя да жаркая, май ишо, а уж всё сплошь сохнет. Антипа, егерь, говорит — на болотине и то всё посохло, не дай бог огня заронить, так и пойдёт, — рассуждал, прихлёбывая чай, дед Клава.
— Да мы уж и так в избе не готовим, — сказала бабушка Настя. — Нонешний год рано пожарный приказ вышел… А уж что теперь пожара бояться, — пригорюнилась она и стала до того похожа на Лёшкину бабушку, что ему захотелось вскочить, обхватить её за плечи.
— Раз есть пожарный приказ, стало быть, надо его исполнять! И нечего обсуждать! — сказал дед Клава. — Ноне человек до того стал умный, образованный, всё так объяснить может. Тут один из заключения ехал, на станции я с ним разговаривал. Вор, значит, за воровство сидел… Магазин они подломили втроём! Ну вор как вор, — сказал дед, вытирая полотенцем лоб, — я его не сторонюся, как он своё отсидел, но и дружбу не веду! А он как развёл разговоры… Что, мол, это как посмотреть… кто вор, а кто не вор… Через полчаса смотрю — это я, оказывается, перед ним кругом виноватый, что он магазин подломил… «Ты, — кричит, — обчество, ты, — кричит, — социальная эта… среда! Ты меня довёл!» Спасибо, Антипа тут случился, говорит: «Ты магазин подломил? Стало быть, вор! А ежели и совести в тебе нет, и душа не болит, стало быть, и прощения тебе нет!» Плюнули мы да пошли! Так он меня разволновал, что голова кругом… Как же это так? Крал — и вроде не вор?
— Не с того у тебя кружение было! — хихикнула бабушка Настя. — До того хмелён приехал — спасибо, Антипа — непьющий — довёз. Всю выручку от игрушек прогулял…
— Так ведь как же? — загорячился Клава. — Раз чужое брал, стало быть, вор! А кто тебе помогал — пособник, хуже вора… Или ноне вором быть не зазорно?
— Тут трезвой головой не враз разберёшь, а ты её ещё захмеляешь, — пророкотал над Лёшкиной головой бас. — Мир дому сему!
— Антипушка! — вскочил дед. — Милай, а у нас гости! Вот рад я тебе, уж как рад…
Лёшка оглянулся и увидел настоящего богатыря, совсем такого, как Илья Муромец на картине Васнецова. Репродукция была в учебнике по литературе за третий класс, Кусков на неё целый год смотрел!
— Садись, садись, Антипушка. — Бабушка Настя и Клавдий принялись усаживать и угощать гостя.
Вадим с любопытством рассматривал старого егеря, а Кускова после сытного обеда клонило в сон, и он обрадовался, когда бабушка сказала:
— Олёшенька, ты бы шёл на сенник подремал. Вон лесенка стоит, полезай! Ну как, мягонько? — спросила она, когда Кусков взобрался на чердак сарая и растянулся на свежем сене. — Вот и поспи!
Минут через пять она подала мальчишке пёстрое лоскутное одеяло:
— Вот укройся, а то в щели может спину надуть…
Она спустилась к обедающим и стала подавать то мочёные яблоки, то капусту.

Лёшке было хорошо лежать на сене и смотреть на сидящих за столом отсюда, сверху, сквозь кружевные ветви цветущих яблонь…
Он задрёмывал, просыпался и снова слышал разговор за столом, и звяканье стаканов, и тоненькое постанывание самовара.
Лёшка не понимал, отчего ему здесь, в деревне, так хорошо. Оттого ли, что тут красиво? Или потому, что никто его не воспитывал? Не стоял над душой? Или оттого, что бабушка Настя была похожа на его бабушку? Наверное, от всего вместе.
«Вот поселиться бы здесь навсегда! — думал он. И тут же тоскливо думал: — А как же мечта о пальмах и море? А как же дзюдо? Нет, здесь только короткий отпуск! Вот я вернусь в город — я всем покажу!»
— Что он у тебя грустный такой? — услышал сквозь дрёму Кусков, понял, что дед Клава спрашивает про него, и насторожился. — Не хворает, часом?
— Да нет! — ответил Вадим. — Мать у него замуж вышла.
— Ах, — всплеснула руками бабушка. — А его бросила?
— Да нет. Он сам ушёл.
— Отчим, что ли, плохой? Пьяница? — спросил Антипа.
— Да нет, там всё сложнее…
— Да что ж? — удивилась бабушка. — Ежели люди хорошие, так что ж не жить? Она, наверное, женщина молодая…
«Ну вот, — подумал Лёшка. — Вот и всё. И никто меня понять не может. Раз молодая, так можно и замуж выходить…» Он вспомнил, какое у матери бывало счастливое лицо, когда приходил этот Иван Иванович, и, чтобы не застонать, закусил ладонь.
— «Молодая»! «Молодая»! — вдруг, к великому Лёшкиному изумлению, возмутился дед Клава. — Ты этих делов понимать не можешь! Страдает он!
— Да что ж страдать? — сказала бабушка. — Коли люди хорошие… Или он своей матери счастья не желает?
— Вот заладила! — крякнул дед. — Сказано — ты этих чувств понимать не можешь!
— Ну так что ж ты кричишь? Чем я виноватая?
— Я не на тебя кричу, — утих старик. — Я оттого кричу, что объяснить не могу. А парнишку понимаю! И всем его страданиям сочувствую.
— А мать что, не страдает? У ней, может, любовь?
— Любовь! — опять заголосил Клавдий. — У ей любовь, а ему на эту любовь глядеть, как в муравейнике сидеть! Тут на край света побежишь. Любит он мать, вот и бежит… Сколь ему годов?
— Тринадцать, — сказал Вадим. И Лёшка удивился, откуда он знает.
— Во! — сказал дед. — Ах он бедный!
Чего угодно ожидал Кусков, но только не этих слов.
Когда он думал о матери, то ему казалось, что все в мире будут его осуждать! Будут говорить: «А, это тот Кусков, который не хочет своей матери счастья! Это тот Кусков, который думает только о себе…»
«Да, — ответил бы Кусков, — я такой. Я, к вашему сведению, ещё хуже, чем вы думаете! Я на любую подлость, к вашему сведению, готов! Мать я теперь ненавижу!»
И вдруг этот нелепый старик, похожий на ощипанного петуха, говорит: «Ах он бедный!»
«Это я-то бедный?» — обмер Кусков. Он чуть было не закричал: «Никакой я не бедный! Я, если хотите знать, ни в ком не нуждаюсь…»
Но вдруг Лёшка почувствовал, что в горле у него появился ком…
«Что это?» — смятенно подумал он.
— Ты его побереги, — говорил Вадиму дед. — Он парень ничего.
— Я вот маленькая была, сестра моей матери второй раз замуж шла, как детишки радовались.
— Маленькие были! Да и жрать тогда было нечего! — кричал дед Клавдий. — Мне вот одиннадцать годов было, когда отца убили. Как я опасался, что мать замуж пойдёт! По всем ночам плакал! Думал, ежели замуж пойдёт, так на войну сбегу. «Мамынька, — говорю, — родненькая, ты только замуж не ходи! Я день и ночь работать буду!»
— А она чего? — спросил Антипа.
— А она говорит: «Стара я для невест! Да и не за кого, сынок, идти, все на войне!» Я кричу: «А когда придут?» — «Ни за кого я от тебя не пойду!» Вот и весь сказ. А всё ж нервы были на пределе, всё, бывало, убегу в поле да плачу!
— И чтой-то мы росли, ни про каки нервы не слыхали, — сказала бабушка. — Выдумываешь ты всё, Клавдюша…
— Да ну тебя! Ставь лучше самовар. Это чувства! Их словами не расскажешь… — Он горестно подпёр голову рукой. — Ты думаешь, он умом не понимает? Он всё умом понимает, а сердце ему другое говорит! Кричит сердце!
Далеко в лесу куковала кукушка, трещали кузнечики, где-то совсем близко пробовал голос соловей.
— А он тебя любит! — сказал дед Клава Вадиму. — Прямо как собачонка за тобой.
— Любит, — прогудел Антипа.
— Вы думаете? — сказал Вадим.
Глава одиннадцатая
Весела была беседа
— Алик! Алик!
Кусков ошалело сел на сеновале.
— Вставай! Ишь как заспался, всю беседу проспишь. — Дед Клавдий теребил его за ногу. — Вставай, все уж по лавкам сидят.
— Я как-то незаметно уснул… — оправдывался Лёшка.
— Да тут воздух — чистый витамин, с его и спится! — объяснил дед. — Айда в избу.
В избе было полно народу. Незнакомые Кускову мужики и женщины, старики и старухи сидели за длинным столом. Звенели ложки, вилки…
— Ето нам минус! — кричал дед Клава. — Гость заспался, а мы и забыли.
«Да про меня всегда забывают, потому что я лишний», — привычно подумал Кусков и тут же спохватился: ведь дед-то специально за ним пошёл! И припомнил он стариковский вздох: «Ах он бедный!», и захотелось вдруг Лёшке сесть к старику поближе.
— Я бы с вами сел… — сказал он.
— А мы тебе кумпанию найдём, что тебе со стариками сидеть. Вот — барышня тебе. Тоже отличница.
«Вот я и в отличники попал», — усмехнулся про себя Кусков.
Рыжая девчонка протянула ему руку лодочкой:
— Катерина.
— Альберт, — буркнул Кусков, дивясь её густющей огненной косе и усаживаясь рядом.
Вадим сидел где-то у самого окна, под иконами. Он разрумянился и улыбался, но глаза его, цепкие глаза художника, хватали интересные стариковские лица, старинные рубахи, словно фотографировали.
— Клавдей! Клавдей! — кричали из угла. — Доставай гармонию!
— А что, — кричал дед Клава. — Закусывайте, а потом не жалей полов, отпляшем напоследок.
— Почему напоследок? — спросил Лёшка.
— А вы что, ничего не знаете? — спросила Катя.
— Катерина! Катюша! — кричали ей из-за стола. — Сделай выходку — начни!
— Да ну! — отмахивалась девочка.
Дед Клава развёл гармонику, и она полыхнула на пол-избы расписными розовыми мехами, словно жар-птица махнула крылом…
И такая рассыпалась кадриль, что Кусков так и застыл с поднятой на вилке большущей картофелиной. А ноги у него сами собой начали приплясывать.
Немолодой мужик, совсем незаметный за столом, вдруг скинул звякнувший медалями пиджак, крутанул ус и прошёлся по горнице.
Он вроде и не плясал, так просто ходил, притопывая каблучками. Вот он сделал круг, другой, словно навивал в горнице пружину, которая уже звенела в воздухе и вот-вот готова была сорваться.
— И-и-и-и-их-х-х! — выкрикнул он вдруг, махнул ногой под потолок, чуть не под лампу, и такая дробь рассыпалась по половицам, такой и плеск, и мелькание ладоней наполнили дом, что Кускову показалось, будто он и сам пляшет.
И вот уже две женщины сорвались и пошли вслед за танцором, а минуту спустя всё вокруг ходило ходуном, казалось — крыша слетит и дом раскатится по брёвнышку.
В этот момент страшно пожалел Кусков, что не умеет плясать!
Катя носилась пламенем по избе, и коса её мелькала как лисий хвост.
— Валяй! — кричал дед Клава. — Разноси! Эх! Кавалер нонеча слабый пошёл, необученный! Мне бы годков несколько скинуть, я бы показал молодца!
Но Лёшка обратил внимание на то, что у Кати было совсем невесёлое лицо. Она плясала, будто боялась расплакаться… Лицо у неё было бледным, губы закушены…
«Да что ж такое происходит? — подумал Лёшка. — Ведь она в самом деле чуть не плачет».
Дед Клава бросил играть, когда большинство танцоров повалилось на лавки.
— Ничё! — сказал тот мужик, что начинал пляску. — Ничё, мы можем ещё кое-что… — Он нисколько не задохнулся, словно и не танцевал.
— А всё ж не то, — сказала старуха, сидевшая напротив Кускова. — Мы, бывалочи, не так танцовывали…
— И то правда. Хоть и хорошо, а всё ж не так… — поддакнула ещё одна.
— Ты поглядела бы, как внук мой скачет, — степенно ответила ей старуха с медалью матери-героини. — Эдак ноги рогачом разведёт — и давай трястись, давай трястись! И как его девки такого терпят!
— А что! — сказал дед Клава. — Я молодой был — тоже козлом скакал.
— Ну всё ж не этак.
— Не то беда! — прогудел Антипа. — Не то беда, что по-другому пляшут, а то беда, что не по-своему!
— Именно что! — поддакнула бабушка Настя. — Как негр-то, всё едино не сумеет, а сумеет, дак всё не негр, а свой-то, отеческий танец позабыл…
— Ноне уж никто, как в старину, и не танцует, а хорошо танцевали…
— А как? — спросил Вадим.
Никогда раньше не видел Лёшка его таким. Рубаха у художника была расстёгнута, волосы упали на потный лоб, а рука так и бегала по листу… Гора набросков лежала перед Вадимом на столе.
— Раньше со всем степенством танцевали… Стеночкой.
— Так покажите! — взмолился горячо, как мальчишка, Вадим.
— Покажите, покажите… — загудели за столом.
— Да уж мы сто годов не танцевали… Ну что, Марковна, человек просит…
Старухи, посмеиваясь, подталкивая друг друга, выстроились у стены.
— Павлин нужон! Клавдей, иди павлином!
— Я хучь кем могу! — Дед Клава выкатился перед линией.
— Ай, вот шёл павлин! Ай, лятел павлин! — резким голосом прокричала старуха, та, что звали Марковной. И старухи, выпрямившись, качнулись вдоль стены.
— Он летел-спешил через улицу!


Эта песня была совсем непохожа на то, что прежде слышал Кусков и что считал русской народной песней. Старинный, вибрирующий напев, пришедший из глубины веков, лился в горнице.
— Ай, нёс павлин! Ай, нёс павлин!
— Спел виноград! Спел виноград!
«Виноград?! — подивился Кусков. — Да откуда же эта песня? В здешних лесах клюква да морошка… А тут виноград!»
Дед Клава степенно прошёл перед стенкой старух и поклонился запевале, и та ответила поясным поклоном, торжественно и чинно.
— И нёс виноград, ай, нёс виноград!
— Лебедице своей белой!
Дед Клавдий выбрал из всего ряда бабушку Настю и поклонился ей. И она вдруг покраснела, как молодая девушка, и торопливо поклонилась старику.
Лёшке показалось, что нет стен, а вокруг «зелен луг», и не старухи водят хоровод, а молодые девушки, будто слетело полвека. И они, стройные, принаряженные, ходят по свежей весенней траве.
И дед Клава не смешной вихрастый старик, а молодой весёлый парень, впервые повстречавший свою будущую жену… Кусков оглянулся на Вадима. Художник неотрывно глядел на качающуюся стенку хоровода.
Из-за стола поднялся ещё один старик и стал рядом с дедом, и ещё один, и ещё… И вот уже две стенки качались одна против другой. Торжественными были лица, значительны и плавны поклоны.
Какая-то женщина вытолкнула Кускова из-за стола, и незнакомый рябой мужик твёрдо взял его за руку. И тут же с другой стороны почувствовал мальчишка плечо высокого худого старика. Не попадая в такт ногами, двинулся он вместе со всеми. Ему показалось, что вокруг него много-много людей, и все они родные, и все они встанут за него вот так плечо в плечо. Ему было хорошо, хотелось, чтобы этот танец никогда не кончался…
Прямо перед ним оказалась Катя, и она, заворожённая общим движением, двигалась торжественно и серьёзно…
— А что! — сказал дед Клавдий, когда всё кончилось и в тишине пригорюнились гости за столом. — А что, Настя! Ты была мне хорошей женой! Спасибо тебе. Перед всеми людьми говорю…
Он встал и поклонился бабушке Насте.
И старуха тоже поднялась и дрогнувшим голосом ответила:
— Спасибо и тебе, Клавдий Потапыч. Ты был мне хорошим мужем, а если не угодила чем — прости! — И она медленно и низко поклонилась старику.
— Да вы что! — закричали за столом. — Вы что, помирать собрались, что ли? Теперь самая хорошая жизнь начнётся! Как в городе, а вы такое!
Катя вскочила и, закрыв лицо руками, кинулась из горницы. Гости загалдели, затормошили стариков.
Вадим подошёл к Лёшке.
— Пойди посмотри, куда девочка побежала, — велел он. — Верни её обратно.
Кусков вышел на крыльцо. Было совсем темно. Огромная оранжевая луна поднялась над зубчатой стеной леса.
Нащупав мокрые от вечерней росы перила, мальчишка спустился во двор.
— Катя, — позвал он. — Катя… Где ты?
Две старухи гостьи спустились мимо него по ступенькам.
— Помирать не помирать, — говорила одна, — а годы наши преклонные, и правильно Клавдий сделал, что перед всеми жене спасибо сказал.
— Правильно! Правильно! — поддакнула её спутница. — Скоро ль теперь вместе соберёмся, да и где… Городские-то комнаты маленькие.
— Всё ж Настасья счастливая: всю жизнь с мужем прожила. А у нас пошли как мужики на гражданскую, да так и по сю пору там…
— Я мужа-то и не споминаю, — сказала первая старуха. — Я уж его и забыла совсем. Фотокарточку помню, а живого нет. Мне сынов жалко. Сперва после войны часто мне снились, а теперь редко когда. На Девятое мая приснились все пятеро. Все в военном. Я в военном-то их не видывала… Стоят строем все с ружьями, с котомочками. Мой Сашенька всё пить просит. Я уж и воду на перекрёсток лила, а всё не помогает… Всё снится, как из танка высовывается да просит: «Мама, пить! Горю!»
Голоса удалились, вот уже и платки не белеют в темноте улицы, только соловей закатывается немыслимыми трелями да красный свет падает из окон гудящей голосами избы.
Там дед Клава наяривает что-то лихое на гармонике, в лад стучат каблуки и сыплются визгливые частушки.
— Ну что? — спросил Лёшку с крыльца Вадим. — Где девочка?
— Наверно, домой убежала, — ответил Кусков, поднимаясь на ступени.
— Ну как? — спросил художник, раскуривая сигарету Лёшка увидел, как у него в руках ломаются спички.
— Чего «как»? — спросил Лёшка. Первый раз ему совсем не хотелось говорить с Вадимом. Лучше просто посидеть на крыльце, послушать соловья, подумать…
— Как что? Хоровод.
— Какой такой хоровод? — нехотя буркнул Лёшка.
— Ты что, не понял, что это был хоровод? — удивился Вадим. — Настоящий, понимаешь… Не какой-то там «каравай-каравай» или ансамбль «Берёзка», а настоящий… Хотя, — добавил он, жадно затянувшись, — «Каравай» — это ведь тоже старинный хоровод, языческий… Круг — символ солнца. Ты задумывался, почему деревенский хлеб — это всегда круг и лепёшка? Это — солнце, а солнце — это жизнь. С ума сойти…
«Да что он всё болтает, — досадливо подумал Кусков. — Постоял бы молча».
— Ты понимаешь, что мы чудо видели? — горячо говорил художник. — Ты понимаешь, что завтра этого уже не будет! Уйдёт это поколение — уйдёт и это искусство.
— Почему это уйдёт? — спросил Лёшка. — Что же, людей не будет?
— Будут, но другие.
— Ну и что?
— Да то, что им будет это всё неинтересно… Вот как тебе, например.
— Почему это мне неинтересно, очень даже интересно… И вообще.
— Ну и что ты понял? — насмешливо спросил художник. — О чём этот хоровод был?
Лёшка вдруг вспомнил мать и Кольку, который не хотел распечатывать без него «кахей» и который кричал, что хочет много братьев, много сестёр, много бабушек и дедушек, чтобы всех было много и все были вместе… Он вспомнил стариков и старух в хороводе… И ему вдруг захотелось обхватить мать за плечи и прижаться к ней изо всех сил.
Он всегда стеснялся, когда мать его целовала или гладила по голове, всегда старался вырваться и убежать.
«А чего стесняться! — подумал он. — И ничего тут стыдного нет, если мать целует!»
— Этот хоровод про то, что все должны друг за дружку держаться! — сказал он. — Хорошо, когда людей много и все друг другу близкие!
— Да? — спросил художник странным голосом. — Смотри ты…
Они молча стояли на крыльце. Луна оторвалась от верхушек деревьев, побледнела и уменьшилась, и всё небо усыпалось звёздами. Словно землю накрыли большим чёрным куполом. Но купол этот был старый, весь в дырках, и сквозь эти дырки пробивался свет, который был там, ещё выше…
Странный звук заставил их обернуться. В том крыле избы, где были хозяйственные помещения, тихо скрипнув, растворились ворота. Из них вышел Антипа Пророков. Художник и мальчишка сразу узнали его по сутулой спине, густой окладистой бороде и ружью за плечами.
Старик вывел из подклети коня. Конь в свете луны казался серебряным. Даже сейчас, в темноте, было видно, какой он старый.
Конь стоял, понуро опустив голову, пока старый егерь затворял ворота подклети, покорно шёл за ним через двор и только на улице вдруг остановился и, обернувшись к избе деда Клавы, тяжело вздохнул.
— Вот так-то, Орлик милый, — услышали они голос егеря. — Ничего не поделаешь! Пошли…
Конь покорно зашлёпал старческими разбитыми копытами, и скоро звук их совсем затих в темноте.
«Куда это они?» — хотел спросить Лёшка, но оглянулся на сад и замер. Странный свет мерцал между деревьями. Огромная луна светила сквозь цветущие ветки.
А ветки сверкали миллионами росинок. Соловей свистел так, словно хотел весь изойти на трели без остатка. Звуки наполняли сад, и казалось — каждая нота превращается в росинку, ловит лунный свет и дрожит на тёмных листьях.
Пахучий, сырой и свежий запах шёл от некошеной травы, от прелой прошлогодней листвы, от цветов яблонь.
И вдруг росинка, которая светила ярче других, сорвалась и поплыла в воздухе, за ней другая, третья…
«Светлячки!» — догадался мальчишка. Он никогда в жизни не видел светлячков и, пожалуй, даже не очень верил, что они существуют, и вдруг — на тебе! — целый сад наполнен их сиянием.
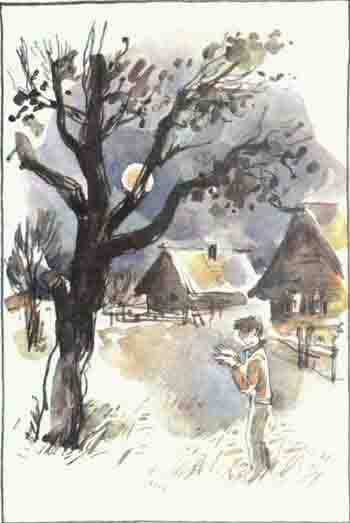
Осторожно, боясь дышать, Кусков снял с ветки маленькое насекомое, и светлячок продолжал светить у него на кончике пальца. Голубоватый дрожащий свет лился с Лёшкиной руки, точно это была волшебная свеча.
Кусков ошалело сел на сеновале.
— Вставай! Ишь как заспался, всю беседу проспишь. — Дед Клавдий теребил его за ногу. — Вставай, все уж по лавкам сидят.
— Я как-то незаметно уснул… — оправдывался Лёшка.
— Да тут воздух — чистый витамин, с его и спится! — объяснил дед. — Айда в избу.
В избе было полно народу. Незнакомые Кускову мужики и женщины, старики и старухи сидели за длинным столом. Звенели ложки, вилки…
— Ето нам минус! — кричал дед Клава. — Гость заспался, а мы и забыли.
«Да про меня всегда забывают, потому что я лишний», — привычно подумал Кусков и тут же спохватился: ведь дед-то специально за ним пошёл! И припомнил он стариковский вздох: «Ах он бедный!», и захотелось вдруг Лёшке сесть к старику поближе.
— Я бы с вами сел… — сказал он.
— А мы тебе кумпанию найдём, что тебе со стариками сидеть. Вот — барышня тебе. Тоже отличница.
«Вот я и в отличники попал», — усмехнулся про себя Кусков.
Рыжая девчонка протянула ему руку лодочкой:
— Катерина.
— Альберт, — буркнул Кусков, дивясь её густющей огненной косе и усаживаясь рядом.
Вадим сидел где-то у самого окна, под иконами. Он разрумянился и улыбался, но глаза его, цепкие глаза художника, хватали интересные стариковские лица, старинные рубахи, словно фотографировали.
— Клавдей! Клавдей! — кричали из угла. — Доставай гармонию!
— А что, — кричал дед Клава. — Закусывайте, а потом не жалей полов, отпляшем напоследок.
— Почему напоследок? — спросил Лёшка.
— А вы что, ничего не знаете? — спросила Катя.
— Катерина! Катюша! — кричали ей из-за стола. — Сделай выходку — начни!
— Да ну! — отмахивалась девочка.
Дед Клава развёл гармонику, и она полыхнула на пол-избы расписными розовыми мехами, словно жар-птица махнула крылом…
И такая рассыпалась кадриль, что Кусков так и застыл с поднятой на вилке большущей картофелиной. А ноги у него сами собой начали приплясывать.
Немолодой мужик, совсем незаметный за столом, вдруг скинул звякнувший медалями пиджак, крутанул ус и прошёлся по горнице.
Он вроде и не плясал, так просто ходил, притопывая каблучками. Вот он сделал круг, другой, словно навивал в горнице пружину, которая уже звенела в воздухе и вот-вот готова была сорваться.
— И-и-и-и-их-х-х! — выкрикнул он вдруг, махнул ногой под потолок, чуть не под лампу, и такая дробь рассыпалась по половицам, такой и плеск, и мелькание ладоней наполнили дом, что Кускову показалось, будто он и сам пляшет.
И вот уже две женщины сорвались и пошли вслед за танцором, а минуту спустя всё вокруг ходило ходуном, казалось — крыша слетит и дом раскатится по брёвнышку.
В этот момент страшно пожалел Кусков, что не умеет плясать!
Катя носилась пламенем по избе, и коса её мелькала как лисий хвост.
— Валяй! — кричал дед Клава. — Разноси! Эх! Кавалер нонеча слабый пошёл, необученный! Мне бы годков несколько скинуть, я бы показал молодца!
Но Лёшка обратил внимание на то, что у Кати было совсем невесёлое лицо. Она плясала, будто боялась расплакаться… Лицо у неё было бледным, губы закушены…
«Да что ж такое происходит? — подумал Лёшка. — Ведь она в самом деле чуть не плачет».
Дед Клава бросил играть, когда большинство танцоров повалилось на лавки.
— Ничё! — сказал тот мужик, что начинал пляску. — Ничё, мы можем ещё кое-что… — Он нисколько не задохнулся, словно и не танцевал.
— А всё ж не то, — сказала старуха, сидевшая напротив Кускова. — Мы, бывалочи, не так танцовывали…
— И то правда. Хоть и хорошо, а всё ж не так… — поддакнула ещё одна.
— Ты поглядела бы, как внук мой скачет, — степенно ответила ей старуха с медалью матери-героини. — Эдак ноги рогачом разведёт — и давай трястись, давай трястись! И как его девки такого терпят!
— А что! — сказал дед Клава. — Я молодой был — тоже козлом скакал.
— Ну всё ж не этак.
— Не то беда! — прогудел Антипа. — Не то беда, что по-другому пляшут, а то беда, что не по-своему!
— Именно что! — поддакнула бабушка Настя. — Как негр-то, всё едино не сумеет, а сумеет, дак всё не негр, а свой-то, отеческий танец позабыл…
— Ноне уж никто, как в старину, и не танцует, а хорошо танцевали…
— А как? — спросил Вадим.
Никогда раньше не видел Лёшка его таким. Рубаха у художника была расстёгнута, волосы упали на потный лоб, а рука так и бегала по листу… Гора набросков лежала перед Вадимом на столе.
— Раньше со всем степенством танцевали… Стеночкой.
— Так покажите! — взмолился горячо, как мальчишка, Вадим.
— Покажите, покажите… — загудели за столом.
— Да уж мы сто годов не танцевали… Ну что, Марковна, человек просит…
Старухи, посмеиваясь, подталкивая друг друга, выстроились у стены.
— Павлин нужон! Клавдей, иди павлином!
— Я хучь кем могу! — Дед Клава выкатился перед линией.
— Ай, вот шёл павлин! Ай, лятел павлин! — резким голосом прокричала старуха, та, что звали Марковной. И старухи, выпрямившись, качнулись вдоль стены.
— Он летел-спешил через улицу!


Эта песня была совсем непохожа на то, что прежде слышал Кусков и что считал русской народной песней. Старинный, вибрирующий напев, пришедший из глубины веков, лился в горнице.
— Ай, нёс павлин! Ай, нёс павлин!
— Спел виноград! Спел виноград!
«Виноград?! — подивился Кусков. — Да откуда же эта песня? В здешних лесах клюква да морошка… А тут виноград!»
Дед Клава степенно прошёл перед стенкой старух и поклонился запевале, и та ответила поясным поклоном, торжественно и чинно.
— И нёс виноград, ай, нёс виноград!
— Лебедице своей белой!
Дед Клавдий выбрал из всего ряда бабушку Настю и поклонился ей. И она вдруг покраснела, как молодая девушка, и торопливо поклонилась старику.
Лёшке показалось, что нет стен, а вокруг «зелен луг», и не старухи водят хоровод, а молодые девушки, будто слетело полвека. И они, стройные, принаряженные, ходят по свежей весенней траве.
И дед Клава не смешной вихрастый старик, а молодой весёлый парень, впервые повстречавший свою будущую жену… Кусков оглянулся на Вадима. Художник неотрывно глядел на качающуюся стенку хоровода.
Из-за стола поднялся ещё один старик и стал рядом с дедом, и ещё один, и ещё… И вот уже две стенки качались одна против другой. Торжественными были лица, значительны и плавны поклоны.
Какая-то женщина вытолкнула Кускова из-за стола, и незнакомый рябой мужик твёрдо взял его за руку. И тут же с другой стороны почувствовал мальчишка плечо высокого худого старика. Не попадая в такт ногами, двинулся он вместе со всеми. Ему показалось, что вокруг него много-много людей, и все они родные, и все они встанут за него вот так плечо в плечо. Ему было хорошо, хотелось, чтобы этот танец никогда не кончался…
Прямо перед ним оказалась Катя, и она, заворожённая общим движением, двигалась торжественно и серьёзно…
— А что! — сказал дед Клавдий, когда всё кончилось и в тишине пригорюнились гости за столом. — А что, Настя! Ты была мне хорошей женой! Спасибо тебе. Перед всеми людьми говорю…
Он встал и поклонился бабушке Насте.
И старуха тоже поднялась и дрогнувшим голосом ответила:
— Спасибо и тебе, Клавдий Потапыч. Ты был мне хорошим мужем, а если не угодила чем — прости! — И она медленно и низко поклонилась старику.
— Да вы что! — закричали за столом. — Вы что, помирать собрались, что ли? Теперь самая хорошая жизнь начнётся! Как в городе, а вы такое!
Катя вскочила и, закрыв лицо руками, кинулась из горницы. Гости загалдели, затормошили стариков.
Вадим подошёл к Лёшке.
— Пойди посмотри, куда девочка побежала, — велел он. — Верни её обратно.
Кусков вышел на крыльцо. Было совсем темно. Огромная оранжевая луна поднялась над зубчатой стеной леса.
Нащупав мокрые от вечерней росы перила, мальчишка спустился во двор.
— Катя, — позвал он. — Катя… Где ты?
Две старухи гостьи спустились мимо него по ступенькам.
— Помирать не помирать, — говорила одна, — а годы наши преклонные, и правильно Клавдий сделал, что перед всеми жене спасибо сказал.
— Правильно! Правильно! — поддакнула её спутница. — Скоро ль теперь вместе соберёмся, да и где… Городские-то комнаты маленькие.
— Всё ж Настасья счастливая: всю жизнь с мужем прожила. А у нас пошли как мужики на гражданскую, да так и по сю пору там…
— Я мужа-то и не споминаю, — сказала первая старуха. — Я уж его и забыла совсем. Фотокарточку помню, а живого нет. Мне сынов жалко. Сперва после войны часто мне снились, а теперь редко когда. На Девятое мая приснились все пятеро. Все в военном. Я в военном-то их не видывала… Стоят строем все с ружьями, с котомочками. Мой Сашенька всё пить просит. Я уж и воду на перекрёсток лила, а всё не помогает… Всё снится, как из танка высовывается да просит: «Мама, пить! Горю!»
Голоса удалились, вот уже и платки не белеют в темноте улицы, только соловей закатывается немыслимыми трелями да красный свет падает из окон гудящей голосами избы.
Там дед Клава наяривает что-то лихое на гармонике, в лад стучат каблуки и сыплются визгливые частушки.
— Ну что? — спросил Лёшку с крыльца Вадим. — Где девочка?
— Наверно, домой убежала, — ответил Кусков, поднимаясь на ступени.
— Ну как? — спросил художник, раскуривая сигарету Лёшка увидел, как у него в руках ломаются спички.
— Чего «как»? — спросил Лёшка. Первый раз ему совсем не хотелось говорить с Вадимом. Лучше просто посидеть на крыльце, послушать соловья, подумать…
— Как что? Хоровод.
— Какой такой хоровод? — нехотя буркнул Лёшка.
— Ты что, не понял, что это был хоровод? — удивился Вадим. — Настоящий, понимаешь… Не какой-то там «каравай-каравай» или ансамбль «Берёзка», а настоящий… Хотя, — добавил он, жадно затянувшись, — «Каравай» — это ведь тоже старинный хоровод, языческий… Круг — символ солнца. Ты задумывался, почему деревенский хлеб — это всегда круг и лепёшка? Это — солнце, а солнце — это жизнь. С ума сойти…
«Да что он всё болтает, — досадливо подумал Кусков. — Постоял бы молча».
— Ты понимаешь, что мы чудо видели? — горячо говорил художник. — Ты понимаешь, что завтра этого уже не будет! Уйдёт это поколение — уйдёт и это искусство.
— Почему это уйдёт? — спросил Лёшка. — Что же, людей не будет?
— Будут, но другие.
— Ну и что?
— Да то, что им будет это всё неинтересно… Вот как тебе, например.
— Почему это мне неинтересно, очень даже интересно… И вообще.
— Ну и что ты понял? — насмешливо спросил художник. — О чём этот хоровод был?
Лёшка вдруг вспомнил мать и Кольку, который не хотел распечатывать без него «кахей» и который кричал, что хочет много братьев, много сестёр, много бабушек и дедушек, чтобы всех было много и все были вместе… Он вспомнил стариков и старух в хороводе… И ему вдруг захотелось обхватить мать за плечи и прижаться к ней изо всех сил.
Он всегда стеснялся, когда мать его целовала или гладила по голове, всегда старался вырваться и убежать.
«А чего стесняться! — подумал он. — И ничего тут стыдного нет, если мать целует!»
— Этот хоровод про то, что все должны друг за дружку держаться! — сказал он. — Хорошо, когда людей много и все друг другу близкие!
— Да? — спросил художник странным голосом. — Смотри ты…
Они молча стояли на крыльце. Луна оторвалась от верхушек деревьев, побледнела и уменьшилась, и всё небо усыпалось звёздами. Словно землю накрыли большим чёрным куполом. Но купол этот был старый, весь в дырках, и сквозь эти дырки пробивался свет, который был там, ещё выше…
Странный звук заставил их обернуться. В том крыле избы, где были хозяйственные помещения, тихо скрипнув, растворились ворота. Из них вышел Антипа Пророков. Художник и мальчишка сразу узнали его по сутулой спине, густой окладистой бороде и ружью за плечами.
Старик вывел из подклети коня. Конь в свете луны казался серебряным. Даже сейчас, в темноте, было видно, какой он старый.
Конь стоял, понуро опустив голову, пока старый егерь затворял ворота подклети, покорно шёл за ним через двор и только на улице вдруг остановился и, обернувшись к избе деда Клавы, тяжело вздохнул.
— Вот так-то, Орлик милый, — услышали они голос егеря. — Ничего не поделаешь! Пошли…
Конь покорно зашлёпал старческими разбитыми копытами, и скоро звук их совсем затих в темноте.
«Куда это они?» — хотел спросить Лёшка, но оглянулся на сад и замер. Странный свет мерцал между деревьями. Огромная луна светила сквозь цветущие ветки.
А ветки сверкали миллионами росинок. Соловей свистел так, словно хотел весь изойти на трели без остатка. Звуки наполняли сад, и казалось — каждая нота превращается в росинку, ловит лунный свет и дрожит на тёмных листьях.
Пахучий, сырой и свежий запах шёл от некошеной травы, от прелой прошлогодней листвы, от цветов яблонь.
И вдруг росинка, которая светила ярче других, сорвалась и поплыла в воздухе, за ней другая, третья…
«Светлячки!» — догадался мальчишка. Он никогда в жизни не видел светлячков и, пожалуй, даже не очень верил, что они существуют, и вдруг — на тебе! — целый сад наполнен их сиянием.
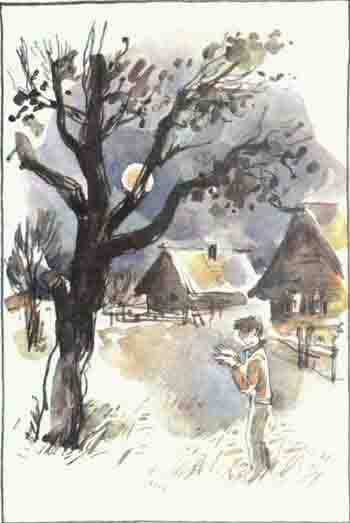
Осторожно, боясь дышать, Кусков снял с ветки маленькое насекомое, и светлячок продолжал светить у него на кончике пальца. Голубоватый дрожащий свет лился с Лёшкиной руки, точно это была волшебная свеча.
