Страница:
— Я сейчас… — машинально и как будто грустно ответил Ланде.
Марья Николаевна глубоко вздохнула, тихо обняла Соню за тоненькую шею и притянула к себе.
— Маня… — значительно и торжественно позвала Соня.
Марья Николаевна молча посмотрела ей в глаза. Они были близко от нее. Темные, решительные, полные неестественного подъема и восторга.
— Я хотела тебе сказать… также торжественно продолжала Соня. — Выйди замуж за Ваню!
Легкий, приятный и быстро растаявший румянец покрыл щеки девушки. Она молча и нежно поцеловала Соню в высокий холодный лоб с гладко причесанными, легкими как воздух, волосами.
Вошел Ланде.
— Надо идти! — с сожалением сказал он.
— Я с вами… — как-то особенно, долго и глубоко посмотрев ему в лицо, отозвалась Марья Николаевна, и встала, поправляя волосы. В ней было решительное, спокойное и полное чувство.
На крыльцо она вышла за Ланде и вдруг увидела рядом с Шишмаревым красивое, жесткое и немного бледное лицо Молочаева, упорно, прямо смотревшего на нее. Она отвернулась с досадой и сожалением.
«Как это я могла вчера!..» — с досадой мелькнуло у нее в голове.
Соня, оставшись одна, долго, неподвижно смотрела в окно, и зелень сада расплывалась у нее в глазах. Потом она встала, судорожно вздохнула, отвернула легонький рукав платья и изо всей силы укусила свою бледную тоненькую руку. На бледной тонкой коже выступили два ряда белых пятен. Соня долго и упрямо смотрела, как белые пятнышки быстро наливались кровью и образовался маленький багровый венчик.
Марья Николаевна глубоко вздохнула, тихо обняла Соню за тоненькую шею и притянула к себе.
— Маня… — значительно и торжественно позвала Соня.
Марья Николаевна молча посмотрела ей в глаза. Они были близко от нее. Темные, решительные, полные неестественного подъема и восторга.
— Я хотела тебе сказать… также торжественно продолжала Соня. — Выйди замуж за Ваню!
Легкий, приятный и быстро растаявший румянец покрыл щеки девушки. Она молча и нежно поцеловала Соню в высокий холодный лоб с гладко причесанными, легкими как воздух, волосами.
Вошел Ланде.
— Надо идти! — с сожалением сказал он.
— Я с вами… — как-то особенно, долго и глубоко посмотрев ему в лицо, отозвалась Марья Николаевна, и встала, поправляя волосы. В ней было решительное, спокойное и полное чувство.
На крыльцо она вышла за Ланде и вдруг увидела рядом с Шишмаревым красивое, жесткое и немного бледное лицо Молочаева, упорно, прямо смотревшего на нее. Она отвернулась с досадой и сожалением.
«Как это я могла вчера!..» — с досадой мелькнуло у нее в голове.
Соня, оставшись одна, долго, неподвижно смотрела в окно, и зелень сада расплывалась у нее в глазах. Потом она встала, судорожно вздохнула, отвернула легонький рукав платья и изо всей силы укусила свою бледную тоненькую руку. На бледной тонкой коже выступили два ряда белых пятен. Соня долго и упрямо смотрела, как белые пятнышки быстро наливались кровью и образовался маленький багровый венчик.
XV
Поздно вечером, когда синие сумерки уже затихли за городом и пыль улеглась, было тихо и хорошо. Ланде один шел с урока, опустив голову, и думал:
«Пятнадцать рублей… Пять мне совершенно достаточно, а десять надо послать Васе… Только он сердиться будет!..»
Ланде мучительно потер лоб.
«Надо написать ему, что у меня два урока…» — придумал он и обрадовался.
Совсем уже стемнело, и все казалось мягким и милым. У открытого окна, черневшего темной пустотой, сидела мать Ланде. Скорбь и одиночество были в ее чуть видной, расплывающейся в темноте комнаты, фигуре — старой и унылой. Ланде узнал ее еще издали, и сердце его больно сжалось. Он видел ее в первый раз после того, как она сказала, что не желает знать его до тех пор, пока он не переменит своих дурацких взглядов на жизнь. Когда она кричала это пронзительным, чужим голосом, Ланде было больно и неприятно смотреть на нее. Он ушел от нее с великой скорбью и с каким-то испугом, и все ему чудилось, что кричит не она, а кто-то другой, внутри ее, злой и мелкий. И после этого он боялся идти к ней, ему казалось, что она опять будет кричать не своим голосом и что от этого ей самой будет мучительно и страшно.
Но когда он увидел ее, одинокую и согнутую, все существо его переполнилось светлой нежностью и жгучей жалостью. Ланде перепрыгнул канаву и, вскочив на карниз, молча обнял мать. И она не сказала ни слова, только радостно заплакала и стала целовать его голову, прижимать ее к мягкой старческой груди и мочить теплыми слезами его лицо.
— Мама моя, мама! — тихо прошептал Ланде, и губы его ловили дрожащую от нежности и радости руку.
— Милый мой, золотой мой мальчик! — ответил ему на ухо бесконечно дорогой всхлипывающий голос.
И тесно слились их души в любви.
— Ты не уйдешь больше… не бросишь свою маму?.. — спрашивала она его.
— Не уйду, никуда не уйду, мама! — всем сердцем отвечал он.
Ночь наступала тихо и незаметно. Ланде все стоял на карнизе, и ему было хорошо, тепло и казалось, что больше ничего, кроме этой тихой, сладкой любви и ласки не нужно ему во всем свете.
Кто-то черный, большой подошел с другой стороны канавы и спросил:
— Иван Ферапонтович, это вы? Ланде оглянулся, узнал Молочаева и соскочил на тротуар.
— Я сейчас, мама!.. — торопливо сказал он и, перескочив канаву, спросил:
— Я… Что такое?
Молочаев дышал глухо и тяжело и казался мрачным и смущенным.
— Мне надо сказать вам два слова! — с усилием сказал он. — Пройдемся!
— Пожалуйста! — охотно согласился Ланде.
Они пошли по темной и пустой улице. Молочаев все так же тяжело дышал и напряженно смотрел перед собой.
— Я хотел вам сказать… Вы помирились с матерью? — неожиданно для самого себя спросил он.
Ланде улыбнулся.
— Я с ней и не ссорился.
— Ах, да… я и забыл, — зло кривя губы, сказал Молочаев, — что вы ни с кем не ссоритесь, никому не мешаете, никогда… А вот я хотел сказать именно, что вы мне мешаете! — с усилием, но со все возрастающей злобой сказал он.
— Разве? — печально спросил Ланде. Звук его голоса, тихий и серьезный, раздражал Молочаева каким-то смутным стыдом.
— Не ломайте, пожалуйста, дурака! — грубо крикнул он, останавливаясь. Отлично вы знаете, о чем я говорю!
Ланде тоже остановился.
— Не кричите на меня… — страдальчески сморщившись, возразил он. — Я, право, не хотел…
Но мутная и бешеная волна злобы, неловкости и стыда подхватила Молочаева и завертела, как щепку.
— А я вам скажу, — зловеще, сквозь стиснутые до скрипа зубы, все громче и громче заговорил он, размахивая перед лицом Ланде ручкой хлыста, — что… если вы станете у меня на дороге, я вас… как тряпку сброшу!.. — Молочаев задохнулся, быстро повернулся и пошел прочь.
— Я ничего не понимаю… — тихо и печально сказал Ланде.
«Пятнадцать рублей… Пять мне совершенно достаточно, а десять надо послать Васе… Только он сердиться будет!..»
Ланде мучительно потер лоб.
«Надо написать ему, что у меня два урока…» — придумал он и обрадовался.
Совсем уже стемнело, и все казалось мягким и милым. У открытого окна, черневшего темной пустотой, сидела мать Ланде. Скорбь и одиночество были в ее чуть видной, расплывающейся в темноте комнаты, фигуре — старой и унылой. Ланде узнал ее еще издали, и сердце его больно сжалось. Он видел ее в первый раз после того, как она сказала, что не желает знать его до тех пор, пока он не переменит своих дурацких взглядов на жизнь. Когда она кричала это пронзительным, чужим голосом, Ланде было больно и неприятно смотреть на нее. Он ушел от нее с великой скорбью и с каким-то испугом, и все ему чудилось, что кричит не она, а кто-то другой, внутри ее, злой и мелкий. И после этого он боялся идти к ней, ему казалось, что она опять будет кричать не своим голосом и что от этого ей самой будет мучительно и страшно.
Но когда он увидел ее, одинокую и согнутую, все существо его переполнилось светлой нежностью и жгучей жалостью. Ланде перепрыгнул канаву и, вскочив на карниз, молча обнял мать. И она не сказала ни слова, только радостно заплакала и стала целовать его голову, прижимать ее к мягкой старческой груди и мочить теплыми слезами его лицо.
— Мама моя, мама! — тихо прошептал Ланде, и губы его ловили дрожащую от нежности и радости руку.
— Милый мой, золотой мой мальчик! — ответил ему на ухо бесконечно дорогой всхлипывающий голос.
И тесно слились их души в любви.
— Ты не уйдешь больше… не бросишь свою маму?.. — спрашивала она его.
— Не уйду, никуда не уйду, мама! — всем сердцем отвечал он.
Ночь наступала тихо и незаметно. Ланде все стоял на карнизе, и ему было хорошо, тепло и казалось, что больше ничего, кроме этой тихой, сладкой любви и ласки не нужно ему во всем свете.
Кто-то черный, большой подошел с другой стороны канавы и спросил:
— Иван Ферапонтович, это вы? Ланде оглянулся, узнал Молочаева и соскочил на тротуар.
— Я сейчас, мама!.. — торопливо сказал он и, перескочив канаву, спросил:
— Я… Что такое?
Молочаев дышал глухо и тяжело и казался мрачным и смущенным.
— Мне надо сказать вам два слова! — с усилием сказал он. — Пройдемся!
— Пожалуйста! — охотно согласился Ланде.
Они пошли по темной и пустой улице. Молочаев все так же тяжело дышал и напряженно смотрел перед собой.
— Я хотел вам сказать… Вы помирились с матерью? — неожиданно для самого себя спросил он.
Ланде улыбнулся.
— Я с ней и не ссорился.
— Ах, да… я и забыл, — зло кривя губы, сказал Молочаев, — что вы ни с кем не ссоритесь, никому не мешаете, никогда… А вот я хотел сказать именно, что вы мне мешаете! — с усилием, но со все возрастающей злобой сказал он.
— Разве? — печально спросил Ланде. Звук его голоса, тихий и серьезный, раздражал Молочаева каким-то смутным стыдом.
— Не ломайте, пожалуйста, дурака! — грубо крикнул он, останавливаясь. Отлично вы знаете, о чем я говорю!
Ланде тоже остановился.
— Не кричите на меня… — страдальчески сморщившись, возразил он. — Я, право, не хотел…
Но мутная и бешеная волна злобы, неловкости и стыда подхватила Молочаева и завертела, как щепку.
— А я вам скажу, — зловеще, сквозь стиснутые до скрипа зубы, все громче и громче заговорил он, размахивая перед лицом Ланде ручкой хлыста, — что… если вы станете у меня на дороге, я вас… как тряпку сброшу!.. — Молочаев задохнулся, быстро повернулся и пошел прочь.
— Я ничего не понимаю… — тихо и печально сказал Ланде.
XVI
В городском саду было гулянье. В темно-зеленой массе деревьев, как сказочные огненные цветы, неподвижно пламенели разноцветные пятна фонарей. Играла военная музыка. И медные звуки ее наполняли зеленую тьму крутящимися в диком танце звонкими призраками. Они отдавались под деревьями и в самом конце сада, отдельные, звонкие, торопливо проносились по темным пустым аллеям, догоняя друг друга, то в воющей металлической тоске, то в бешено-резком веселье. Людей было мало, и в длинных аллеях было пусто, и казалось, что неподвижные огненные цветы освещают дорогу только одиноким звукам, невидимо несущимся мимо.
На главной аллее и на площадке около оркестра и буфета было светлее, проще и спокойнее. Музыка здесь гремела так близко, что в ее оглушительном реве не было слышно ничего, кроме шума. Огни сливались в яркий желтый свет. Толпа ходила тесно, со смехом, говором и пестротою. Пахло пудрой, стеариновой гарью и духами.
Марья Николаевна и Ланде пришли вместе. Эти две недели она почти не отпускала его от себя. В его присутствии ей было так просто, ясно и тихо и ей казалось, что она любит его нежно и спокойно. Ланде всегда говорил без умолку, тихо и хорошо, и никогда не видно было в нем желания и страсти. И она никогда не заговаривала с ним о любви, но в глубине ее души, где-то внутри роскошного, сильного тела тихо и смущенно тлело томительно сладкое ожидание чего-то светлого и прекрасного. И в глазах ее, когда она смотрела на Ланде, видно было это кристально чистое, покорное и радостное чувство.
Она давно не видела Молочаева. Сначала он пытался заговорить с ней, напоминая грубо и сильно ту страшную и жгучую ночь; а потом, когда она пугливо отшатнулась от него, он стал грозить своим отъездом, и в самом деле уехал куда-то. Она вздохнула тогда свободнее, но, когда узнала, что он вернулся, что-то похожее на тревожную радость и любопытство проснулось в ней. Она беспокойно смотрела вокруг, точно желая увериться, что этого чувства никто не видит. Оно доставляло ей много мучительного и странного.
«Что же такое! Неужели я такая развратная? — мелькнуло у нее в голове мучительно и наивно. — Ведь я люблю Ланде… милого, светлого, чистого. Не того же… зверя!»
Она вспомнила Молочаева, и он представлялся ей грубо красивым, отталкивающе разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нем с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувающее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза.
В тот вечер, когда он ушел, угрожая отъездом, после спутанного странного разговора, похожего на горячечный бред, в котором слова бросались отрывками, намеками, острыми раздраженными, лживыми, а глаза говорили правду, Марье Николаевне смутно казалось, что в самом теле ее происходит какая-то борьба: что-то чистое и светлое бессильно захлебывалось в горячих, безумно стремительных и могучих волнах ярко-красной крови. Ночью, когда она раздевалась, у нее явилось неодолимое и стыдливое жгучее желание раздеться донага и долго, с тем же беспокойным любопытством/ смотреть на свое стройное, бесстыдное голое тело, ярким изгибом выступавшее из холодно-темной глубины большого зеркала.
На утро после этого ей было холодно, до боли и ужаса стыдно, и в одиноком испуге, в бессильном недоумении она искала Ланде, звала его, заглядывала в чистые спокойные глаза и тихо успокаивалась под его радостную, бессвязную речь.
Она знала, что Молочаев приехал и что он придет в сад. Последнее она чувствовала по тому тревожному холоду, который подступал к груди и заставлял нервно дрожать ее полные колени под строгой твердой юбкой.
«Он придет… Надо уйти! надо уйти!»… — полубессознательно думала она и не уходила, и ждала, обманывая себя.
«Это оттого, что мне нет никакого дела до него!.. Я только боюсь его… грубости!» — оправдывалась она перед собою и чувствовала, что лжет.
Музыка замолчала. Тишина выступила из-под молчаливых неподвижных деревьев, и слышно было только, как раздраженно и оборванно шаркали по песку аллей шаги гуляющих.
— Вы знаете, — говорил Ланде, — что Соня идет пешком на богомолье?
На секунду Марья Николаевна оторвалась от себя и с удивлением посмотрела на него.
— Не может быть? Куда?
— За сто верст… Нашла себе попутчицу, старушку простую, и идет. Она моего совета спрашивала.
— И вы посоветовали?
— Нет. Она так спрашивала, что я видел, что это ей не нужно. Я ничего не сказал, — серьезно ответил Ланде.
— Она в вас влюблена! — с нехорошим, но не заметным ей самой чувством сказала Марья Николаевна.
— Нет! — решительно и спокойно возразил Ланде. — Ей, может быть, и кажется, что она в меня влюблена… Я это заметил. Но это неправда, — она не в меня влюблена, а в… я не знаю, как это выразить… — бессильно улыбаясь, задвигал рукой Ланде. — Она в великое влюблена… Она удивительная девочка, эта Соня! В ней большое сердце и мало любви. Есть такие люди; они несчастные: им все хочется охватить своим сердцем что-то огромное, весь мир, подвиги, муки, и у них не хватает любви, чтобы обнять то маленькое, что возле них…
С того места, где они сидели под неподвижно пламенеющим мрачно-красным шаром, виден был в конце аллеи бездонный черный прорез ворот. Иногда из их мрака вытягивались, как черные щупальца, длинные черные тени и вдруг пропадали, а в круге света появлялись темные силуэты людей. Марья Николаевна слушала Ланде и неподвижно, напряженно смотрела туда. Она увидела Молочаева, как только он вошел в сад, видела, как он, не видя их, пошел в другую аллею, но не двигалась.
— Молочаев, вот они! — близко сбоку резко прозвенел голос Шишмарева, и они подошли.
Молочаев молча пожал узкую мягкую руку девушки.
Шишмарев сейчас же резко и бойко заговорил с Ланде, Марья Николаевна не слушала их… Она часто дышала, высоко и неровно подымая грудь, и решительно смотрела перед собой. Кончик зонтика бился о землю, напоминая судорожное движение хвоста насторожившейся кошки.
«Что со мной делается?» спрашивала она себя, с капризной досадой закусывая нижнюю губу.
Мне представляется, услышала она как-то вдруг слова Ланде, что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтобы силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!
— Борьба за существование! — сказал Шишмарев.
— Не должно быть никакой борьбы! — твердо возразил Ланде. — Нельзя выйти, навалив перед собой кучу трупов… Надо опомниться, остановиться, не мешать друг другу, уступая…
— Как те два вежливых француза, что уступали друг другу дорожку и оба шли по грязи! — с холодной злостью, в которой слышалась насмешка не над словами Ланде, а над ним самим, вставил Молочаев и коротко засмеялся.
Музыка заиграла тихо и плавно, точно устав после недавнего вихря звуков.
— Все это сентиментальности! — повышая голос, жестко и грубо продолжал Молочаев. — Жизнь — так жизнь… Не я виноват, если кто слабее меня…
Он помолчал и прибавил:
— Брошу в грязь, на голову стану, а перейду…
Ланде грустно покачал головой.
— Довольно слякоть разводить… Не жизнь, а сонное болото! — упорно проговорил Молочаев.
— А если на вашу голову станут? — не глядя на него, холодно спросила Марья Николаевна. Молочаев быстро повернулся к ней.
— Пускай… Посмотрим! — мрачно сказал он и, помолчав, прибавил: — И то жизнь… Марья Николаевна, мне с вами надо поговорить.
Он неверно улыбнулся, и голос у него зазвучал фальшиво.
— Я вам одну сплетню расскажу про… него! — кивнул он головой на Ланде.
Ланде удивленно поднял глаза.
— Говорите здесь! — пожала плечом девушка. Молочаев опять фальшиво засмеялся.
— Не могу я при нем… Да вы меня боитесь, что ли? — тихо прибавил он, вызывающе и близко заглядывая ей в глаза.
Марья Николаевна высокомерно и тревожно улыбнулась.
— Идемте! — она встала, — Ланде, вы приходите туда сейчас! — сказала она.
— Хорошо! — ответил Ланде спокойно и опять повернулся к Шишмареву.
Марья Николаевна больно и холодно почувствовала себя одинокой. Ей сделалось страшно. Когда они уходили в дальнюю аллею, бесконечно тонувшую в пустоте и мраке, она услышала, как Ланде говорил:
— Человек не тогда будет счастлив, когда заставит уважать свои права, а когда научит любить себя. Но до этого далеко!
Они ушли в глубь сада. Звуки музыки глухо и как-то пусто долетали сюда. Фонари мертво и тускло светили здесь уже обыкновенным ламповым светом. Деревья поредели, и между ними просвечивали звездное небо и холод.
— Что же вы хотели мне сказать? — спросила Марья Николаевна.
Молочаев тяжело дышал.
То, что он решил сделать с ней и что представлялось ему мрачно-красивым и быстрым, под ее намеренно холодным взглядом, перед прямой, одетой в строгое твердое платье фигурой показалось вдруг невозможным, нелепо тяжелым и безобразно грязным.
— Я… — проговорил он и не знал, что говорить дальше; челюсти невольно смыкались, как железные, точно здесь, теперь именно нужно было тяжелое молчание.
Марья Николаевна чувствовала, как приближалась к ней огромная страшная опасность. И странно было то, что именно от этого чувства исчез в ней страх; ей стало легко, было захватывающе приятно и интересно, как над пропастью, хотелось еще ближе заглянуть, почувствовать, и бессознательная мысль яркой вспышкой обожгла ей голову, облив щеки горячим румянцем.
— Ах, как интересна жизнь!..
Молочаев, как бы повинуясь какой-то посторонней силе, низко нагнулся, хрипло засмеялся и вытянул вперед руки. Марья Николаевна машинально отступила шаг назад, быстро неровно так, что большая черная шляпа сдвинулась на глаза. Ей показалось, что все ухнуло куда-то и сердце упало.
— Марья Николаевна, где вы? — весело позвал Ланде.
Молочаев вздрогнул, опустил руки и растерянно оглянулся.
Марья Николаевна насмешливо взглянула на него и, как бы откидываясь от пропасти, подняла руки к шляпе.
На главной аллее и на площадке около оркестра и буфета было светлее, проще и спокойнее. Музыка здесь гремела так близко, что в ее оглушительном реве не было слышно ничего, кроме шума. Огни сливались в яркий желтый свет. Толпа ходила тесно, со смехом, говором и пестротою. Пахло пудрой, стеариновой гарью и духами.
Марья Николаевна и Ланде пришли вместе. Эти две недели она почти не отпускала его от себя. В его присутствии ей было так просто, ясно и тихо и ей казалось, что она любит его нежно и спокойно. Ланде всегда говорил без умолку, тихо и хорошо, и никогда не видно было в нем желания и страсти. И она никогда не заговаривала с ним о любви, но в глубине ее души, где-то внутри роскошного, сильного тела тихо и смущенно тлело томительно сладкое ожидание чего-то светлого и прекрасного. И в глазах ее, когда она смотрела на Ланде, видно было это кристально чистое, покорное и радостное чувство.
Она давно не видела Молочаева. Сначала он пытался заговорить с ней, напоминая грубо и сильно ту страшную и жгучую ночь; а потом, когда она пугливо отшатнулась от него, он стал грозить своим отъездом, и в самом деле уехал куда-то. Она вздохнула тогда свободнее, но, когда узнала, что он вернулся, что-то похожее на тревожную радость и любопытство проснулось в ней. Она беспокойно смотрела вокруг, точно желая увериться, что этого чувства никто не видит. Оно доставляло ей много мучительного и странного.
«Что же такое! Неужели я такая развратная? — мелькнуло у нее в голове мучительно и наивно. — Ведь я люблю Ланде… милого, светлого, чистого. Не того же… зверя!»
Она вспомнила Молочаева, и он представлялся ей грубо красивым, отталкивающе разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нем с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувающее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза.
В тот вечер, когда он ушел, угрожая отъездом, после спутанного странного разговора, похожего на горячечный бред, в котором слова бросались отрывками, намеками, острыми раздраженными, лживыми, а глаза говорили правду, Марье Николаевне смутно казалось, что в самом теле ее происходит какая-то борьба: что-то чистое и светлое бессильно захлебывалось в горячих, безумно стремительных и могучих волнах ярко-красной крови. Ночью, когда она раздевалась, у нее явилось неодолимое и стыдливое жгучее желание раздеться донага и долго, с тем же беспокойным любопытством/ смотреть на свое стройное, бесстыдное голое тело, ярким изгибом выступавшее из холодно-темной глубины большого зеркала.
На утро после этого ей было холодно, до боли и ужаса стыдно, и в одиноком испуге, в бессильном недоумении она искала Ланде, звала его, заглядывала в чистые спокойные глаза и тихо успокаивалась под его радостную, бессвязную речь.
Она знала, что Молочаев приехал и что он придет в сад. Последнее она чувствовала по тому тревожному холоду, который подступал к груди и заставлял нервно дрожать ее полные колени под строгой твердой юбкой.
«Он придет… Надо уйти! надо уйти!»… — полубессознательно думала она и не уходила, и ждала, обманывая себя.
«Это оттого, что мне нет никакого дела до него!.. Я только боюсь его… грубости!» — оправдывалась она перед собою и чувствовала, что лжет.
Музыка замолчала. Тишина выступила из-под молчаливых неподвижных деревьев, и слышно было только, как раздраженно и оборванно шаркали по песку аллей шаги гуляющих.
— Вы знаете, — говорил Ланде, — что Соня идет пешком на богомолье?
На секунду Марья Николаевна оторвалась от себя и с удивлением посмотрела на него.
— Не может быть? Куда?
— За сто верст… Нашла себе попутчицу, старушку простую, и идет. Она моего совета спрашивала.
— И вы посоветовали?
— Нет. Она так спрашивала, что я видел, что это ей не нужно. Я ничего не сказал, — серьезно ответил Ланде.
— Она в вас влюблена! — с нехорошим, но не заметным ей самой чувством сказала Марья Николаевна.
— Нет! — решительно и спокойно возразил Ланде. — Ей, может быть, и кажется, что она в меня влюблена… Я это заметил. Но это неправда, — она не в меня влюблена, а в… я не знаю, как это выразить… — бессильно улыбаясь, задвигал рукой Ланде. — Она в великое влюблена… Она удивительная девочка, эта Соня! В ней большое сердце и мало любви. Есть такие люди; они несчастные: им все хочется охватить своим сердцем что-то огромное, весь мир, подвиги, муки, и у них не хватает любви, чтобы обнять то маленькое, что возле них…
С того места, где они сидели под неподвижно пламенеющим мрачно-красным шаром, виден был в конце аллеи бездонный черный прорез ворот. Иногда из их мрака вытягивались, как черные щупальца, длинные черные тени и вдруг пропадали, а в круге света появлялись темные силуэты людей. Марья Николаевна слушала Ланде и неподвижно, напряженно смотрела туда. Она увидела Молочаева, как только он вошел в сад, видела, как он, не видя их, пошел в другую аллею, но не двигалась.
— Молочаев, вот они! — близко сбоку резко прозвенел голос Шишмарева, и они подошли.
Молочаев молча пожал узкую мягкую руку девушки.
Шишмарев сейчас же резко и бойко заговорил с Ланде, Марья Николаевна не слушала их… Она часто дышала, высоко и неровно подымая грудь, и решительно смотрела перед собой. Кончик зонтика бился о землю, напоминая судорожное движение хвоста насторожившейся кошки.
«Что со мной делается?» спрашивала она себя, с капризной досадой закусывая нижнюю губу.
Мне представляется, услышала она как-то вдруг слова Ланде, что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтобы силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!
— Борьба за существование! — сказал Шишмарев.
— Не должно быть никакой борьбы! — твердо возразил Ланде. — Нельзя выйти, навалив перед собой кучу трупов… Надо опомниться, остановиться, не мешать друг другу, уступая…
— Как те два вежливых француза, что уступали друг другу дорожку и оба шли по грязи! — с холодной злостью, в которой слышалась насмешка не над словами Ланде, а над ним самим, вставил Молочаев и коротко засмеялся.
Музыка заиграла тихо и плавно, точно устав после недавнего вихря звуков.
— Все это сентиментальности! — повышая голос, жестко и грубо продолжал Молочаев. — Жизнь — так жизнь… Не я виноват, если кто слабее меня…
Он помолчал и прибавил:
— Брошу в грязь, на голову стану, а перейду…
Ланде грустно покачал головой.
— Довольно слякоть разводить… Не жизнь, а сонное болото! — упорно проговорил Молочаев.
— А если на вашу голову станут? — не глядя на него, холодно спросила Марья Николаевна. Молочаев быстро повернулся к ней.
— Пускай… Посмотрим! — мрачно сказал он и, помолчав, прибавил: — И то жизнь… Марья Николаевна, мне с вами надо поговорить.
Он неверно улыбнулся, и голос у него зазвучал фальшиво.
— Я вам одну сплетню расскажу про… него! — кивнул он головой на Ланде.
Ланде удивленно поднял глаза.
— Говорите здесь! — пожала плечом девушка. Молочаев опять фальшиво засмеялся.
— Не могу я при нем… Да вы меня боитесь, что ли? — тихо прибавил он, вызывающе и близко заглядывая ей в глаза.
Марья Николаевна высокомерно и тревожно улыбнулась.
— Идемте! — она встала, — Ланде, вы приходите туда сейчас! — сказала она.
— Хорошо! — ответил Ланде спокойно и опять повернулся к Шишмареву.
Марья Николаевна больно и холодно почувствовала себя одинокой. Ей сделалось страшно. Когда они уходили в дальнюю аллею, бесконечно тонувшую в пустоте и мраке, она услышала, как Ланде говорил:
— Человек не тогда будет счастлив, когда заставит уважать свои права, а когда научит любить себя. Но до этого далеко!
Они ушли в глубь сада. Звуки музыки глухо и как-то пусто долетали сюда. Фонари мертво и тускло светили здесь уже обыкновенным ламповым светом. Деревья поредели, и между ними просвечивали звездное небо и холод.
— Что же вы хотели мне сказать? — спросила Марья Николаевна.
Молочаев тяжело дышал.
То, что он решил сделать с ней и что представлялось ему мрачно-красивым и быстрым, под ее намеренно холодным взглядом, перед прямой, одетой в строгое твердое платье фигурой показалось вдруг невозможным, нелепо тяжелым и безобразно грязным.
— Я… — проговорил он и не знал, что говорить дальше; челюсти невольно смыкались, как железные, точно здесь, теперь именно нужно было тяжелое молчание.
Марья Николаевна чувствовала, как приближалась к ней огромная страшная опасность. И странно было то, что именно от этого чувства исчез в ней страх; ей стало легко, было захватывающе приятно и интересно, как над пропастью, хотелось еще ближе заглянуть, почувствовать, и бессознательная мысль яркой вспышкой обожгла ей голову, облив щеки горячим румянцем.
— Ах, как интересна жизнь!..
Молочаев, как бы повинуясь какой-то посторонней силе, низко нагнулся, хрипло засмеялся и вытянул вперед руки. Марья Николаевна машинально отступила шаг назад, быстро неровно так, что большая черная шляпа сдвинулась на глаза. Ей показалось, что все ухнуло куда-то и сердце упало.
— Марья Николаевна, где вы? — весело позвал Ланде.
Молочаев вздрогнул, опустил руки и растерянно оглянулся.
Марья Николаевна насмешливо взглянула на него и, как бы откидываясь от пропасти, подняла руки к шляпе.
XVII
Было около девяти часов вечера, но еще светло прозрачным легким светом и от яркой зари, и от рано вставшей, еще бледной луны, и от широкой гладкой реки.
Ланде позже других пришел на обрыв, непривычно грустный и молчаливый.
Шишмарев встретил его резким раздраженным голосом.
— Иди сюда! Я получил письмо от Семенова… Это, ей-Богу, глупо! Какого же ты черта чудишь! Семенов пишет, что ты ему прислал десять рублей.
Ланде поднял на него большие печальные глаза.
— Оставь, Леня! — сказал он просто и отвернулся к реке. На его худое лицо ложились ее холодные бледные отблески.
— Как, оставь! — вспылил Шишмарев.
Ланде страдальчески улыбнулся, не поворачиваясь. Шишмарев посмотрел на него, пошевелил губами и отвернулся, чувствуя неловкость и холодную досаду.
«Ну и черт с тобой!» — подумал он.
— Что с вами? Чего вы такой грустный? — мягко и любовно спросила Марья Николаевна, слабо дотрагиваясь пальцами до рукава серой тужурки Ланде.
Ланде быстро обернулся, и глаза его засветились мягкой и ласковой улыбкой.
— Меня мать мучает! — страдальчески сказал он.
Странно просвечивало это страдание сквозь ясную тихую улыбку.
Молочаев с холодной ненавистью скользнул по руке Марьи Николаевны, лежавшей на рукаве Ланде, отвернулся и стал закуривать папиросу.
— Чем? — тихо переспросила девушка.
— А она все требует от меня той жизни, на которую я не способен… Пристает, чтобы я деньги взял и ехал за границу; а я не хочу. Мне нечего делать там. Люди везде одинаковы…
— Жизнь другая! — возразил Шишмарев.
— Нет, и жизнь та же, — ответил Ланде, — потому что люди все одинаковы. Я не думаю, чтобы от количества железных дорог, университетов и тому подобного зависела жизнь. Жизнь внутри человека, ее надо только уметь использовать. А впрочем… если бы и была какая-то другая жизнь там, зачем я туда поеду? Я ею и жить-то не сумею…
— Хоть посмотреть! — с внутренним оживлением и прорвавшейся страстной мечтой сказал Шишмарев.
— Ну, это было бы дурно с моей стороны… — кротко возразил Ланде, улыбнулся виноватой улыбкой и прибавил: — Нет, вот я бы так просто… ушел куда-нибудь…
— Куда?.. В каком то есть смысле: от людей или так, куда-нибудь отсюда? — с недоверчивым недоумением спросил Шишмарев.
Ланде задумчиво помолчал, подняв глаза к небу и тихо приподняв брови.
— И так куда-нибудь, и от людей… Не совсем, а на время… Мне часто приходит мысль, что каждому человеку надо по временам уходить куда-нибудь от всех в пустыню, что ли… Я так думал всегда, какая огромная штука жизнь и как легко и просто мы к ней приступаем. Оттого, должно быть, она так редко и удается людям. Надо было бы, чтобы каждый человек в известном периоде развития уединялся и сосредоточивался на время в себе самом.
— Вот вы бы сами первый и уединились бы!.. — грубо перебил Молочаев и вдруг весь зло искривился. — Право, хорошо бы сделали!
Ланде долго и серьезно смотрел на него. Потом вздохнул, перевел узкими плечами и тихо сказал:
— Я знаю, что мешаю вам. Мне очень жаль это.
Марья Николаевна быстро и исподлобья посмотрела на него своими блестящими из-под ресниц глазами. Рука ее, мявшая растрепанный букет полузавядших, бледных уже цветов, остановилась, а потом задвигалась нервно и неверно.
— Мне тоже очень жаль! — вызывающе ответил Молочаев своим обычным, твердым и неумолимым голосом.
Как раз в эту минуту шедший по тротуару тонкий черный человек неожиданно быстро свернул с дорожки на траву и, сделав за спиной Молочаева два странных крадущихся шага, стремительно взмахнул тонкой длинной палкой и ударил ею художника по голове.
Острый, как лезвие, ужас сверкнул в мозгу у всех, Марья Николаевна дико и пронзительно вскрикнула, путаясь в длинной юбке, отскочила к обрыву и едва удержалась там, вся изогнувшись над ним и закрывая лицо руками, Шишмарев уронил фуражку и беспомощно встал. Ланде вскочил, почему-то схватил Соню за руку; а девочка выпрямилась и широко открыла заблестевшие диким любопытством и каким-то жадным чувством глаза. Молочаев не потерялся. Его красивое лицо исказилось от боли, удивления и захватывающего бешенства. Стремительно и ловко он левой рукой перехватил палку, дернул ее книзу так, что Ткачев едва не упал вперед, вырвал и, оскалив зубы, ударил его поперек лица, по голове и по руке.
Обезумевший от боли и бессильной ненависти Ткачев зашатался, роняя шапку и прикрываясь руками. Показалось, что брызнула кровь.
Четвертый резкий и страшный удар попал уже по руке Ланде. Вытянув, точно в припадке какой-то странной болезни, руки к Молочаеву, бледный, он твердо и властно говорил:
— Не надо… не смейте!
И заслонял Ткачева без усилия и сопротивления. Одну секунду Молочаев бешено смотрел ему в глаза.
— Да ты что ж это, наконец! — хрипло проговорил он, судорожно опустив и сжимая палку, и вдруг коротко размахнулся и омерзительно, хлестко и страшно ударил его по щеке.
Ланде покачнулся и страшно побледнел. На глазах у него выступили светлые крупные капли слез, и глаза так широко раскрылись, что все лицо пропало за их влажным страдальческим блеском.
— Ну, пусть… так… — слабо уронил он концами мокрых дрожащих губ и, непоколебимо прямо глядя в глаза Молочаеву, не двинулся, не отвернулся. Со слепой бессмысленной жестокостью Молочаев, выпустив палку, широко размахнулся, ударил его левой рукой, ступил шаг вперед и ударил в третий раз. Последняя пощечина ляскнула еще страшнее, отчетливо и плоско. Ланде пошатнулся назад, споткнулся о скамейку и тяжело, безобразно, как-то боком, бессильно повалился через нее, высоко задрав ноги.
Молочаев круто повернулся, со страшной силой оттолкнул Ткачева и быстрыми твердыми шагами пошел прочь, ни на кого не глядя.
То, что потом произошло, было похоже на тяжелый бред: все сразу дико и нестройно закричали и толпой кинулись к Ланде. Ткачев с выражением ужаса и мольбы на черном мрачном лице поднял его трясущимися руками. Марья Николаевна целовала его бледные дрожащие пальцы. Шишмарев пробовал надеть фуражку, что-то бессвязно крича. Соня обхватывала его тоненькими прозрачными руками. Они метались на краю обрыва, растерянные, как стая странных вспугнутых выстрелом птиц.
— Господи! что же это такое? — с бесконечным ужасом спрашивала всех Марья Николаевна и ползала у него в ногах с бессознательным, но ослепительно ярким чувством вины, с беспредельным восторгом и жалостью, любовью и возмущением. Ее красивое лицо исказилось, волосы развились, шляпа свалилась на спину, серая юбка беспомощно билась в пыли.
— Иван Ферапонтович… простите… простите! — лепетал Ткачев.
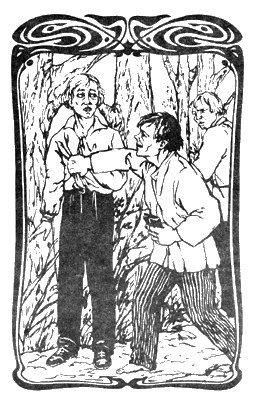
Ланде поворачивал к ним сразу опухшее страшное лицо, силился улыбнуться и бессознательно гладил и хватал руки всех своими дрожащими и ослабевшими руками. Глаза у него запухли, из носа и рта текла кровь, на виске грубо налипла земля и раздавленная зеленая трава.
— Это ничего… — с трудом двигая раздутой губой, проговорил он. — Он не хотел меня… Он потом сам будет страдать… Я к нему пойду… подождите…
Соня дико всплеснула тоненькими ладонями, отступила на шаг и, вся засветившись счастливым восторгом, ярким голосом вскрикнула:
— Ваня, вы святой! Ланде слабо махнул рукой.
— Ах, какие вы глупости говорите, Соня!
Ткачев отчаянно схватился за волосы.
Ланде торопливо улыбнулся ему, встал и, протянув руки, пошел. И тут только все увидели, что Молочаев не ушел. Он стоял в десяти шагах от них, заложив руки в карманы, и криво, упрямо усмехаясь, смотрел на Ланде.
Марья Николаевна вздрогнула всем телом и судорожным движением загородила дорогу Ланде.
— Не смейте, не смейте! — с болезненным, мучительным напряжением зазвеневшим голосом закричала она Ланде.
Но Ланде серьезно отстранил ее.
— Вы не знаете, что говорите! — просто сказал он.
А Соня с тем же выражением восторга и наслаждения на лице оттянула ее за рукав.
Ланде подошел к неподвижно стоявшему и в упор смотревшему на него Молочаеву и протянул ему руки.
На его обезображенном лице была жалость. Молочаев туго и густо покраснел. В глазах у него мрачно вспыхнула задыхающая ненависть, и с холодной насмешкой и злостью он проговорил сквозь зубы:
— Трогательная комедия!
Потом быстро и решительно повернулся и, не останавливаясь, ушел.
Ланде долго смотрел ему вслед, потом сразу весь опустился, сел на лавочку и закрыл лицо руками движением горьким и тоскливым.
— Да что же это в самом деле! — с возмущением пронзительно резко вскрикнул Шишмарев. — Дурак ты, что ли!
В собравшейся возле них пестрой кучке народа захихикали радостно и любопытно. Шишмарев опомнился, быстро оглянулся, с бешенством повернулся и торопливо пошел прочь.
— Черт с тобой, болван… блаженный! — с мучительным ему самому озлоблением бормотал он.
Ткачев, опустив руки, точно его вдруг облили холодной водой и он опомнился от непонятного кошмара, странно посмотрел на Ланде, и его тонкие злые губы кривились.
— Ни-и к чему все это… — с тонкой язвительностью неожиданно проговорил он, как будто отвечая и предостерегая Ланде.
Все молчали и стояли вокруг Ланде. Страстный порыв, охвативший всех, бессильно упал, стало холодно, неловко, нелепо, захотелось уйти, прекратить эту уже казавшуюся безобразной сцену.
Ланде позже других пришел на обрыв, непривычно грустный и молчаливый.
Шишмарев встретил его резким раздраженным голосом.
— Иди сюда! Я получил письмо от Семенова… Это, ей-Богу, глупо! Какого же ты черта чудишь! Семенов пишет, что ты ему прислал десять рублей.
Ланде поднял на него большие печальные глаза.
— Оставь, Леня! — сказал он просто и отвернулся к реке. На его худое лицо ложились ее холодные бледные отблески.
— Как, оставь! — вспылил Шишмарев.
Ланде страдальчески улыбнулся, не поворачиваясь. Шишмарев посмотрел на него, пошевелил губами и отвернулся, чувствуя неловкость и холодную досаду.
«Ну и черт с тобой!» — подумал он.
— Что с вами? Чего вы такой грустный? — мягко и любовно спросила Марья Николаевна, слабо дотрагиваясь пальцами до рукава серой тужурки Ланде.
Ланде быстро обернулся, и глаза его засветились мягкой и ласковой улыбкой.
— Меня мать мучает! — страдальчески сказал он.
Странно просвечивало это страдание сквозь ясную тихую улыбку.
Молочаев с холодной ненавистью скользнул по руке Марьи Николаевны, лежавшей на рукаве Ланде, отвернулся и стал закуривать папиросу.
— Чем? — тихо переспросила девушка.
— А она все требует от меня той жизни, на которую я не способен… Пристает, чтобы я деньги взял и ехал за границу; а я не хочу. Мне нечего делать там. Люди везде одинаковы…
— Жизнь другая! — возразил Шишмарев.
— Нет, и жизнь та же, — ответил Ланде, — потому что люди все одинаковы. Я не думаю, чтобы от количества железных дорог, университетов и тому подобного зависела жизнь. Жизнь внутри человека, ее надо только уметь использовать. А впрочем… если бы и была какая-то другая жизнь там, зачем я туда поеду? Я ею и жить-то не сумею…
— Хоть посмотреть! — с внутренним оживлением и прорвавшейся страстной мечтой сказал Шишмарев.
— Ну, это было бы дурно с моей стороны… — кротко возразил Ланде, улыбнулся виноватой улыбкой и прибавил: — Нет, вот я бы так просто… ушел куда-нибудь…
— Куда?.. В каком то есть смысле: от людей или так, куда-нибудь отсюда? — с недоверчивым недоумением спросил Шишмарев.
Ланде задумчиво помолчал, подняв глаза к небу и тихо приподняв брови.
— И так куда-нибудь, и от людей… Не совсем, а на время… Мне часто приходит мысль, что каждому человеку надо по временам уходить куда-нибудь от всех в пустыню, что ли… Я так думал всегда, какая огромная штука жизнь и как легко и просто мы к ней приступаем. Оттого, должно быть, она так редко и удается людям. Надо было бы, чтобы каждый человек в известном периоде развития уединялся и сосредоточивался на время в себе самом.
— Вот вы бы сами первый и уединились бы!.. — грубо перебил Молочаев и вдруг весь зло искривился. — Право, хорошо бы сделали!
Ланде долго и серьезно смотрел на него. Потом вздохнул, перевел узкими плечами и тихо сказал:
— Я знаю, что мешаю вам. Мне очень жаль это.
Марья Николаевна быстро и исподлобья посмотрела на него своими блестящими из-под ресниц глазами. Рука ее, мявшая растрепанный букет полузавядших, бледных уже цветов, остановилась, а потом задвигалась нервно и неверно.
— Мне тоже очень жаль! — вызывающе ответил Молочаев своим обычным, твердым и неумолимым голосом.
Как раз в эту минуту шедший по тротуару тонкий черный человек неожиданно быстро свернул с дорожки на траву и, сделав за спиной Молочаева два странных крадущихся шага, стремительно взмахнул тонкой длинной палкой и ударил ею художника по голове.
Острый, как лезвие, ужас сверкнул в мозгу у всех, Марья Николаевна дико и пронзительно вскрикнула, путаясь в длинной юбке, отскочила к обрыву и едва удержалась там, вся изогнувшись над ним и закрывая лицо руками, Шишмарев уронил фуражку и беспомощно встал. Ланде вскочил, почему-то схватил Соню за руку; а девочка выпрямилась и широко открыла заблестевшие диким любопытством и каким-то жадным чувством глаза. Молочаев не потерялся. Его красивое лицо исказилось от боли, удивления и захватывающего бешенства. Стремительно и ловко он левой рукой перехватил палку, дернул ее книзу так, что Ткачев едва не упал вперед, вырвал и, оскалив зубы, ударил его поперек лица, по голове и по руке.
Обезумевший от боли и бессильной ненависти Ткачев зашатался, роняя шапку и прикрываясь руками. Показалось, что брызнула кровь.
Четвертый резкий и страшный удар попал уже по руке Ланде. Вытянув, точно в припадке какой-то странной болезни, руки к Молочаеву, бледный, он твердо и властно говорил:
— Не надо… не смейте!
И заслонял Ткачева без усилия и сопротивления. Одну секунду Молочаев бешено смотрел ему в глаза.
— Да ты что ж это, наконец! — хрипло проговорил он, судорожно опустив и сжимая палку, и вдруг коротко размахнулся и омерзительно, хлестко и страшно ударил его по щеке.
Ланде покачнулся и страшно побледнел. На глазах у него выступили светлые крупные капли слез, и глаза так широко раскрылись, что все лицо пропало за их влажным страдальческим блеском.
— Ну, пусть… так… — слабо уронил он концами мокрых дрожащих губ и, непоколебимо прямо глядя в глаза Молочаеву, не двинулся, не отвернулся. Со слепой бессмысленной жестокостью Молочаев, выпустив палку, широко размахнулся, ударил его левой рукой, ступил шаг вперед и ударил в третий раз. Последняя пощечина ляскнула еще страшнее, отчетливо и плоско. Ланде пошатнулся назад, споткнулся о скамейку и тяжело, безобразно, как-то боком, бессильно повалился через нее, высоко задрав ноги.
Молочаев круто повернулся, со страшной силой оттолкнул Ткачева и быстрыми твердыми шагами пошел прочь, ни на кого не глядя.
То, что потом произошло, было похоже на тяжелый бред: все сразу дико и нестройно закричали и толпой кинулись к Ланде. Ткачев с выражением ужаса и мольбы на черном мрачном лице поднял его трясущимися руками. Марья Николаевна целовала его бледные дрожащие пальцы. Шишмарев пробовал надеть фуражку, что-то бессвязно крича. Соня обхватывала его тоненькими прозрачными руками. Они метались на краю обрыва, растерянные, как стая странных вспугнутых выстрелом птиц.
— Господи! что же это такое? — с бесконечным ужасом спрашивала всех Марья Николаевна и ползала у него в ногах с бессознательным, но ослепительно ярким чувством вины, с беспредельным восторгом и жалостью, любовью и возмущением. Ее красивое лицо исказилось, волосы развились, шляпа свалилась на спину, серая юбка беспомощно билась в пыли.
— Иван Ферапонтович… простите… простите! — лепетал Ткачев.
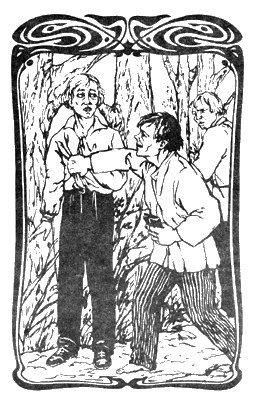
Ланде поворачивал к ним сразу опухшее страшное лицо, силился улыбнуться и бессознательно гладил и хватал руки всех своими дрожащими и ослабевшими руками. Глаза у него запухли, из носа и рта текла кровь, на виске грубо налипла земля и раздавленная зеленая трава.
— Это ничего… — с трудом двигая раздутой губой, проговорил он. — Он не хотел меня… Он потом сам будет страдать… Я к нему пойду… подождите…
Соня дико всплеснула тоненькими ладонями, отступила на шаг и, вся засветившись счастливым восторгом, ярким голосом вскрикнула:
— Ваня, вы святой! Ланде слабо махнул рукой.
— Ах, какие вы глупости говорите, Соня!
Ткачев отчаянно схватился за волосы.
Ланде торопливо улыбнулся ему, встал и, протянув руки, пошел. И тут только все увидели, что Молочаев не ушел. Он стоял в десяти шагах от них, заложив руки в карманы, и криво, упрямо усмехаясь, смотрел на Ланде.
Марья Николаевна вздрогнула всем телом и судорожным движением загородила дорогу Ланде.
— Не смейте, не смейте! — с болезненным, мучительным напряжением зазвеневшим голосом закричала она Ланде.
Но Ланде серьезно отстранил ее.
— Вы не знаете, что говорите! — просто сказал он.
А Соня с тем же выражением восторга и наслаждения на лице оттянула ее за рукав.
Ланде подошел к неподвижно стоявшему и в упор смотревшему на него Молочаеву и протянул ему руки.
На его обезображенном лице была жалость. Молочаев туго и густо покраснел. В глазах у него мрачно вспыхнула задыхающая ненависть, и с холодной насмешкой и злостью он проговорил сквозь зубы:
— Трогательная комедия!
Потом быстро и решительно повернулся и, не останавливаясь, ушел.
Ланде долго смотрел ему вслед, потом сразу весь опустился, сел на лавочку и закрыл лицо руками движением горьким и тоскливым.
— Да что же это в самом деле! — с возмущением пронзительно резко вскрикнул Шишмарев. — Дурак ты, что ли!
В собравшейся возле них пестрой кучке народа захихикали радостно и любопытно. Шишмарев опомнился, быстро оглянулся, с бешенством повернулся и торопливо пошел прочь.
— Черт с тобой, болван… блаженный! — с мучительным ему самому озлоблением бормотал он.
Ткачев, опустив руки, точно его вдруг облили холодной водой и он опомнился от непонятного кошмара, странно посмотрел на Ланде, и его тонкие злые губы кривились.
— Ни-и к чему все это… — с тонкой язвительностью неожиданно проговорил он, как будто отвечая и предостерегая Ланде.
Все молчали и стояли вокруг Ланде. Страстный порыв, охвативший всех, бессильно упал, стало холодно, неловко, нелепо, захотелось уйти, прекратить эту уже казавшуюся безобразной сцену.
ХVIII
К ночи у Ланде начался жар. Избитая голова мучительно ныла и кружилась. Шишмарев думал, что можно ожидать нервной горячки, а потому Марья Николаевна и Соня решили просидеть над ним всю ночь. Ланде ласково смотрел на них и молчал, потому что душа его была переполнена огромным, ему одному понятным чувством. Они долго сидели обе по сторонам стола, положив перед собой книги, которых не читали, и тоскливо глядя на огонь лампы. Уже поздно ночью Соня ушла, а Марья Николаевна осталась одна.
Соня остановилась в темном коридоре. Ее никто не гнал, но ей хотелось муки и умиления и потому она прижала руки к груди и тихо одними губами прошептала:
Соня остановилась в темном коридоре. Ее никто не гнал, но ей хотелось муки и умиления и потому она прижала руки к груди и тихо одними губами прошептала:
