Страница:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая »
- Последняя >>
Александр Архангельский
Музей революции
Я поведу тебя в музей! –
Сказала мне сестра.
С. В. Михалков
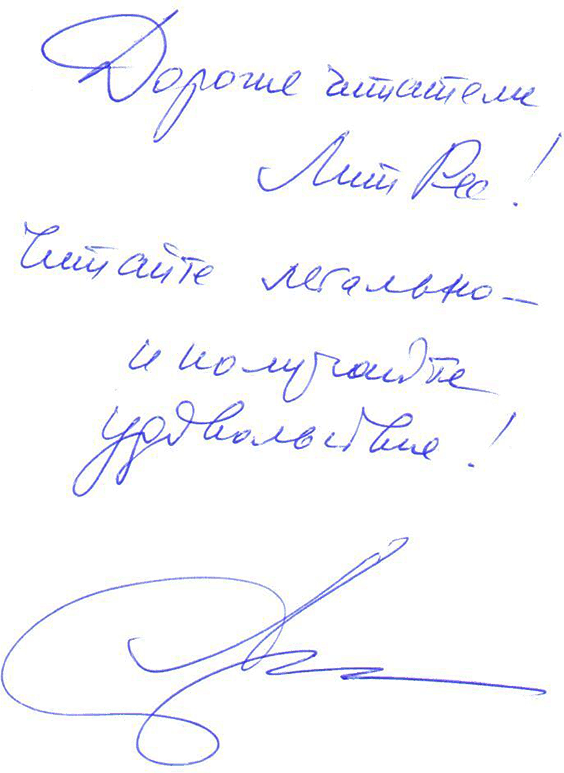
Часть 1
Герой Второго Уровня
Первая глава
1
Зазвонил телефон.
– Алё!
– Ало.
– Алё, говорю!
– Да ало, ало. Ало же. Вам кого?
– Ччерт.
Трубку швырнули на крюк; удар по барабанной перепонке. Мобильный так не отключишь. Мобильный – зверок деликатный, треньк, треньк, ответьте, плз. И звонили не из дому, был слышен приземистый гул автомобильной трассы. Неужели телефон-автомат? Разве их еще не отменили?
Опять звонит. Отвратительный сигнал у городского телефона, тонкий, въедливый. И мелодию не поменяешь.
– Алё!
– Ало. Как, будем говорить, или продолжим трубками кидаться?
– Опять я, что ли, здесь?
– Опять.
– А кто это?
– Слушайте, не я же вам звоню. Вообще-то. Сами представьтесь.
– У, чччерт.
Снова раздаются дробные гудки.
Нет, на этом мужичок не остановится. Голос рыхлый; говорит рывками, сразу слышно, что упрямый. Должно быть, кряжистый и невысокий, а на плечах топорщатся черные волосы с проседью. Слева кустик, справа кустик. На голове залысины. Лоб в тяжелых морщинах. И брови нависли.
А вот и он.
– Алё.
– И снова здрасьте. Может, все-таки вы объясните, кто вы? и куда звоните? и кому? может, вам дали ошибочный номер?
– Домой я звоню, понятно? Супруге. А попадаю к тебе. У меня сейчас карточка кончится. А киоски все позакрывались до утра. А симка, прикинь, не контачит. Такая тут страна.
– И что же, из отеля слишком дорого?
Подпустил иронии, не удержался.
Неизвестный голос помягчел, стал высокомерно-снисходительным.
– Ты не понял, брат. Мы тут на джипах, через всю страну, мы едем.
– А, сафари? Соболезную. Попробуйте жене на сотовый набрать, у нее же есть мобильный?
Еще один укольчик, легкий, но болезненный. Впрочем, кажется, у мужика слоновья шкура, он таких укольчиков не замечает.
– Да не берет она, ты понимаешь? – железо в голосе вернулось, но стало ржавым. – Опять небось забыла где-нибудь. А он на первом же звонке включается, зараза, пи-пи-пи, оставьте сообщение. И деньги жрет. А послезавтра вылетать домой, не сговоришься. Чччерт. Чччерт. Чччерт.
Слышно, как мимо звонящего проносится машина; ветер бьет взрывной волной.
– Что же вы так чертыхаетесь? Побойтесь Бога.
– Какого бога? А, ты в этом смысле. В общем, ладно. Как, говоришь, тебя зовут? Меня – Старобахин. Николай Петрович. Николай. А ты?
– Саларьев. Павел Саларьев.
– Павел, послушай сюда. Если уж так. Сейчас у вас там сколько? Двенадцать уже? У меня десять тридцать. Ну да. Так точно, десять тридцать. Ручка есть? Мужик, прошу, давай по быстрому, пока не поздно, спиши мой номер. Три девятки семь восемь ноль семь. Списал? И мобильный супруги, на всякий… Успеваешь? Позвони с утра на станцию, узнай, в чем дело, лады? Не нравится мне это. Я карточку куплю…
Телефон сглотнул, и связь оборвалась.
Саларьев отругал себя за мягкотелость; нужно было нахала послать, далеко и надолго. И решил, что надо позвонить домой, в Питер. После этого – «мужик», «по быстрому», «списал» – почему-то захотелось вдруг услышать честный, ровный, без малейших примурлыкиваний голос Таты. Вяловатый, выдохшийся, как минеральная вода в приоткрытой бутылке. Но домашний ласковый и теплый. Или же, наоборот, холодный – когда они поссорятся. В Тате странно сочетаются расплывчатость и определенность.
– Тат, привет.
– Ой, Пашуля, мой милый… Я так соскучилась! Когда же тебя наконец выпустят на волю?
– Вот сдам экзамен на звание швеи-мотористки, и сразу. Как поживаешь, Татуся? Что куколки? Какие в Питере погоды?
– Холодно и ветер, как положено… Начинаю новую… Нет, ну все-таки, когда?
– Завтра сдаемся, если все тудем-сюдем, через два дня.
– И навсегда?
– Навсегда. Пока труба не позовет.
– Я тебе дам трубу. Пашка, хватит с нас труб. Давай переходить к оседлой жизни. Пашк, ну правда, сколько можно? Я взаперти, ты неизвестно где…
– Я известно где. В столице нашей родины. Москве.
– …незнамо где, так жизнь пройдет, состаримся, умрем, Паш, я правду говорю, возвращайся домой, под бочок, и больше никуда и никогда.
– Тат, давай не будем.
– Что не будем?
– Начинать не будем, вот что. А то опять схлестнемся. Не хочу.
– И я не хочу. Но и жить мне так тоже надоело. Рваным стежком…
– Надоело – не живи.
– Зачем тогда звонил?
– Пообщаться думал.
– Пообщался?
– Пообщался. Спокойной ночи.
Бух. Она швыряет трубку громче Старобахина.
И так всегда. Начинается по мелочи, слово за слово, доходит до крика: а ты? а ты! Разругавшись, ходят надутые, обоим плохо, оба ждут, кто не выдержит первым. Час, день, три дня, неделю. Настроение паршивое, все валится из рук. Но как только кто-то побеждает гордость, идет с прижатыми ушами замиряться, тут наступает всемирный рассвет, камень падает с сердца, все ладится и удается слету. А через недолгое время опять: это ты сказал! нет, это ты сказала! ах, так?!
Раздраженный Павел смял бумажку с телефоном Старобахина, хотел было выбросить в мусорку, но почему-то вдруг остановился. Стало интересно. Как в книжке, когда завязался сюжет – ну-ка, что там у вас приключится? Он сдвинул очки на кончик носа и, не отрываясь от бумажки, набрал по проводному телефону продиктованный номер: девять-девять-девять семь восемь ноль семь. Услышал мелкие гудки. Занято. Через минуту повторил. И тот же результат. Попробовал отвлечься. Заварил никудышного чаю. Неспешно выпил, глядя в телевизор. Звук выключен: мелькание картинок расслабляет, а про что там говорят – неинтересно. Набрал еще разок. Ту-ту-ту. Разговорчивая дамочка, однако… и вдруг промелькнула догадка, смутная, прохладная, как тень.
Не вставая с кресла (руку протянул – и в коридоре; квартиренка крохотная, общей площадью шестнадцать метров), цапнул с тумбочки под вешалкой мобильник. Пробежался по упругим кнопкам: три девятки семь восемь ноль семь. Замер. Смертельно тихо. Капля из крана звонко бьет по железной раковине: надо будет срочно починить.
– Стойте! я больше не буду! не буду! да подождите вы! – из-за окна доносятся пивные голоса.
Две секунды ожидания… нормальные, протяжные гудки… четыре… в коридоре заныл городской телефон. Павел снял проводную трубку, прижал ее к правому уху, а мобильник к левому, сказал в него: ало. В правом ухе неприятно раздалось: ало. Как прикажешь это понимать? – как прикажешь это понимать? Сумасшедший дом – сумасшедший дом.
Он разговаривал с собственным эхом. Набирал продиктованный номер, а попал на собственный домашний.
Вот тебе и черт-черт-черт. Нехорошо.
– Алё!
– Ало.
– Алё, говорю!
– Да ало, ало. Ало же. Вам кого?
– Ччерт.
Трубку швырнули на крюк; удар по барабанной перепонке. Мобильный так не отключишь. Мобильный – зверок деликатный, треньк, треньк, ответьте, плз. И звонили не из дому, был слышен приземистый гул автомобильной трассы. Неужели телефон-автомат? Разве их еще не отменили?
Опять звонит. Отвратительный сигнал у городского телефона, тонкий, въедливый. И мелодию не поменяешь.
– Алё!
– Ало. Как, будем говорить, или продолжим трубками кидаться?
– Опять я, что ли, здесь?
– Опять.
– А кто это?
– Слушайте, не я же вам звоню. Вообще-то. Сами представьтесь.
– У, чччерт.
Снова раздаются дробные гудки.
Нет, на этом мужичок не остановится. Голос рыхлый; говорит рывками, сразу слышно, что упрямый. Должно быть, кряжистый и невысокий, а на плечах топорщатся черные волосы с проседью. Слева кустик, справа кустик. На голове залысины. Лоб в тяжелых морщинах. И брови нависли.
А вот и он.
– Алё.
– И снова здрасьте. Может, все-таки вы объясните, кто вы? и куда звоните? и кому? может, вам дали ошибочный номер?
– Домой я звоню, понятно? Супруге. А попадаю к тебе. У меня сейчас карточка кончится. А киоски все позакрывались до утра. А симка, прикинь, не контачит. Такая тут страна.
– И что же, из отеля слишком дорого?
Подпустил иронии, не удержался.
Неизвестный голос помягчел, стал высокомерно-снисходительным.
– Ты не понял, брат. Мы тут на джипах, через всю страну, мы едем.
– А, сафари? Соболезную. Попробуйте жене на сотовый набрать, у нее же есть мобильный?
Еще один укольчик, легкий, но болезненный. Впрочем, кажется, у мужика слоновья шкура, он таких укольчиков не замечает.
– Да не берет она, ты понимаешь? – железо в голосе вернулось, но стало ржавым. – Опять небось забыла где-нибудь. А он на первом же звонке включается, зараза, пи-пи-пи, оставьте сообщение. И деньги жрет. А послезавтра вылетать домой, не сговоришься. Чччерт. Чччерт. Чччерт.
Слышно, как мимо звонящего проносится машина; ветер бьет взрывной волной.
– Что же вы так чертыхаетесь? Побойтесь Бога.
– Какого бога? А, ты в этом смысле. В общем, ладно. Как, говоришь, тебя зовут? Меня – Старобахин. Николай Петрович. Николай. А ты?
– Саларьев. Павел Саларьев.
– Павел, послушай сюда. Если уж так. Сейчас у вас там сколько? Двенадцать уже? У меня десять тридцать. Ну да. Так точно, десять тридцать. Ручка есть? Мужик, прошу, давай по быстрому, пока не поздно, спиши мой номер. Три девятки семь восемь ноль семь. Списал? И мобильный супруги, на всякий… Успеваешь? Позвони с утра на станцию, узнай, в чем дело, лады? Не нравится мне это. Я карточку куплю…
Телефон сглотнул, и связь оборвалась.
Саларьев отругал себя за мягкотелость; нужно было нахала послать, далеко и надолго. И решил, что надо позвонить домой, в Питер. После этого – «мужик», «по быстрому», «списал» – почему-то захотелось вдруг услышать честный, ровный, без малейших примурлыкиваний голос Таты. Вяловатый, выдохшийся, как минеральная вода в приоткрытой бутылке. Но домашний ласковый и теплый. Или же, наоборот, холодный – когда они поссорятся. В Тате странно сочетаются расплывчатость и определенность.
– Тат, привет.
– Ой, Пашуля, мой милый… Я так соскучилась! Когда же тебя наконец выпустят на волю?
– Вот сдам экзамен на звание швеи-мотористки, и сразу. Как поживаешь, Татуся? Что куколки? Какие в Питере погоды?
– Холодно и ветер, как положено… Начинаю новую… Нет, ну все-таки, когда?
– Завтра сдаемся, если все тудем-сюдем, через два дня.
– И навсегда?
– Навсегда. Пока труба не позовет.
– Я тебе дам трубу. Пашка, хватит с нас труб. Давай переходить к оседлой жизни. Пашк, ну правда, сколько можно? Я взаперти, ты неизвестно где…
– Я известно где. В столице нашей родины. Москве.
– …незнамо где, так жизнь пройдет, состаримся, умрем, Паш, я правду говорю, возвращайся домой, под бочок, и больше никуда и никогда.
– Тат, давай не будем.
– Что не будем?
– Начинать не будем, вот что. А то опять схлестнемся. Не хочу.
– И я не хочу. Но и жить мне так тоже надоело. Рваным стежком…
– Надоело – не живи.
– Зачем тогда звонил?
– Пообщаться думал.
– Пообщался?
– Пообщался. Спокойной ночи.
Бух. Она швыряет трубку громче Старобахина.
И так всегда. Начинается по мелочи, слово за слово, доходит до крика: а ты? а ты! Разругавшись, ходят надутые, обоим плохо, оба ждут, кто не выдержит первым. Час, день, три дня, неделю. Настроение паршивое, все валится из рук. Но как только кто-то побеждает гордость, идет с прижатыми ушами замиряться, тут наступает всемирный рассвет, камень падает с сердца, все ладится и удается слету. А через недолгое время опять: это ты сказал! нет, это ты сказала! ах, так?!
Раздраженный Павел смял бумажку с телефоном Старобахина, хотел было выбросить в мусорку, но почему-то вдруг остановился. Стало интересно. Как в книжке, когда завязался сюжет – ну-ка, что там у вас приключится? Он сдвинул очки на кончик носа и, не отрываясь от бумажки, набрал по проводному телефону продиктованный номер: девять-девять-девять семь восемь ноль семь. Услышал мелкие гудки. Занято. Через минуту повторил. И тот же результат. Попробовал отвлечься. Заварил никудышного чаю. Неспешно выпил, глядя в телевизор. Звук выключен: мелькание картинок расслабляет, а про что там говорят – неинтересно. Набрал еще разок. Ту-ту-ту. Разговорчивая дамочка, однако… и вдруг промелькнула догадка, смутная, прохладная, как тень.
Не вставая с кресла (руку протянул – и в коридоре; квартиренка крохотная, общей площадью шестнадцать метров), цапнул с тумбочки под вешалкой мобильник. Пробежался по упругим кнопкам: три девятки семь восемь ноль семь. Замер. Смертельно тихо. Капля из крана звонко бьет по железной раковине: надо будет срочно починить.
– Стойте! я больше не буду! не буду! да подождите вы! – из-за окна доносятся пивные голоса.
Две секунды ожидания… нормальные, протяжные гудки… четыре… в коридоре заныл городской телефон. Павел снял проводную трубку, прижал ее к правому уху, а мобильник к левому, сказал в него: ало. В правом ухе неприятно раздалось: ало. Как прикажешь это понимать? – как прикажешь это понимать? Сумасшедший дом – сумасшедший дом.
Он разговаривал с собственным эхом. Набирал продиктованный номер, а попал на собственный домашний.
Вот тебе и черт-черт-черт. Нехорошо.
2
Офис Ройтмана расположился в самом центре, на Софийской набережной. Напротив, через Москву-реку – восточный Кремль; он как будто сделан из папье-маше и раскрашен веселой гуашью. На узкой улице толкаются роскошные машины; прохожих мало, как посетителей в заброшенном музее. Когда-то здесь стоял особнячок. На излете 90-х Ройтман начал расширяться и облюбовал себе местечко близ Кремля; особняк решили не сносить, и полностью встроили в новое здание. Теперь из сердцевины полированного мрамора выступают белые колонны и стыдливо-желтые оштукатуренные стены. Словно гигантская галька с окаменелой ракушкой внутри.
В офисном предбаннике царит непроницаемая тишина, искусственная легкая прохлада – Юлик Шачнев, куратор проекта, постоянно жалуется, что воздух пахнет надкушенной сливой, а он терпеть ее не может. Футляры долго, скучно проверяют. Бережно, слоями вынимают вкладыши, чтобы не сколоть фигурки, висящие на петельках; неспешно изучают документы. Из отдельной зашторенной комнаты выходит человек, космически вежливый и безразличный. В толстом панцире бронежилета он похож на черепашку. Молча, прижимая локтем автомат, сопровождает на восьмой этаж, где расположены хозяйские покои.
Двери лифта раздвигаются с достоинством. Перед глазами распахнут простор. Внешняя стена стеклянная, обзорная, без перекладин. Этаж завис на уровне соборных куполов Кремля; сквозь белое на золотом сочится небо. Снизу, как малиновая оторочка, проступает зубчатая линия стены.
В обе стороны, направо и налево – полукольцом уходит коридор. Слышится мягкая поступь. Из левого изгиба прорастает тень: еще один сопровождающий, такой же молчаливый, в черном. Тень жестом приглашает следовать за нею. Они ныряют в желтоватый полусумрак. По обе стороны – состаренные книжные шкафы в английском стиле, золотым тиснением мерцают корешки.
На обрыве коридора вспыхивает свет, как на ярком кончике светодиода.
– Я вас оставляю.
Тень ускользает.
– Ну что, старечог, спасибо нашим поварам за наш последний ужин, начинаем готовиться к встрече?
Это Юлик. Сдобные щеки зарумянились, глаза возбужденно блестят: ну, ребяты-демократы, молодцы!
В офисном предбаннике царит непроницаемая тишина, искусственная легкая прохлада – Юлик Шачнев, куратор проекта, постоянно жалуется, что воздух пахнет надкушенной сливой, а он терпеть ее не может. Футляры долго, скучно проверяют. Бережно, слоями вынимают вкладыши, чтобы не сколоть фигурки, висящие на петельках; неспешно изучают документы. Из отдельной зашторенной комнаты выходит человек, космически вежливый и безразличный. В толстом панцире бронежилета он похож на черепашку. Молча, прижимая локтем автомат, сопровождает на восьмой этаж, где расположены хозяйские покои.
Двери лифта раздвигаются с достоинством. Перед глазами распахнут простор. Внешняя стена стеклянная, обзорная, без перекладин. Этаж завис на уровне соборных куполов Кремля; сквозь белое на золотом сочится небо. Снизу, как малиновая оторочка, проступает зубчатая линия стены.
В обе стороны, направо и налево – полукольцом уходит коридор. Слышится мягкая поступь. Из левого изгиба прорастает тень: еще один сопровождающий, такой же молчаливый, в черном. Тень жестом приглашает следовать за нею. Они ныряют в желтоватый полусумрак. По обе стороны – состаренные книжные шкафы в английском стиле, золотым тиснением мерцают корешки.
На обрыве коридора вспыхивает свет, как на ярком кончике светодиода.
– Я вас оставляю.
Тень ускользает.
– Ну что, старечог, спасибо нашим поварам за наш последний ужин, начинаем готовиться к встрече?
Это Юлик. Сдобные щеки зарумянились, глаза возбужденно блестят: ну, ребяты-демократы, молодцы!
3
Когда-то, на излете перестройки, Саларьев получил хорошую стипендию и на полгода улетел в Стокгольм. Обезличенная дама в светло-синей форме пролистала красный паспорт и брезгливо шлепнула печать; на таможне твердый господин скептически взглянул на чемодан, дерматиновый, потертый, и ничего досматривать не стал. Автоматические двери расползлись, как театральный занавес, и Павел оказался за границей. Свет в Шереметьево был тёмно-жёлтый, комковатый, а здесь – бесцветный, ярко растворяющийся в воздухе. За окнами – безжизненное утро, беспросветно серое, тяжелое, а внутри – неутомимое свечение. И бодрый запах булочек; маминых, воскресных, теплых. А еще цветочной лавки, свежесваренного кофе, маринованной сладкой селедки. За одним из столиков сидели милые старушки и азартно резались в карты…
Почему-то сразу стало ясно, что никакой науки тут не будет. Будет – бесконечный островерхий город. Город – был. Вокруг могучего и нагло вздыбленного корабля «Васа» бродили мелкие японцы, потрескивали меленькими вспышками. В затемненном зале Нобелевского фонда, как хорошие детсадовские девочки, сидели бабушки с фиолетовыми буклями и послушно смотрели кино на трех параллельных экранах. Накануне демонического Хэллоуина по вековой брусчатке аккуратно пробегали ряженые; в ресторанах был скромный, холодный уют. Мужчины распускали галстуки, расстегивали верхние пуговки. Крупные в кости, но худощаво-вытянутые женщины весело болтали, напрягая спины и держа осанку.
За день до отлета в Ленинград ему позвонил куратор, короткоствольный рыжий швед, профессор Сольман. Куратор говорил по-русски чисто, но с тягучим, вежливым акцентом: «Павел! есть хорошая идея, подъезжайте!». Ехать очень не хотелось; начинался насморк, в горле наждачно скребло, и вообще он собирался почитать в постели, слушая, как дробно отлетают капли от мансардного окна. Но Сольману отказывать нельзя; он охотно прикрывал Саларьева, даже поощрял прогулы, его любимое присловье – русское, с мягким гуттаперчевым акцентом: а ничего, давай, нарушим.
Павел обреченно отстегнул замок велосипеда, и сквозь мелкий клубящийся дождь поехал к Университету. На мосту его обогнала пижонская двухместная машина; тонкая вода взвилась из-под колес, закрутилась в воздухе и облепила Павла коконом. Мгновенно обожгло лицо; за шиворот потекли ледяные струйки, башмаки разбухли, стали хлюпать.
Увидев мокрого стажера Сольман охнул, отечески обтер ручным полотенцем, плеснул аквавита, и потянул за собой: прям обалдеем.
Было поздно, часов одиннадцать, порядочные шведы по кроваткам, и Сольман счастлив, что опять нарушил. Они одни в пустой, предельно скучной комнате; на офисном столе из ДСП, прогибая его ненадежный каркас, высится компьютерный экран. Таких тогда никто еще не видел; университетской нормой были маковские ящички, тяжелые и неуклюжие, с небольшими черно-белыми экранами, а этот был не меньше метра в высоту и сантиметров семьдесят в ширину. Непривычно вытянутый по вертикали, узкий и покатый; на стекле играет радужная дымка, как на раздутом мыльном пузыре.
Экран неуверенно пфыкнул. Сверху вниз сползало медленное изображение. Краски взбухшие, фактурные, со следами грубоватой кисти. Синее, сиреневое, розовое, нежное, телесное, воздушное и плотское… актриса Сара Бернар. Изображение застыло на минуту, дрогнуло, Сара заместилась загорелыми купальщиками: старозаветные хитрые лица, холмистая местность, белесая, перетекающая в синеву; издалека, навстречу купальщикам, но на самом деле к нам, а через нас и дальше – движется Мессия…
Очередная смена декораций. И еще. И еще. И опять.
Раздался веселый чпок, проявился пенный запах: это распоясавшийся Сольман открыл пивную банку и предложил залакировать.
Павел отказался.
– Как хотите, мне больше достанется, – по-русски возразил ему Сольман, выпил залпом и по-английски (чтобы получилось коротко и четко) рассказал про музейный проект. Выделено восемнадцать миллионов крон. Королевский фонд сканирует все главные картины мира – те, на которых держится цивилизация. Их выложат на общую платформу. Скорость интернета увеличится, и можно будет из любого города, да что из города! деревни! заходить на виртуальный склад и скачивать любые образы. Люди будут плавать в них, как плод в плаценте; переходя на английский, Сольман избегал искусственного просторечия, и говорил подчеркнуто литературно.
Павел смотрел на экран, потрясенный, счастливый. Как щенок, которого, мотая в воздухе, за шкирку отнесли во двор. Сколько новых впечатлений! Двор огромный! Из конца в конец бежать – не добежишь! Сердце бешено забилось, кровь прилила к голове, начало немного морозить, покручивать руки в запястьях, как в детстве при игре в крапивку; он успел насмешливо подумать: что за девическая впечатлительность? И плюхнулся на стул: внезапно подкосились ноги.
В больнице спросили страховку, изучили краснокожий паспорт: застрахованы до послезавтра? виза действует до тридцать первого? Тогда применим шквальное лечение.
В таких количествах лекарствами его еще не пичкали. Температура спала, кожа обтянула кости; он чувствовал себя, как мумия в гробнице. Но зато в назначенное время, на своих двоих, он пересек священную границу, сел в самолет, и сразу провалился в сон. Каким-то запасным сознанием он понимал, что в иллюминатор жестко светит ледяное солнце; слышал, как сосед в полосатом костюме, читавший на взлете длинный черно-желтый мусульманский календарь, резко всхрапывает и просыпается, чтобы снова уснуть, и всхрапнуть, и проснуться, а тетенька опасного, избыточного возраста продолжает тормошить напившегося мужа: муж! а муж! да очнись ты! скажи, что меня любишь.
Едва оправившись, Саларьев стал обзванивать друзей, ушедших в бизнес. Реакция была примерно одинаковой. На что – на что дать денег? на музей? искусственный, в компьютере? Полмиллиона? Паш, ты с глузду съехал! какие музеи в настоящий момент времени? тем более в компьютере. Купи себе лучше джип, трехлетку, дизель. Хочешь перегонщика дам, из надежных?
Но год от года дешевела техника; можно было обойтись без посторонней помощи. Он разработал первую свою программу, волне еще топорную, смешную. Пошел к ребятам, делавшим компьютерные игры: побей, но выучи. Лохматые ребята, сидевшие в прокуренном полуподвале на Литейном, научили. Он часами наблюдал и восхищенно слушал жреческое бормотание:
– Так-так-так, и будет нам великое счастье… здесь нужна бомба… где тут у нас война? а, вот у нас война, как же вдруг мы – и без бомбы… Поехали, ее сейчас нормолазом сделают.
А потом появились заказы. Скромные, на пробу. Серьезные, с размахом. И даже грандиозные, как этот.
Почему-то сразу стало ясно, что никакой науки тут не будет. Будет – бесконечный островерхий город. Город – был. Вокруг могучего и нагло вздыбленного корабля «Васа» бродили мелкие японцы, потрескивали меленькими вспышками. В затемненном зале Нобелевского фонда, как хорошие детсадовские девочки, сидели бабушки с фиолетовыми буклями и послушно смотрели кино на трех параллельных экранах. Накануне демонического Хэллоуина по вековой брусчатке аккуратно пробегали ряженые; в ресторанах был скромный, холодный уют. Мужчины распускали галстуки, расстегивали верхние пуговки. Крупные в кости, но худощаво-вытянутые женщины весело болтали, напрягая спины и держа осанку.
За день до отлета в Ленинград ему позвонил куратор, короткоствольный рыжий швед, профессор Сольман. Куратор говорил по-русски чисто, но с тягучим, вежливым акцентом: «Павел! есть хорошая идея, подъезжайте!». Ехать очень не хотелось; начинался насморк, в горле наждачно скребло, и вообще он собирался почитать в постели, слушая, как дробно отлетают капли от мансардного окна. Но Сольману отказывать нельзя; он охотно прикрывал Саларьева, даже поощрял прогулы, его любимое присловье – русское, с мягким гуттаперчевым акцентом: а ничего, давай, нарушим.
Павел обреченно отстегнул замок велосипеда, и сквозь мелкий клубящийся дождь поехал к Университету. На мосту его обогнала пижонская двухместная машина; тонкая вода взвилась из-под колес, закрутилась в воздухе и облепила Павла коконом. Мгновенно обожгло лицо; за шиворот потекли ледяные струйки, башмаки разбухли, стали хлюпать.
Увидев мокрого стажера Сольман охнул, отечески обтер ручным полотенцем, плеснул аквавита, и потянул за собой: прям обалдеем.
Было поздно, часов одиннадцать, порядочные шведы по кроваткам, и Сольман счастлив, что опять нарушил. Они одни в пустой, предельно скучной комнате; на офисном столе из ДСП, прогибая его ненадежный каркас, высится компьютерный экран. Таких тогда никто еще не видел; университетской нормой были маковские ящички, тяжелые и неуклюжие, с небольшими черно-белыми экранами, а этот был не меньше метра в высоту и сантиметров семьдесят в ширину. Непривычно вытянутый по вертикали, узкий и покатый; на стекле играет радужная дымка, как на раздутом мыльном пузыре.
Экран неуверенно пфыкнул. Сверху вниз сползало медленное изображение. Краски взбухшие, фактурные, со следами грубоватой кисти. Синее, сиреневое, розовое, нежное, телесное, воздушное и плотское… актриса Сара Бернар. Изображение застыло на минуту, дрогнуло, Сара заместилась загорелыми купальщиками: старозаветные хитрые лица, холмистая местность, белесая, перетекающая в синеву; издалека, навстречу купальщикам, но на самом деле к нам, а через нас и дальше – движется Мессия…
Очередная смена декораций. И еще. И еще. И опять.
Раздался веселый чпок, проявился пенный запах: это распоясавшийся Сольман открыл пивную банку и предложил залакировать.
Павел отказался.
– Как хотите, мне больше достанется, – по-русски возразил ему Сольман, выпил залпом и по-английски (чтобы получилось коротко и четко) рассказал про музейный проект. Выделено восемнадцать миллионов крон. Королевский фонд сканирует все главные картины мира – те, на которых держится цивилизация. Их выложат на общую платформу. Скорость интернета увеличится, и можно будет из любого города, да что из города! деревни! заходить на виртуальный склад и скачивать любые образы. Люди будут плавать в них, как плод в плаценте; переходя на английский, Сольман избегал искусственного просторечия, и говорил подчеркнуто литературно.
Павел смотрел на экран, потрясенный, счастливый. Как щенок, которого, мотая в воздухе, за шкирку отнесли во двор. Сколько новых впечатлений! Двор огромный! Из конца в конец бежать – не добежишь! Сердце бешено забилось, кровь прилила к голове, начало немного морозить, покручивать руки в запястьях, как в детстве при игре в крапивку; он успел насмешливо подумать: что за девическая впечатлительность? И плюхнулся на стул: внезапно подкосились ноги.
В больнице спросили страховку, изучили краснокожий паспорт: застрахованы до послезавтра? виза действует до тридцать первого? Тогда применим шквальное лечение.
В таких количествах лекарствами его еще не пичкали. Температура спала, кожа обтянула кости; он чувствовал себя, как мумия в гробнице. Но зато в назначенное время, на своих двоих, он пересек священную границу, сел в самолет, и сразу провалился в сон. Каким-то запасным сознанием он понимал, что в иллюминатор жестко светит ледяное солнце; слышал, как сосед в полосатом костюме, читавший на взлете длинный черно-желтый мусульманский календарь, резко всхрапывает и просыпается, чтобы снова уснуть, и всхрапнуть, и проснуться, а тетенька опасного, избыточного возраста продолжает тормошить напившегося мужа: муж! а муж! да очнись ты! скажи, что меня любишь.
Едва оправившись, Саларьев стал обзванивать друзей, ушедших в бизнес. Реакция была примерно одинаковой. На что – на что дать денег? на музей? искусственный, в компьютере? Полмиллиона? Паш, ты с глузду съехал! какие музеи в настоящий момент времени? тем более в компьютере. Купи себе лучше джип, трехлетку, дизель. Хочешь перегонщика дам, из надежных?
Но год от года дешевела техника; можно было обойтись без посторонней помощи. Он разработал первую свою программу, волне еще топорную, смешную. Пошел к ребятам, делавшим компьютерные игры: побей, но выучи. Лохматые ребята, сидевшие в прокуренном полуподвале на Литейном, научили. Он часами наблюдал и восхищенно слушал жреческое бормотание:
– Так-так-так, и будет нам великое счастье… здесь нужна бомба… где тут у нас война? а, вот у нас война, как же вдруг мы – и без бомбы… Поехали, ее сейчас нормолазом сделают.
А потом появились заказы. Скромные, на пробу. Серьезные, с размахом. И даже грандиозные, как этот.
4
Юлий позвонил примерно год назад. Представился. Кто, что и как – неважно. Рекомендовали правильные люди, сказали, что Саларьев главный по музейной виртуалке. Вкратце изложил идею, предложил увидеться. В Москве? Зачем же? Можно и в Питер приехать, город подзапущенный, но ничего, когда-нибудь займемся. (В этом месте нужно было рассмеяться; Павел вежливо прихмыкнул.)
Они сидели в модном ресторане на крыше зингеровского особняка. Ресторан был высвечен рассудочно; на застекленный купол налипал сероватый ноябрь; было в этом что-то скандинавское, далекое. Невский двигался с одышкой, вязко, Публичка и Александринка оплывали в дымке. Павел полюбил и город, и его упрямых граждан, аристократически ленивых, с пролетарским апломбом, умных, нервных, быстро каменеющих от гнева, легко приходящих на помощь, умеющих терпеть свою судьбу и слегка презирающих этих равнодушных москвичей, которые вместо нормальных хлеба и булки едят свой черный хлеб и белый хлеб. Но ленинградский климат ненавидел. Люто. Как всякий южанин, с детства прогретый насквозь. Хуже всего в ноябре; по утрам невозможно проснуться, вечером – уснуть; кровь становится клейкой и густой, от бесконечных мокрых перепадов ветра закорачивает мысли, кажется, они перегорели и пахнут окалиной.
Павел сжал себя в кулак, сосредоточился. А Юлик ничего не замечал. Он был упитанный, в очках, со слоновьими уютными ушами; похож на мелкопоместного помещика, приехавшего в город принимать права наследства. Отстегнул сапфировые запонки, с черными брильянтами, утопленными в платину, положил в атласный футлярчик. Рукава сорочки закатал, розоватый галстук распустил, вечерний пиджак вольготно повесил на спинку. И не уставая похохатывал.
Тарелки в здешнем заведении не полагались: в круглой стеклянной столешнице были сделаны углубления, куда официант, поворачивая стол вокруг оси, поочередно выкладывал блюда. Замызгали салатом, прикрыли непрозрачной крышкой из цветного темного стекла – поворотик – переходим к супу; выхлебали суп – прикрыли – поворот – и мясо.
– Безумное чаепитие! – смеялся Юлик. – Жаль, что нету углублений для вина! прикиньте, Павел, как бы мы тут чокались! Вино в поддоне! Гениально.
Но переходя от светских шуток к делу, он менялся. Щедрая улыбка исчезала, как будто с нижней части лица сдирали наклейку. Глаза темнели, вдруг переставали бегать и смотрели прямо, как в прицел. Губы делались тонкими, кончики загнуты вниз. Обвислые мягкие уши вставали торчком.
– Итак…
Заказ был фантастический – и денежный, и жизненный, и даже несколько научный; таких предложений Павлу до сих пор не делали – обычно было либо, либо, либо.
Компания, которой распоряжался… совладел… неважно… Михаил Ханаанович Ройтман (его все называли Михаил Михалыч или по-простому – бог), была грандиозной; половина благодетелей усадьбы, в которой Павел работал заместителем директора, были так или иначе связаны с ройтмановской империей, всосавшей без остатка города и веси; в каком-то интервью сам Ройтман (то ли в шутку, то ли почти что всерьез) сказал о новом, незамызганном рабовладении – многие его за это осудили.
И вот пришла пора слегка притормозить. Перенаправиться, как выразился Юлик. Неважно, по каким причинам. Надо. Юлик объяснял рывками, не заканчивая фразы, пропуская глагольные связки; так после антивирусной программы компьютер выдает обрубленные файлы.
– Словом, старечог, записано… а так, вернуть, продать… короче, надо. На выходе что остается? Ну деньги. Деньги – тьфу, деньги есть. На выходе должна остаться память, понимаешь? На кону семнадцать ярдов… пятнадцать процентов туда, пятнадцать сюда, тридцать этим… все равно немало. Он что придумал: заказать себе музей, сечешь?
Павел – сек. Так сплошь и рядом говорили спонсоры музея: энергично начиная фразу, быстро сглатывая продолжение. Вся их жизнь прошла в словесных прятках, они привыкли обрывать себя, чтобы случайно не сказать чего-то лишнего. Было ясно главное: что Ройтман собирается продать Торинский комбинат. Готовясь к отступлению, он хочет сохранить на память то, что будет с ним всегда, в любой стране, куда ни бросит. Передвижной компьютерный музей. Пятнадцать лет жестокой жизни, история о том, как безнадежный город ждал прихода Ройтмана, как Ройтман взял его в полуразвале, поставил на ноги, вернул надежду; и это правда, а не сказка, это – было!
Ну, и, разумеется, цена.
Павел боролся со спазмом, корчил из себя делягу, небрежно торговался, заранее поняв, что в этот раз – дадут.
Напоследок Юлик попросил:
– А что-нибудь еще придумать можем? Ну такое, для сюрприза, лично богу, типа бонус?
Саларьев глубоко задумался. Вспомнил, как жена учила его делать раскрашенных куколок.
– Эй, старечог, чего молчишь? С тобой порядок?
Павел очнулся, тряхнул головой.
– Да, порядок. Полный порядок. Знаешь, Юлий, я придумал. Давай мы сделаем еще один музейчик, игрушечный, детский, из хлебного мякиша с солью.
– Что-что? – не понял Юлик.
Выслушал и от души развеселился.
– Ну конечно, конечно, лепи! А есть тебе в Москве, где жить? Не то дадим служебное жилье. Неуютное, но зато бесплатно.
Саларьеву было, где жить. Московскую квартирку он купил по случаю, ни для чего. В девяносто восьмом, перед дефолтом. Приехал на денек в Москву, за шведской денежкой – четыре серии документалки про судьбу трофейных книжек, устроенные Сольманом, по старой дружбе. В восемь тридцать вышел из поезда, в десять добрался до офиса, к одиннадцати был свободен и богат. Зашел в кафе, взял бесплатную газету объявлений, стал попивать латте, запененное в узкой чашке. И наткнулся: срочно продаю, на Силикатной, однушка, 16 м., 14 000 у. е., оформление за день.
Поехал посмотреть – и сразу сговорился. Не то, чтобы понравилось. Чему тут особенно нравиться? Дом гостиничного типа. Длинный узкий коридор упирается в глухую шкрябаную стену. По обе стороны – унылые коричневые двери, тынк-тынк, тынк-тынк. Ровно посредине коридора на старом крученом шнуре, как в стильном кино про 30-е годы, висит стосвечовая лампа. Вокруг болезненно слепящий свет, а дальше нарастает темнота. На улице чадят грузовики, возле дома нахохленными стайками сидят бабули в белых бязевых платочках – по краям платочков похоронно пропущены синие крестики; неуютно и тоскливо. Но слишком страшно было до полуночи таскаться с деньгами в портфеле. Потом в каком-нибудь сортире близ вокзала перекладывать их в набрюшник, сшитый Татой. Возвращаться ночным, и до утра не спать, гадая: кто твои попутчики? нормальные ребята? не бандиты? не вели весь день, чтобы чикнуть ножом, и поминай, как звали?
После кризиса квартирка вздорожала, они ее стали сдавать, а после разговора с Юликом Павел отказал жильцам. Три дня в неделю жил под Питером, в усадьбе, день дома, с Татой, три – в Москве. В своей уютной карликовой норке. В офисе руководил компьютерными гениями, приятно диковатыми, в потертых свитерах на фоне вылизанных офисных гомункулов, придумывал сценарные ходы, рисовал с художниками раскадровку. А вечером, на Силикатной, надевал хозяйский фартук, вымешивал тесто с поваренной солью и лепил забавные фигурки, которые, пока их не раскрасишь, похожи на резиновых девчачьих пупсов – и на греческих богов в миниатюре. Вялые губки распущены, пустые глазницы смотрят в вечность.
Вот истукан в растянутой шляпе с английским двойным козырьком – мясистый нос, капризный начальственный рот, жадные, навыкате глаза. Вылитый Ахилл в античной каске.
Шахтер напоминает Вакха, вывалившего пузо перед нимфой.
Секретарша сдобная, как полагается.
Мякиш тяжелел и покрывался глазурной коркой; Саларьев начинал раскрашивать фигурки и – в духовку. Главное, чтобы не появились трещины, не вывернулось рыхлое нутро; так болезненно-белый грибок разрывает вздувшуюся штукатурку.
Они сидели в модном ресторане на крыше зингеровского особняка. Ресторан был высвечен рассудочно; на застекленный купол налипал сероватый ноябрь; было в этом что-то скандинавское, далекое. Невский двигался с одышкой, вязко, Публичка и Александринка оплывали в дымке. Павел полюбил и город, и его упрямых граждан, аристократически ленивых, с пролетарским апломбом, умных, нервных, быстро каменеющих от гнева, легко приходящих на помощь, умеющих терпеть свою судьбу и слегка презирающих этих равнодушных москвичей, которые вместо нормальных хлеба и булки едят свой черный хлеб и белый хлеб. Но ленинградский климат ненавидел. Люто. Как всякий южанин, с детства прогретый насквозь. Хуже всего в ноябре; по утрам невозможно проснуться, вечером – уснуть; кровь становится клейкой и густой, от бесконечных мокрых перепадов ветра закорачивает мысли, кажется, они перегорели и пахнут окалиной.
Павел сжал себя в кулак, сосредоточился. А Юлик ничего не замечал. Он был упитанный, в очках, со слоновьими уютными ушами; похож на мелкопоместного помещика, приехавшего в город принимать права наследства. Отстегнул сапфировые запонки, с черными брильянтами, утопленными в платину, положил в атласный футлярчик. Рукава сорочки закатал, розоватый галстук распустил, вечерний пиджак вольготно повесил на спинку. И не уставая похохатывал.
Тарелки в здешнем заведении не полагались: в круглой стеклянной столешнице были сделаны углубления, куда официант, поворачивая стол вокруг оси, поочередно выкладывал блюда. Замызгали салатом, прикрыли непрозрачной крышкой из цветного темного стекла – поворотик – переходим к супу; выхлебали суп – прикрыли – поворот – и мясо.
– Безумное чаепитие! – смеялся Юлик. – Жаль, что нету углублений для вина! прикиньте, Павел, как бы мы тут чокались! Вино в поддоне! Гениально.
Но переходя от светских шуток к делу, он менялся. Щедрая улыбка исчезала, как будто с нижней части лица сдирали наклейку. Глаза темнели, вдруг переставали бегать и смотрели прямо, как в прицел. Губы делались тонкими, кончики загнуты вниз. Обвислые мягкие уши вставали торчком.
– Итак…
Заказ был фантастический – и денежный, и жизненный, и даже несколько научный; таких предложений Павлу до сих пор не делали – обычно было либо, либо, либо.
Компания, которой распоряжался… совладел… неважно… Михаил Ханаанович Ройтман (его все называли Михаил Михалыч или по-простому – бог), была грандиозной; половина благодетелей усадьбы, в которой Павел работал заместителем директора, были так или иначе связаны с ройтмановской империей, всосавшей без остатка города и веси; в каком-то интервью сам Ройтман (то ли в шутку, то ли почти что всерьез) сказал о новом, незамызганном рабовладении – многие его за это осудили.
И вот пришла пора слегка притормозить. Перенаправиться, как выразился Юлик. Неважно, по каким причинам. Надо. Юлик объяснял рывками, не заканчивая фразы, пропуская глагольные связки; так после антивирусной программы компьютер выдает обрубленные файлы.
– Словом, старечог, записано… а так, вернуть, продать… короче, надо. На выходе что остается? Ну деньги. Деньги – тьфу, деньги есть. На выходе должна остаться память, понимаешь? На кону семнадцать ярдов… пятнадцать процентов туда, пятнадцать сюда, тридцать этим… все равно немало. Он что придумал: заказать себе музей, сечешь?
Павел – сек. Так сплошь и рядом говорили спонсоры музея: энергично начиная фразу, быстро сглатывая продолжение. Вся их жизнь прошла в словесных прятках, они привыкли обрывать себя, чтобы случайно не сказать чего-то лишнего. Было ясно главное: что Ройтман собирается продать Торинский комбинат. Готовясь к отступлению, он хочет сохранить на память то, что будет с ним всегда, в любой стране, куда ни бросит. Передвижной компьютерный музей. Пятнадцать лет жестокой жизни, история о том, как безнадежный город ждал прихода Ройтмана, как Ройтман взял его в полуразвале, поставил на ноги, вернул надежду; и это правда, а не сказка, это – было!
Ну, и, разумеется, цена.
Павел боролся со спазмом, корчил из себя делягу, небрежно торговался, заранее поняв, что в этот раз – дадут.
Напоследок Юлик попросил:
– А что-нибудь еще придумать можем? Ну такое, для сюрприза, лично богу, типа бонус?
Саларьев глубоко задумался. Вспомнил, как жена учила его делать раскрашенных куколок.
– Эй, старечог, чего молчишь? С тобой порядок?
Павел очнулся, тряхнул головой.
– Да, порядок. Полный порядок. Знаешь, Юлий, я придумал. Давай мы сделаем еще один музейчик, игрушечный, детский, из хлебного мякиша с солью.
– Что-что? – не понял Юлик.
Выслушал и от души развеселился.
– Ну конечно, конечно, лепи! А есть тебе в Москве, где жить? Не то дадим служебное жилье. Неуютное, но зато бесплатно.
Саларьеву было, где жить. Московскую квартирку он купил по случаю, ни для чего. В девяносто восьмом, перед дефолтом. Приехал на денек в Москву, за шведской денежкой – четыре серии документалки про судьбу трофейных книжек, устроенные Сольманом, по старой дружбе. В восемь тридцать вышел из поезда, в десять добрался до офиса, к одиннадцати был свободен и богат. Зашел в кафе, взял бесплатную газету объявлений, стал попивать латте, запененное в узкой чашке. И наткнулся: срочно продаю, на Силикатной, однушка, 16 м., 14 000 у. е., оформление за день.
Поехал посмотреть – и сразу сговорился. Не то, чтобы понравилось. Чему тут особенно нравиться? Дом гостиничного типа. Длинный узкий коридор упирается в глухую шкрябаную стену. По обе стороны – унылые коричневые двери, тынк-тынк, тынк-тынк. Ровно посредине коридора на старом крученом шнуре, как в стильном кино про 30-е годы, висит стосвечовая лампа. Вокруг болезненно слепящий свет, а дальше нарастает темнота. На улице чадят грузовики, возле дома нахохленными стайками сидят бабули в белых бязевых платочках – по краям платочков похоронно пропущены синие крестики; неуютно и тоскливо. Но слишком страшно было до полуночи таскаться с деньгами в портфеле. Потом в каком-нибудь сортире близ вокзала перекладывать их в набрюшник, сшитый Татой. Возвращаться ночным, и до утра не спать, гадая: кто твои попутчики? нормальные ребята? не бандиты? не вели весь день, чтобы чикнуть ножом, и поминай, как звали?
После кризиса квартирка вздорожала, они ее стали сдавать, а после разговора с Юликом Павел отказал жильцам. Три дня в неделю жил под Питером, в усадьбе, день дома, с Татой, три – в Москве. В своей уютной карликовой норке. В офисе руководил компьютерными гениями, приятно диковатыми, в потертых свитерах на фоне вылизанных офисных гомункулов, придумывал сценарные ходы, рисовал с художниками раскадровку. А вечером, на Силикатной, надевал хозяйский фартук, вымешивал тесто с поваренной солью и лепил забавные фигурки, которые, пока их не раскрасишь, похожи на резиновых девчачьих пупсов – и на греческих богов в миниатюре. Вялые губки распущены, пустые глазницы смотрят в вечность.
Вот истукан в растянутой шляпе с английским двойным козырьком – мясистый нос, капризный начальственный рот, жадные, навыкате глаза. Вылитый Ахилл в античной каске.
Шахтер напоминает Вакха, вывалившего пузо перед нимфой.
Секретарша сдобная, как полагается.
Мякиш тяжелел и покрывался глазурной коркой; Саларьев начинал раскрашивать фигурки и – в духовку. Главное, чтобы не появились трещины, не вывернулось рыхлое нутро; так болезненно-белый грибок разрывает вздувшуюся штукатурку.
5
Они проверили объемные экраны и систему окружающего звука; на ускорении устроили прогон. И направились в комнату отдыха, размером в половину ройтмановского кабинета.
Вдоль стены, в уютном затемнении, был подготовлен многоуровневый подиум, похожий на домашний детский театр, вторая половина восемнадцатого века. Не хватало только оркестровой ямы и занавеса перевернутым сердечком. Округлые выступы, крашенные в тёмно-зелёный цвет, зависали друг над другом; серебристая подставка в центре напоминала милое усадебное озерцо. Саларьев отщелкнул футляры; должно быть, сквозь надкушенную сливу пробился простецкий запах соленых сухариков.
Они расставили фигурки по порядку. От конца позапрошлого века, когда месторождение открыли, но разрабатывать не стали, через ужасы двадцатого столетия – к дню сегодняшнему. Развал преодолен, налажена работа, и хозяину пришла пора прощаться с комбинатом. На полочки встают дробильные машины, цвет вороньего крыла, с инфернальной подсветкой. (Павел ухитрился приспособить пальчиковую батарейку и вставить крохотную лампочку). Ржавые, но миленькие вагонетки; группа милицейских оттесняет дилеров, похожих на бандитов из Техаса; вот жизнь становится уютной; бухгалтерша уснула в кресле у торшера – над ней картина с обнаженной девой, просто заполярная Даная…
Через два часа по этажу прокатился тихий перезвон, волнообразный, как позвякивает люстра со стеклянными висюльками; охрана сообщала по цепочке: бог приближается, встречайте.
Михаил Михалыч вошел в свой кабинет расслабленно. Походка у него была китайская: тело неподвижно, а ножки поочередно выдвигаются из-под живота. На лице застыло ласковое равнодушие, рот приоткрыт в полуулыбке, нижняя челюсть выступает, кожу в рябушках прикрыла темная небритость. Ройтман протянул вяловатую руку, ладонь оказалась холодной и влажной.
Вдоль стены, в уютном затемнении, был подготовлен многоуровневый подиум, похожий на домашний детский театр, вторая половина восемнадцатого века. Не хватало только оркестровой ямы и занавеса перевернутым сердечком. Округлые выступы, крашенные в тёмно-зелёный цвет, зависали друг над другом; серебристая подставка в центре напоминала милое усадебное озерцо. Саларьев отщелкнул футляры; должно быть, сквозь надкушенную сливу пробился простецкий запах соленых сухариков.
Они расставили фигурки по порядку. От конца позапрошлого века, когда месторождение открыли, но разрабатывать не стали, через ужасы двадцатого столетия – к дню сегодняшнему. Развал преодолен, налажена работа, и хозяину пришла пора прощаться с комбинатом. На полочки встают дробильные машины, цвет вороньего крыла, с инфернальной подсветкой. (Павел ухитрился приспособить пальчиковую батарейку и вставить крохотную лампочку). Ржавые, но миленькие вагонетки; группа милицейских оттесняет дилеров, похожих на бандитов из Техаса; вот жизнь становится уютной; бухгалтерша уснула в кресле у торшера – над ней картина с обнаженной девой, просто заполярная Даная…
Через два часа по этажу прокатился тихий перезвон, волнообразный, как позвякивает люстра со стеклянными висюльками; охрана сообщала по цепочке: бог приближается, встречайте.
Михаил Михалыч вошел в свой кабинет расслабленно. Походка у него была китайская: тело неподвижно, а ножки поочередно выдвигаются из-под живота. На лице застыло ласковое равнодушие, рот приоткрыт в полуулыбке, нижняя челюсть выступает, кожу в рябушках прикрыла темная небритость. Ройтман протянул вяловатую руку, ладонь оказалась холодной и влажной.
