Страница:
– Ах, Лотарио, Лотарио! – воскликнул Ансельмо. – Как плохо ты исполняешь свой долг и как плохо оправдываешь ты мое безграничное к тебе доверие! Я только что следил за тобой через скважину, в которую входит этот ключ, и убедился, что ты словом не перемолвился с Камиллой. Отсюда я делаю вывод, что ты ни о чем еще с нею не говорил. Если же это так – а это, без сомнения, так, – то для чего ты меня обманываешь, для чего ты своею уловкою лишаешь меня возможности иным путем достигнуть цели?
Больше Ансельмо ничего не сказал, но и этого оказалось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и тот, восприняв предъявленное ему обвинение во лжи почти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что отныне он самым добросовестным образом возьмется за дело, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из любопытства за ним следить, – впрочем, в таком рачительном надзоре вряд ли появится-де нужда, ибо рачительность, какую он, Лотарио, намерен выказать, дабы ублаготворить Ансельмо, рассеет всякие подозрения. Ансельмо ему поверил и, дабы тот мог действовать более решительно и без стеснения, задумал съездить на неделю к одному своему приятелю, который проживал в деревне неподалеку от города и с которым он заранее уговорился, что тот, нарочно для Камиллы, будет настойчиво звать его к себе. О злосчастный и недальновидный Ансельмо! Что ты делаешь? Что приуготовляешь? Куда приказываешь себя вести? Посмотри: ведь ты себе же делаешь зло, приуготовляешь собственное свое бесчестье, приказываешь вести себя к гибели. Твоя супруга Камилла добродетельна; спокойно и безмятежно обладаешь ты ею; никто не мешает тебе наслаждаться; помыслы ее не выходят за стены дома; ты, на земле, ее небо, ты предел ее мечтаний, исполнение желаний ее, мера, которою меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле небес. Если же все, какие только ты пожелаешь, богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном, как это еще лучше выразил поэт:
Со всем тем польза от множества достоинств Камиллы, заграждавших уста Лотарио молчанием, послужила во вред им обоим, ибо если немотствовали уста, зато мысль не оставалась праздною: она имела возможность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мраморную статую, а не то что живое сердце. В те промежутки времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви; и дума эта стала постепенно вытеснять его преданность Ансельмо, и тысячу раз хотел он оставить город и уйти туда, где бы Ансельмо не видел его и где бы он сам не видел Камиллу, однако ж наслаждение, которое он испытывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он пересиливал себя и боролся с собой, дабы не ощущать более того блаженного чувства, которое влекло его любоваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе; наедине с самим собою он говорил, что это бред; он называл себя неверным другом и даже дурным христианином; он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все эти рассуждения сводились к тому, что всему виною – сумасбродство и самоуверенность Ансельмо, а не его, Лотарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то ему нечего было бы бояться наказания за свой грех.
В конце концов красота Камиллы и ее душевные качества, а также случай, который ему представился единственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли верность Лотарио; и тот, покорствуя лишь своей склонности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение которых он вел неустанную борьбу, силясь подавить свои желания, с таким волнением и в столь пламенных речах стал изливать Камилле свою страсть, что она, пораженная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда рождается одновременно с любовью, – напротив того: надежда на взаимность стала в нем еще крепче. А Камилла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, что делать; и, подумав, что небезопасно и неприлично давать ему повод и возможность снова начать сердечные излияния, решилась послать – и в тот же вечер послала – к Ансельмо слугу с письмом вот какого содержания:
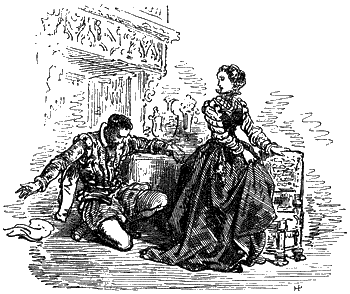
Глава XXXIV,
Больше Ансельмо ничего не сказал, но и этого оказалось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и тот, восприняв предъявленное ему обвинение во лжи почти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что отныне он самым добросовестным образом возьмется за дело, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из любопытства за ним следить, – впрочем, в таком рачительном надзоре вряд ли появится-де нужда, ибо рачительность, какую он, Лотарио, намерен выказать, дабы ублаготворить Ансельмо, рассеет всякие подозрения. Ансельмо ему поверил и, дабы тот мог действовать более решительно и без стеснения, задумал съездить на неделю к одному своему приятелю, который проживал в деревне неподалеку от города и с которым он заранее уговорился, что тот, нарочно для Камиллы, будет настойчиво звать его к себе. О злосчастный и недальновидный Ансельмо! Что ты делаешь? Что приуготовляешь? Куда приказываешь себя вести? Посмотри: ведь ты себе же делаешь зло, приуготовляешь собственное свое бесчестье, приказываешь вести себя к гибели. Твоя супруга Камилла добродетельна; спокойно и безмятежно обладаешь ты ею; никто не мешает тебе наслаждаться; помыслы ее не выходят за стены дома; ты, на земле, ее небо, ты предел ее мечтаний, исполнение желаний ее, мера, которою меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле небес. Если же все, какие только ты пожелаешь, богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном, как это еще лучше выразил поэт:
На другой день Ансельмо уехал в деревню, объявив Камилле, что во время его отсутствия Лотарио будет присматривать за домом, ходить к ней обедать и что ей надлежит ухаживать за ним так же, как она ухаживает за мужем. Камилла, будучи женщиною скромною и честною, опечалилась и заметила по поводу отданного ее мужем распоряжения, что нехорошо, если кто-нибудь в его отсутствие будет сидеть за его столом, а коли он-де не верит в хозяйственные ее способности, пусть на сей раз попробует – и он убедится на опыте, что она и с более трудными делами справится. Ансельмо возразил, что такова его воля и что ей остается лишь склонить голову и подчиниться. Камилла сказала, что она повинуется, хотя и против своего желания. Ансельмо уехал, а на другой день пришел Лотарио, и Камилла была с ним приветлива, но сдержанна; вообще она старалась не оставаться с ним наедине и вечно была окружена слугами и служанками, чаще же всего при ней находилась горничная Леонелла, которую она особенно любила и с которой они вместе росли в доме родителей Камиллы, откуда, выйдя замуж за Ансельмо, Камилла взяла ее к себе. В течение первых трех дней Лотарио ничего ей не сказал, хотя время у него для этого было, а именно, когда слуги, убрав со стола, отправлялись по распоряжению Камиллы наскоро поесть; этого мало: она приказала Леонелле обедать раньше и не отходить от нее ни на шаг; однако ж Леонелла, у которой на уме были одни лишь утехи, пользовалась этим временем и возможностью для своих забав и не всегда исполняла приказание своей госпожи – напротив того, оставляла ее наедине с Лотарио, точно именно это ей было приказано. Однако ж скромный вид Камиллы, строгое ее лицо и то, что она с большим достоинством себя держала – все это накладывало печать на уста Лотарио.
Я ищу в темнице волю,
В четырех стенах простор,
Счастье в несчастливой доле,
В смерти жизнь, отраду в боли,
Неподкупность в том, кто вор.
И за это навсегда я
Вами к казни присужден,
Небо и судьбина злая:
Невозможного желаю,
А возможного лишен.
Со всем тем польза от множества достоинств Камиллы, заграждавших уста Лотарио молчанием, послужила во вред им обоим, ибо если немотствовали уста, зато мысль не оставалась праздною: она имела возможность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мраморную статую, а не то что живое сердце. В те промежутки времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви; и дума эта стала постепенно вытеснять его преданность Ансельмо, и тысячу раз хотел он оставить город и уйти туда, где бы Ансельмо не видел его и где бы он сам не видел Камиллу, однако ж наслаждение, которое он испытывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он пересиливал себя и боролся с собой, дабы не ощущать более того блаженного чувства, которое влекло его любоваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе; наедине с самим собою он говорил, что это бред; он называл себя неверным другом и даже дурным христианином; он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все эти рассуждения сводились к тому, что всему виною – сумасбродство и самоуверенность Ансельмо, а не его, Лотарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то ему нечего было бы бояться наказания за свой грех.
В конце концов красота Камиллы и ее душевные качества, а также случай, который ему представился единственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли верность Лотарио; и тот, покорствуя лишь своей склонности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение которых он вел неустанную борьбу, силясь подавить свои желания, с таким волнением и в столь пламенных речах стал изливать Камилле свою страсть, что она, пораженная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда рождается одновременно с любовью, – напротив того: надежда на взаимность стала в нем еще крепче. А Камилла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, что делать; и, подумав, что небезопасно и неприлично давать ему повод и возможность снова начать сердечные излияния, решилась послать – и в тот же вечер послала – к Ансельмо слугу с письмом вот какого содержания:
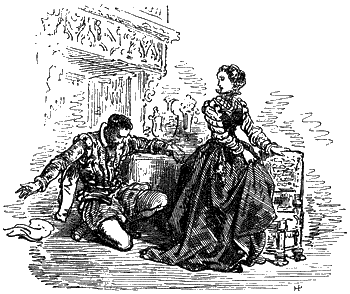
Глава XXXIV,
в коей следует продолжение повести о Безрассудно-любопытном
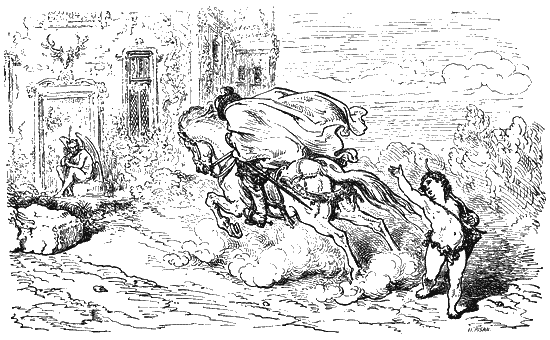
Камилла сдалась; сдалась Камилла; но что же в том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио не устояли? Вот пример, ясно показывающий, что с любовною страстью можно совладать, только лишь бежав от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы противостать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла знала о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыться неверные друзья и новонареченные любовники. Лотарио из боязни унизить в глазах Камиллы свое чувство и навести ее на мысль, что он случайно и непреднамеренно, а не по собственному хотению ее покорил, так ничего и не сообщил ей о затее Ансельмо и о том, что это он дал ему, Лотарио, возможность этого достигнуть.
Спустя несколько дней Ансельмо возвратился домой и не заметил, что в нем уже недостает того, что он менее всего берег и чем более всего дорожил. Тот же час отправился он к Лотарио и застал его дома; они обнялись, после чего Ансельмо спросил, что нового и должно ли ему жить или умереть.
– Новое заключается в том, друг Ансельмо, – отвечал Лотарио, – что жена твоя достойна быть примером и венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, я говорил на ветер, посулы мои она ни во что вменила, подношения были отвергнуты, над притворными моими слезами она от души посмеялась. Коротко говоря, Камилла – это воплощение красоты, это кладезь честности и средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возьми свои деньги, друг мой, вот они, в них не было нужды, ибо целомудрие Камиллы не склоняется перед подарками и обещаниями, – это для нее слишком низменно. Удовольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не затевай. Ты, будто посуху, прошел море сомнений и подозрений, которые обыкновенно возбуждают и могут возбуждать жены, так не выходи же вновь в открытое море новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, посланного тебе небом для прохождения житейского моря, – нет, считай, что ты уже достигнул тихого пристанища, стань на якорь душевного спокойствия и стой до тех пор, пока к тебе не явятся за долгом, который лучшие из лучших не властны не уплатить.
Слова Лотарио доставили Ансельмо полное удовлетворение, и поверил он им, как если б то было прорицание оракула; со всем тем он попросил друга не оставлять этого предприятия, хотя бы из любопытства и для препровождения времени; впредь он волен-де и не выказывать столь неусыпного рвения, – единственно, чего он, Ансельмо, желает, это чтобы были написаны стихи, в которых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла, а он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну даму и под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти приличия, каковых скромность ее заслуживает; если же Лотарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам-де их сочинит.
– Нужды в этом нет, – возразил Лотарио, – ибо не так уж меня чуждаются музы, и хоть изредка, а посещают. Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас сказал о мнимом моем увлечении, стихи же я напишу, если и не столь исправные, как того заслуживает предмет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только способен.
На этом и уговорились друг безрассудный и друг-изменник; Ансельмо же, возвратившись домой, спросил Камиллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так долго не спрашивал, а именно, что за причина побудила ее написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, чем когда Ансельмо дома, но что потом она разуверилась и полагает, что все это одно воображение, ибо Лотарио уже избегает ее и не остается с нею наедине. Ансельмо ей на это сказал, что она смело может отрешиться от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюблен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Лотарио и в их взаимной наитеснейшей дружеской привязанности. И если б Лотарио не предуведомил Камиллу, что увлечение его Хлорой есть увлечение мнимое и что он рассказал об этом Ансельмо, дабы иметь возможность проводить время в прославлении Камиллы, она, без сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности, однако ж, предуведомленная, она приняла это известие спокойно.
На другой день, после обеда, когда они сидели втроем, Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил в честь своей возлюбленной Хлоры, – Камилла-де все равно ее не знает, а потому он может говорить о ней все, что угодно.
– Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не утаил, – возразил Лотарио. – Когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или иначе, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблагодарной Хлоры:
– Разве все, что говорят влюбленные поэты, это правда?
– Как поэты, они говорят неправду, – отвечал Лотарио, – но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, сколь искренни.
– Это не подлежит сомнению, – подтвердил Ансельмо единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и прибавить его словам весу в глазах Камиллы, но Камилла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки Ансельмо.
А как все, принадлежавшее Лотарио, доставляло ей удовольствие, к тому же ей ведомо было, что все его помыслы и все его писания посвящены ей и что она и есть настоящая Хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или же каких-либо других стихов.
– Один сонет есть, – отвечал Лотарио, – но только я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, или, лучше сказать, не так плох. Впрочем, судите сами:
– Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я низко себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу покорил мое сердце, вместо того чтобы завоевывать постепенно. Боюсь, что он станет меня презирать за уступчивость или же за ветреность, не приняв в соображение силы своей страсти, сломившей мое сопротивление.
– Пусть это вас не тревожит, госпожа моя, – сказала Леонелла, – это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если только подарок, точно, хорош и ценен сам по себе. Недаром говорится пословица: хочешь дать за двоих – давай сразу.
– Есть и другая пословица, – вставила Камилла, – дешево обходится – мало ценится.
– Эта поговорка к вам не относится, – возразила Леонелла, – ведь любовь, как я слышала, то на крыльях летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет, одних охлаждает, других испепеляет, одних ранит, других убивает, бег ее желаний в один и тот же миг начинается и прекращается, утром предпринимает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, которая могла бы ей сопротивляться. А коли так, то чего же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, как видно, случилось то же самое, ибо орудием своей победы над вами любовь избрала отъезд моего господина. И надлежало, чтобы именно в отсутствие Ансельмо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не возвратился, ибо его приезд испортил бы все дело: ведь у любви нет лучшего помощника по части исполнения ее желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех своих затей, особливо на первых порах. Все это я отлично знаю, и больше по собственному опыту, нежели понаслышке, и когда-нибудь я вам про себя расскажу, сеньора, – ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет кровь. Притом, синьора Камилла, вы не так уже скоро доверились ему и сдались, сначала вы узнали душу Лотарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и подношениям, и его душевные качества вас убедили, что он вполне достоин любви. А коли так, то не слушайте голоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио уважает вас так же точно, как его уважаете вы: он рад и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опутывающие вас в его глазах еще большим уважением и почетом, и помните, что он может похвалиться не только четырьмя C, которые будто бы положено иметь каждому порядочному влюбленному, то есть тем, что он свободен, сметлив, стоек и скрытен, но и всею азбукой, – вы только послушайте, я вам скажу ее сейчас на память. Сколько я понимаю и могу судить, он богат, великодушен, горяч, добр, жалостлив, знатен, изящен, красив, любезен, мужественен, настойчив, обходителен, постоянен, рыцарственен, потом эти четыре C, затем терпелив, умен, храбр, царственен, чистосердечен ( ши щсюда не подходят, больно некрасивые буквы), затем юн и, наконец, яростен в битве.
Азбука эта привела Камиллу в веселое расположение духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, вероятно, более опытна в любви, чем это можно понять из ее слов; и тут Леонелла в этом созналась и сказала Камилле, что завела амуры с одним молодым человеком из хорошей семьи, жителем того же города, каковое известие встревожило Камиллу, и она со страхом подумала, что чести ее именно с этой стороны может грозить опасность. Допросила она ее, как далеко они зашли. Та без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и случается: стоит сделать оплошность госпоже, как тотчас теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее оступилась, начинает хромать сама, нимало не смущаясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать в тайне собственные свои похождения, дабы про них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обещала, но исполнила свое обещание так, что предчувствие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, сбылось, ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и будучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовником, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в дом – таково одно из пагубных последствий греха, совершаемого госпожами: они становятся рабынями собственных своих служанок и принуждены бывают покрывать их бесстыдство и низость, как это и случилось с Камиллой, которая не один, а много раз заставала Леонеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все же не только не решалась ее пожурить, но еще и сама помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищрения, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете выходил из дома Ансельмо; не зная, кто это, Лотарио подумал сперва, что это ему почудилось; когда же он увидел, что тот, завернувшись и закутавшись в плащ, пробирается с величайшею предосторожностью и опаскою, то, отказавшись от простодушного своего заключения, пришел к другому, которое могло бы погубить всех, если бы Камилла в конце концов не нашлась, как этому помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в столь неурочное время выходивший из дома Ансельмо, приходил к Леонелле; он вообразил, что Камилла и тут оказалась столь же доступною и податливою, как и по отношению к нему, – таковы последствия, которые влечет за собою злонравие неверной жены: она теряет уважение в глазах своего же любовника, который мольбами и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться другому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, изменил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую власть, ибо, ослепленный глодавшею его бешеною ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, хотя, на самом деле она ни в чем перед ним не провинилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без дальних размышлений броситься к Ансельмо, когда тот еще лежал в постели, и обратился к нему с такими словами:
– Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. Знай, что крепость, именуемая Камиллой, сдалась и готова принять любые мои условия. И я не спешил открывать тебе всю правду единственно потому, что желал увериться, не есть ли это с ее стороны пустая женская прихоть и не намеревается ли она испытать меня и проверить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, начатых мною с твоего позволения. Равным образом я полагал, что если Камилла такова, какою ей надлежит быть и какою мы оба ее считали, то она сообщит тебе о моем ухаживании, но, видя, что она медлит, я понял, что обещание ее неложно, – обещала же мне она, что когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свидание в твоей гардеробной (и точно: в этой самой комнате они обыкновенно виделись). Однако ж я просил бы тебя удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех совершен ею пока только в мыслях, и может статься, что, прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут иное направление и место греха заступит раскаяние. Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас преподам, и запомни его, дабы затем, во всем уверясь воочию, по зрелом размышлении поступить, как тебе заблагорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гардеробной, которая благодаря коврам и разным другим предметам представляет собой самое подходящее для этого место, и тут мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камилла, и, если замысел ее порочен, что вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, предусмотрительным и разумным палачом, карающим за причиненное тебе зло.
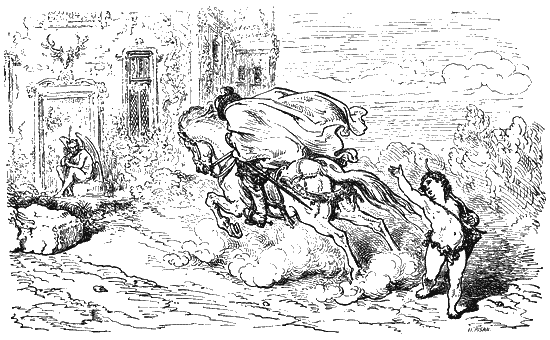
«Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя, а крепость без коменданта, – я же скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если только какие-либо чрезвычайные обстоятельства того не требуют. Мне так тяжело без Вас и так несносна эта разлука, что если Вы скоро не возвратитесь, то я принуждена буду переехать в дом родителей моих и оставить Ваш дом без сторожа, ибо тот, кого Вы оставили сторожить меня, – если это только, точно, сторож, – думает, кажется, больше о собственном удовольствии, нежели о том, что касается Вас. Вы же, с Вашим умом, и так меня поймете, да мне и не подобает к этому что-либо еще прибавлять».Получив это письмо, Ансельмо пришел к заключению, что Лотарио уже начал действовать и что Камилла, по-видимому, держит себя с ним так, как этого ему, Ансельмо, хотелось; и, обрадовавшись таковым вестям чрезвычайно, велел он передать на словах Камилле, чтобы она ни в коем случае не оставляла своего дома, ибо он весьма скоро возвратится. Ответ Ансельмо удивил Камиллу, и она в еще пущее пришла замешательство, ибо не знала, как быть: остаться дома или же переехать к родителям, – остаться означало подвергнуть опасности свою честь, уехать – ослушаться мужа. В конце концов она выбрала более тяжкую для нее долю, а именно – осталась дома с твердым намерением не избегать общества Лотарио, дабы не давать челяди повода к пересудам, и теперь Камилле было уже досадно, что она написала супругу такое письмо: она боялась, как бы он не подумал, что Лотарио заметил с ее стороны некоторую вольность и что это его побудило нарушить приличия. Но, уверенная в своей чистоте, она уповала на бога и на свое собственное благоразумие, а благоразумие внушало ей ничего не отвечать Лотарио, с чем бы он к ней ни обращался, и ничего больше не сообщать мужу, дабы не волновать его этим и не вызывать на ссору, – более того: Камилла уже начала думать о том, как бы обелить Лотарио в глазах Ансельмо, когда тот спросит, что заставило ее написать это письмо. В сих мыслях, более великодушных, нежели спасительных и остроумных, слушала она на другой день Лотарио, а тот закусил удила, так что стойкость Камиллы пошатнулась, и скромности ее надлежало прихлынуть к глазам, дабы в них не отразилось чего-нибудь похожего на влюбленное сочувствие, которое в ее душе пробудили слезы и речи Лотарио. Все это Лотарио заметил, и все это его разжигало. В конце концов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный похвалами ее красоте, напал на ее честолюбие, оттого что бойницы тщеславия, гнездящегося в сердцах красавиц, быстрее всего разрушает и сравнивает с землей само же тщеславие, вложенное в льстивые уста. И точно: не поскупившись на боевые припасы, он столь проворно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что если б даже Камилла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, притворялся – с такими движениями сердца и по виду столь искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он одержал победу, на которую менее всего надеялся и которой более всего желал.
Камилла сдалась; сдалась Камилла; но что же в том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио не устояли? Вот пример, ясно показывающий, что с любовною страстью можно совладать, только лишь бежав от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы противостать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла знала о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыться неверные друзья и новонареченные любовники. Лотарио из боязни унизить в глазах Камиллы свое чувство и навести ее на мысль, что он случайно и непреднамеренно, а не по собственному хотению ее покорил, так ничего и не сообщил ей о затее Ансельмо и о том, что это он дал ему, Лотарио, возможность этого достигнуть.
Спустя несколько дней Ансельмо возвратился домой и не заметил, что в нем уже недостает того, что он менее всего берег и чем более всего дорожил. Тот же час отправился он к Лотарио и застал его дома; они обнялись, после чего Ансельмо спросил, что нового и должно ли ему жить или умереть.
– Новое заключается в том, друг Ансельмо, – отвечал Лотарио, – что жена твоя достойна быть примером и венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, я говорил на ветер, посулы мои она ни во что вменила, подношения были отвергнуты, над притворными моими слезами она от души посмеялась. Коротко говоря, Камилла – это воплощение красоты, это кладезь честности и средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возьми свои деньги, друг мой, вот они, в них не было нужды, ибо целомудрие Камиллы не склоняется перед подарками и обещаниями, – это для нее слишком низменно. Удовольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не затевай. Ты, будто посуху, прошел море сомнений и подозрений, которые обыкновенно возбуждают и могут возбуждать жены, так не выходи же вновь в открытое море новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, посланного тебе небом для прохождения житейского моря, – нет, считай, что ты уже достигнул тихого пристанища, стань на якорь душевного спокойствия и стой до тех пор, пока к тебе не явятся за долгом, который лучшие из лучших не властны не уплатить.
Слова Лотарио доставили Ансельмо полное удовлетворение, и поверил он им, как если б то было прорицание оракула; со всем тем он попросил друга не оставлять этого предприятия, хотя бы из любопытства и для препровождения времени; впредь он волен-де и не выказывать столь неусыпного рвения, – единственно, чего он, Ансельмо, желает, это чтобы были написаны стихи, в которых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла, а он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну даму и под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти приличия, каковых скромность ее заслуживает; если же Лотарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам-де их сочинит.
– Нужды в этом нет, – возразил Лотарио, – ибо не так уж меня чуждаются музы, и хоть изредка, а посещают. Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас сказал о мнимом моем увлечении, стихи же я напишу, если и не столь исправные, как того заслуживает предмет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только способен.
На этом и уговорились друг безрассудный и друг-изменник; Ансельмо же, возвратившись домой, спросил Камиллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так долго не спрашивал, а именно, что за причина побудила ее написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, чем когда Ансельмо дома, но что потом она разуверилась и полагает, что все это одно воображение, ибо Лотарио уже избегает ее и не остается с нею наедине. Ансельмо ей на это сказал, что она смело может отрешиться от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюблен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Лотарио и в их взаимной наитеснейшей дружеской привязанности. И если б Лотарио не предуведомил Камиллу, что увлечение его Хлорой есть увлечение мнимое и что он рассказал об этом Ансельмо, дабы иметь возможность проводить время в прославлении Камиллы, она, без сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности, однако ж, предуведомленная, она приняла это известие спокойно.
На другой день, после обеда, когда они сидели втроем, Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил в честь своей возлюбленной Хлоры, – Камилла-де все равно ее не знает, а потому он может говорить о ней все, что угодно.
– Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не утаил, – возразил Лотарио. – Когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или иначе, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблагодарной Хлоры:
Камилле сонет понравился, но еще больше – Ансельмо; он одобрил его и сказал, что дама эта, по-видимому, слишком жестока, если она на столь искреннее чувство не отвечает. Но тут Камилла задала вопрос:
Когда немая ночь на мир сойдет
И дрема отуманит смертным взоры,
Веду я для небес и милой Хлоры
Своим несчетным мукам скорбный счет.
Когда заря, ликуя, распахнетВорот востока розовые створы,Упорно рвутся вздохи и укорыИз уст моих все утро напролет. Когда же землю с трона голубогоОсыплет полдень стрелами огня,Я предаюсь рыданьям исступленным. Но вот опять приходит ночь, и сноваЯ убеждаюсь, горестно стеня,Что небеса и Хлора глухи к стонам.
– Разве все, что говорят влюбленные поэты, это правда?
– Как поэты, они говорят неправду, – отвечал Лотарио, – но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, сколь искренни.
– Это не подлежит сомнению, – подтвердил Ансельмо единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и прибавить его словам весу в глазах Камиллы, но Камилла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки Ансельмо.
А как все, принадлежавшее Лотарио, доставляло ей удовольствие, к тому же ей ведомо было, что все его помыслы и все его писания посвящены ей и что она и есть настоящая Хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или же каких-либо других стихов.
– Один сонет есть, – отвечал Лотарио, – но только я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, или, лучше сказать, не так плох. Впрочем, судите сами:
Ансельмо одобрил второй сонет не меньше, чем первый, и так звено за звеном присоединял он к цепи, которою он опутывал и приковывал себя к своему бесчестию, ибо когда Лотарио особенно его бесчестил, то он ему говорил, что теперь-то он больше чем когда-либо спокоен за свою честь; и так же точно Камилла, ступень за ступенью, все ниже спускалась в бездну своего позора, а супругу ее казалось, будто она восходит на вершину чистоты и доброй славы. Как-то раз случилось, однако ж, Камилле остаться наедине со своею служанкой, и Камилла обратилась к ней с такими словами:
Меня своим презреньем губишь ты,
И знаю я, что неизбежно сгину,
Но знаю также, что приму кончину
Рабом твоей небесной красоты.
Ведь и достигнув роковой меты,Где славу, страсть и жизнь, как прах, отрину,С собой в страну забвенья не преминуЯ унести любимые черты. Нет, с этою святынею бесценнойМеня в последний час не разлучатНи равнодушье, ни отпор холодный. О горе мне, пловцу в пучине пенной,Который, тщетно напрягая взгляд,Нигде звезды не видит путеводной!
– Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я низко себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу покорил мое сердце, вместо того чтобы завоевывать постепенно. Боюсь, что он станет меня презирать за уступчивость или же за ветреность, не приняв в соображение силы своей страсти, сломившей мое сопротивление.
– Пусть это вас не тревожит, госпожа моя, – сказала Леонелла, – это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если только подарок, точно, хорош и ценен сам по себе. Недаром говорится пословица: хочешь дать за двоих – давай сразу.
– Есть и другая пословица, – вставила Камилла, – дешево обходится – мало ценится.
– Эта поговорка к вам не относится, – возразила Леонелла, – ведь любовь, как я слышала, то на крыльях летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет, одних охлаждает, других испепеляет, одних ранит, других убивает, бег ее желаний в один и тот же миг начинается и прекращается, утром предпринимает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, которая могла бы ей сопротивляться. А коли так, то чего же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, как видно, случилось то же самое, ибо орудием своей победы над вами любовь избрала отъезд моего господина. И надлежало, чтобы именно в отсутствие Ансельмо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не возвратился, ибо его приезд испортил бы все дело: ведь у любви нет лучшего помощника по части исполнения ее желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех своих затей, особливо на первых порах. Все это я отлично знаю, и больше по собственному опыту, нежели понаслышке, и когда-нибудь я вам про себя расскажу, сеньора, – ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет кровь. Притом, синьора Камилла, вы не так уже скоро доверились ему и сдались, сначала вы узнали душу Лотарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и подношениям, и его душевные качества вас убедили, что он вполне достоин любви. А коли так, то не слушайте голоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио уважает вас так же точно, как его уважаете вы: он рад и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опутывающие вас в его глазах еще большим уважением и почетом, и помните, что он может похвалиться не только четырьмя C, которые будто бы положено иметь каждому порядочному влюбленному, то есть тем, что он свободен, сметлив, стоек и скрытен, но и всею азбукой, – вы только послушайте, я вам скажу ее сейчас на память. Сколько я понимаю и могу судить, он богат, великодушен, горяч, добр, жалостлив, знатен, изящен, красив, любезен, мужественен, настойчив, обходителен, постоянен, рыцарственен, потом эти четыре C, затем терпелив, умен, храбр, царственен, чистосердечен ( ши щсюда не подходят, больно некрасивые буквы), затем юн и, наконец, яростен в битве.
Азбука эта привела Камиллу в веселое расположение духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, вероятно, более опытна в любви, чем это можно понять из ее слов; и тут Леонелла в этом созналась и сказала Камилле, что завела амуры с одним молодым человеком из хорошей семьи, жителем того же города, каковое известие встревожило Камиллу, и она со страхом подумала, что чести ее именно с этой стороны может грозить опасность. Допросила она ее, как далеко они зашли. Та без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и случается: стоит сделать оплошность госпоже, как тотчас теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее оступилась, начинает хромать сама, нимало не смущаясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать в тайне собственные свои похождения, дабы про них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обещала, но исполнила свое обещание так, что предчувствие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, сбылось, ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и будучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовником, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в дом – таково одно из пагубных последствий греха, совершаемого госпожами: они становятся рабынями собственных своих служанок и принуждены бывают покрывать их бесстыдство и низость, как это и случилось с Камиллой, которая не один, а много раз заставала Леонеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все же не только не решалась ее пожурить, но еще и сама помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищрения, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете выходил из дома Ансельмо; не зная, кто это, Лотарио подумал сперва, что это ему почудилось; когда же он увидел, что тот, завернувшись и закутавшись в плащ, пробирается с величайшею предосторожностью и опаскою, то, отказавшись от простодушного своего заключения, пришел к другому, которое могло бы погубить всех, если бы Камилла в конце концов не нашлась, как этому помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в столь неурочное время выходивший из дома Ансельмо, приходил к Леонелле; он вообразил, что Камилла и тут оказалась столь же доступною и податливою, как и по отношению к нему, – таковы последствия, которые влечет за собою злонравие неверной жены: она теряет уважение в глазах своего же любовника, который мольбами и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться другому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, изменил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую власть, ибо, ослепленный глодавшею его бешеною ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, хотя, на самом деле она ни в чем перед ним не провинилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без дальних размышлений броситься к Ансельмо, когда тот еще лежал в постели, и обратился к нему с такими словами:
– Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. Знай, что крепость, именуемая Камиллой, сдалась и готова принять любые мои условия. И я не спешил открывать тебе всю правду единственно потому, что желал увериться, не есть ли это с ее стороны пустая женская прихоть и не намеревается ли она испытать меня и проверить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, начатых мною с твоего позволения. Равным образом я полагал, что если Камилла такова, какою ей надлежит быть и какою мы оба ее считали, то она сообщит тебе о моем ухаживании, но, видя, что она медлит, я понял, что обещание ее неложно, – обещала же мне она, что когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свидание в твоей гардеробной (и точно: в этой самой комнате они обыкновенно виделись). Однако ж я просил бы тебя удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех совершен ею пока только в мыслях, и может статься, что, прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут иное направление и место греха заступит раскаяние. Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас преподам, и запомни его, дабы затем, во всем уверясь воочию, по зрелом размышлении поступить, как тебе заблагорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гардеробной, которая благодаря коврам и разным другим предметам представляет собой самое подходящее для этого место, и тут мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камилла, и, если замысел ее порочен, что вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, предусмотрительным и разумным палачом, карающим за причиненное тебе зло.
