– А ваша милость опытный донжуан, заставляете себя ждать, – сказала Тина, беря меня под руку. – Пойдем на танцы.
Я посмотрел на свои мятые брюки.
– Лучше погуляем.
Мы молча шли среди праздничной толпы. Франты в черных костюмах с галстуками-шнурками недоуменно поглядывали на меня. Сцепившиеся в ряды семиклассницы хихикали вслед. Кто-то сказал: «Это битник».
Мне было непонятно, почему я назначил свидание Тине, и тем более – почему она пришла.
Из кафе-кондитерской тянуло запахом жареных пирожков. Я вдруг почувствовал, что сильно голоден.
– Зайдем?
– Как ты хочешь, – покорно ответила Тина.
Кафе было расписано под дно моря. По стенам плыли розовые рыбы с выпученными глазами. Из-за батареи парового отопления выглядывал морской еж. Рыба-меч с любопытством разглядывала табличку «Распитие спиртных напитков категорически воспрещается». Под табличкой двое разливали водку в стаканы из-под сметаны. Было шумно и дымно. Официант, похожий на водоросль, колебался над столиками с блокнотом в руках. Мы выбрали себе место в углу под картиной, изображавшей не то девятый вал, не то половинку арбуза.
– А ты не боишься, что на тебя донесут? – спросила Тина.
– О чем и кому?
– Твоей девушке. Скажут – видели с какой-то крашеной блондинкой. Меня все считают крашеной. В наш век бесполезно быть натурально рыжей.
– У меня нет девушки.
– А я слышала – есть. Замужняя.
– Болтовня.
Тина рассмеялась.
– Правильно. Ты ведешь себя как рыцарь.
– Официант! – крикнул я. – Пару кофе!
– Ты счастливчик. Любовь замужних надежней и долговечней.
– Вот расскажу Киму, какие у тебя добродетельные взгляды, он и не женится на тебе.
– Он и так не женится.
– Поругались?
– Да так… У нас это давно уже тянется. Несходство характеров, а главное – взглядов. Он считает правильным только то, что делает сам. Убеждения других для него не существуют. Потребовал в категорической форме, чтобы я следовала за ним в колхоз к Кретову. Когда я отказалась – устроил сцену.
– А почему ты отказалась?
– Думаешь, я боюсь колхоза? Нет, я могу поехать на край света за тем, в кого верю. А в Кима я не верю. Он неудачник. Мир всегда жесток к неудачникам, и я не исключение.
– Вот тебе раз! – удивился я. – Человек изобрел скоростную сеялку – и он неудачник!
Тина поморщилась:
– «Сеялка»! «Сеялка»! Она у меня в зубах навязла. Изобрести сеялку мало, Гена. Главное, чтобы люди сказали: «Он может изобретать сеялки». А Ким всю жизнь будет изобретать сеялки, но о нем так никогда не скажут. Он принадлежит к тем людям, которые таскают на гору санки, а катаются на них другие.
– Слишком сложно на голодный желудок. Официант, обслужите наконец!
– Если бы он был похож на тебя! Вот за тебя бы я с удовольствием вышла. И была бы верной женой.
Тина катала по столу крошки, не поднимая на меня глаз.
– Это чертовски смахивает на объяснение в любви, – сказал я.
– Тебе неприятно?
– Нет, почему же… Лестно.
– А вообще все это ерунда. Просто на меня вдруг что-то нашло. И поругались мы с Кимом совсем не из-за этого. Из-за вафель. Он очень любит вафли, а я их ненавижу. Но лучше разойтись из-за вафель, чем из-за сеялки, правда? Слушай, Гена, мне жарко. Пойдем отсюда.
Около дверей я поймал за фалду официанта-водоросль.
– Как ваша фамилия?
– А что? – напыжился официант.
– Мы прождали целых двадцать минут.
– А кто вы такие будете?
– Мы из ВКИРЧАСНИССА.
«Водоросль» вытаращил глаза.
– Пожалуйста, проходите, – засуетился он. – Вот свободный столик. Одну секунду…
– Мы еще увидимся, – пообещал я.
Прошел дождь, и тротуары блестели, отражая огни фонарей. Пахло прелыми листьями и грибами. Этот запах принес из леса дождь. Я взял Тину под руку и закрыл глаза. Сразу запахло сильнее, шум мокрой листвы тополей стал явственнее, и было совсем похоже, что мы в лесу. «Как с Тиной спокойно и хорошо! – подумал я. – Она действительно…»
Мы шли и шли по мокрым улицам, а сверху моросил дождь, и было очень тепло. Из-под асфальта пробивался робкий запах земли. Окна домов светились в темноте, как иллюминаторы кораблей, разными цветами, но преобладал розовый цвет уюта и счастья.
Мы остановились где-то в темном переулке. Здесь не было асфальта, и земля разъезжалась под ногами. Тускло поблескивали скользкие дорожки. Над высокими заборами свисали, как чубы, ветки деревьев.
Сразу стало тихо и спокойно, словно мы попали в другой мир или в другой век.
– Я промокла насквозь, – сказала Тина, – но ничуть не замерзла – дождь теплый.
Кофточка облепила ее спину и грудь. Мокрая, она сделалась совсем прозрачной.
– Зачем мы пришли сюда? – спросила Тина.
– Не знаю.
– Ты можешь поцеловать меня, я теперь не невеста. Если тебе, конечно, не противно.
– Я дотронулся до ее холодных губ своей щекой.
– Зачем, Тина?
– Да… зачем…
За оградой гремела цепью собака.
– Пришел? – осведомился грек, попыхивая папиросой.
– Ага. А ты?
– Только иду. К тебе тут одна краля приезжала. Слушай, а ты все-таки нехороший. Дружишь, паршивая морда, с такими женщинами и молчишь. Не женщина, а роза, как любили говаривать наши сентиментальные предки. Муж, случайно, у ней не начальник?
– Начальник.
– Начальник? – оживился Вацлав. – Слушай, а он меня не смог бы устроить на работу?
– Смог бы. Заведующим МТФ.
– Тьфу! Никогда бы не подумал, что у такой женщины сельскохозяйственный муж.
– Как у тебя дела? Напал на след дочери министра?
– Пока нет. Зато в совнархозовском доме засек одну. Социальное положение папаши еще не выяснено, но доподлинно установлено, что он владеет «Москвичом» и дачей.
– Наверно, крупная шишка.
– Во всяком случае, не парикмахер. Все дело осложняется тем, что у дочки уже есть…
– Тогда мертвое дело.
– Дело-то, допустим, не мертвое. Надо только чем-то поразить ее воображение. На женщин это действует. Есть у меня одна идея. Просто гениальная идея, но для ее выполнения нужен помощник. Ты не согласишься? Всего на два-три часа в воскресенье. Помоги в беде!
– У меня своих бед хватает. Не допустили к защите.
Кобзиков присвистнул:
– Врешь!
– Вот тебе и «врешь»!
– Что же ты будешь делать?
– Придется ехать в колхоз трактористом.
– Слушай, твое счастье, что с тобою рядом я! Хочешь работать в совнархозе?
– Отстань с чепухой.
– Через месяц будешь в совнархозе, чучело ты фараона! Понял? Слово Кобзикова! Только помоги мне в воскресенье. Поможешь?
– Там будет видно.
– Ты говори сразу! Мне же надо готовиться! Будут шпроты и пиво «Сенатор».
– Поклянись!
– Клянусь дочерью министра!
– Но, надеюсь, твоя гениальная идея ничего общего не имеет с предметами дамского туалета?
– Heт! Нет! – заверил ветврач.
– И уголовным кодексом не карается?
– Будь спокоен.
– Ну ладно… Мне сейчас все равно делать нечего.
Вацлав погасил папироску и с серьезным выражением лица исполнил что-то наподобие лезгинки.
– Мы посрамим тебя, фрайер! – крикнул он.
– Кр-р-р-р! – ответил из будки петух.
Я пошел в комнату.
Ким лежал, уткнувшись в подушку. Я сдернул одеяло со своей кровати. Зашуршал какой-то листок. В колеблющемся свете спички запрыгали неровные строчки. Казалось, что они шевелятся, дышат, словно живые.
«Была в городе. Заезжала к тебе, но не застала. Очень жалею. Сегодня видела тебя во сне. Так явственно… Почему ты не приезжаешь в С?»
Я лег, накрылся простыней и пролежал до рассвета с открытыми глазами.
Потомок Чингисхана
 С утра шел дождь. Ким с Кретовым уехали в городскую библиотеку, а я сидел в застекленных сенях, которые мы, сильно греша против истины, называли верандой, и, усыпив свою совесть чистым листком бумаги, ничего не делал. В двух шагах бесновался дождь. Он топал по крыльцу тоненькими голыми ножками, дразнился на разные голоса. На пыльных стеклах веранды неподвижно блестели залетевшие брызги, и мне казалось, что со дворе прильнуло к окну и смотрит чье-то заплаканное лицо.
С утра шел дождь. Ким с Кретовым уехали в городскую библиотеку, а я сидел в застекленных сенях, которые мы, сильно греша против истины, называли верандой, и, усыпив свою совесть чистым листком бумаги, ничего не делал. В двух шагах бесновался дождь. Он топал по крыльцу тоненькими голыми ножками, дразнился на разные голоса. На пыльных стеклах веранды неподвижно блестели залетевшие брызги, и мне казалось, что со дворе прильнуло к окну и смотрит чье-то заплаканное лицо.
Почему-то было грустно… Хотелось, как в детстве, забраться на широкую печь, улечься на спину и смотреть на закопченный, весь в трещинах потолок, по которому, сонно гудя, ползают черные мухи. Лежать и думать, что в полях сейчас сумрачно, свежо и слышно, как истомленная зноем земля, жадно вдыхая, пьет влагу, словно голодный теленок. А потом с работы приходит мать. Она вся мокрая, усталая, из-под платка выбилась прядь волос. Комната сразу наполняется запахом дождя и мокрой коровьей шерсти. В избе становится зябко и уютно. Я сворачиваюсь в клубок, накрываюсь пушистым платком. А за окном все идет и идет мелкий по-осеннему дождь. Кажется, что он зарядил надолго, но я знаю, что завтра утром побегу по влажной, блестящей на солнце траве в ближний лесок собирать только что вылезшие из земли скользкие подберезовики…
Сколько я уже не писал домой?
Я потянулся к листу бумаги, но в это время дверь с визгом распахнулась, и шум ливня ворвался на веранду. На пороге стояла Катя. По ее лицу и рукам текли струйки воды.
– Здравствуй, – сказала она. – Не ждал?
– Здравствуй.
– Один, что ли?
– Один…
– А меня в город за партами послали. Дай, думаю, зайду. Вчера меня Алексеевна встретила, жалуется, что не приезжаешь и не пишешь.
– Работаю. Да ты садись…
Катя сняла прозрачный плащ с капюшоном, бросила его на спинку стула, потом разулась и подошла ко мне, маленькая, босая.
– Направление получил уже?
– Да. Оставляют в аспирантуре.
– Значит, к нам не хочешь?
Я пожал плечами.
– Ну, конечно, ты теперь заважничал…
Больше всего я боялся, что сейчас появится кто-нибудь из ребят. Тогда не оберешься разговоров.
– Ты надолго?
– Выгоняешь? – усмехнулась Катя.
– Нет… Скоро защита. Чертовски много работы.
– Тогда я пойду.
Катя надела плащ и туфли, но не уходила. Глаза ее пристально смотрели на меня.
– Недавно сон видела, – сказала она, – когда спала в саду. Про тебя. Как будто ты стоял возле моей кровати, а потом наклонился и поцеловал в лоб…
– Странный сон.
– Очень… И знаешь, я его уже третий раз вижу.
– Что ты говоришь!
– Да… И так явственно… Как будто ты действительно приезжал.
Я чувствовал, что Катины глаза ищут мои, но продолжал разглядывать чистый листок.
– Очень странно, – повторил я.
– Да, – согласилась Катя. – Ну, до свидания. – Катя взялась за ручку двери. – Гена… Тебе нечего сказать мне?
– А что… можно сказать?
– Ну, что-нибудь…
– Что-нибудь могу. На горе стоит мочало.
Хлопнула дверь, потом за окном захлюпала грязь.
Ушла. Я опять придвинул к себе чистый листок и написал: «Здравствуй, мама!» Приникшее к стеклу лицо теперь уже плакало. Капельки слились в маленькие ручейки и медленно текли вниз, извиваясь, словно по морщинам. В трамвае сейчас слякотно и холодно. Катя будет всю дорогу смотреть в забрызганное окно, а потом два часа идти по дождю. Конечно, она приезжала не за партами.
Я поспешно надел плащ и галоши. Проклятый слабый характер! Ведь решил же… решил. И чем все это кончится?
На улице дождь хлестал вовсю. Лужи рябило.
Катя стояла на остановке одна. С капюшона текли светлые тоненькие струйки, завесив ее лицо хрустальными колеблющимися сосульками.
– Забыл, – сказал я. – Передай маме, что в воскресенье приеду утром. Пусть напечет пирогов с грибами.
– Гена…
– Что?
Она смотрела на меня сквозь качающиеся подвески, похожая на Ледяную принцессу.
– Я не могу больше…
Подошел трамвай. За стеклами были видны нахохлившиеся как воробьи люди.
– До свидания.
– До свидания.
Катя дотронулась до моей щеки.
– Простудишься. Фуражку хотя бы надел.
Рука была горячая и сухая.
Трамвай ушел, а я побрел домой по скользкому булыжнику. Струи воды разбивались о камень, и было похоже, что по дороге прыгают маленькие человечки. Я шел и думал об этой глупой до идиотизма истории, которая никак не может окончиться, о пухлой пачке писем, которую надо было сжечь и которая никак не сжигается. Почему эта история приключилась именно со мной?
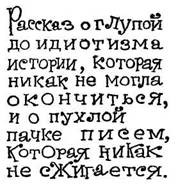 Его принесли под вечер. Почтальон дядя Костя, высокий и седой, словно профессор, вытащил из сумки голубой конверт и сказал:
Его принесли под вечер. Почтальон дядя Костя, высокий и седой, словно профессор, вытащил из сумки голубой конверт и сказал:
– Геннадию Яковлевичу Рыкову.
Мать вытерла руки о фартук.
– Кому? Кому? – удивилась она и протянула ладонь.
– Э-э, нет, – сказал дядя Костя. – Тут написано «лично». – И он отдал мне голубой конверт.
Я никогда в жизни не получал писем, тем более с пометкой «лично». Я знал, от кого было это письмо. Я густо покраснел и сказал:
– А, это, наверно, Борька прислал. Они недавно уехали в Якутию.
Письмо было прочитано на сеновале при свете спичек. Я читал его всю ночь. Я метался по сену, бегал домой за спичками, краснел, бледнел, разговаривал вслух сам с собой и читал снова и снова.
Это было объяснение в любви на десяти страницах ученической тетради. Это было очень подробное объяснение. В нем описывалось все с самого начала: и как Катя увидела меня впервые, и как ей хотелось уехать со мной на край света, и как ей даже было приятно, когда я колол ее в спину булавкой. Далее подробно излагалось, за что я достоин любви.
Под утро я выучил объяснение наизусть. Это было тем более удивительно, что я обладал скверной памятью, а письмо изобиловало сложными причастными и деепричастными оборотами и было пересыпано знаками препинания.
И вот, когда я в последний раз, словно молитву, повторял Катино послание, перед тем как отойти ко сну, мне вдруг не понравилась одна фраза: «Когда ты вперивал в меня свои водянистые безбровые глазищи, сердце у меня сладко замирало, а по спине пробегали мурашки и мне хотелось…» Пусть даже это была шутка, но так презрительно отзываться о глазах и бровях любимого человека! Тем более что своими глазами я всегда гордился. Мне говорили, что у меня пристальный, волевой взгляд. Поэтому, когда я на следующее утро писал ответное объяснение (двадцать листов ученической тетради убористым почерком, с бесчисленным количеством причастных и деепричастных оборотов), я сделал такую приписку:
«P. S. Что касается моих глаз, то ты глубоко ошибаешься, миледи, девушкам очень нравятся мои глаза. Это у тебя кривые ноги. (Шучу.) Целую. Гена».
Неделя прошла в кошмаре. Я не мог ни есть, ни спать, ни заниматься. Я ходил и все повторял, повторял про себя Катино объяснение.
Через неделю пришел ответ. Катя почти целиком цитировала «Ромео и Джульетту» и только в самом конце приписала от себя:
«P. S. По поводу моих ног можешь справиться у своего друга Димы, он не один раз делал мне комплименты. И вообще, оказывается, ты злой. Мне всегда не нравилось, когда ты злишься, – становишься похожим на павлина. (Шучу.) Целую, Катя».
Это было уж слишком – справляться у соперника о ногах своей любимой девушки! Да еще «павлин»! Ну хорошо же! Я быстро переписал троечку цитат из «Отелло», вырезал из журнала стих «Тебе, любимая!» и уселся за составление постскриптума. Я написал Кате, что напрасно она задается. Если я ее полюбил, то это еще не значит, что она была самая лучшая в школе. Неправильное телосложение, лысеющий волос, безвкусица в одежде – вот далеко не полный перечень недостатков Ледяной принцессы.
Ответ пришел авиапочтой. В нем было всего одно какое-то формалистическое стихотворение о ночных мотыльках, а остальные семь страниц ученической тетради занимал постскриптум. Этот постскриптум вполне можно было назвать учебником по анатомии человека-урода – злого, грубого, кровожадного и тупого. Этим уродом был я. В конце стояло: «Целую. Катя. Ответ пиши авиапочтой».
Разумеется, я ответил авиапочтой. Ответил в полную меру своих сил и возможностей.
Далее наша переписка пошла очень оживленно. Постскриптумы совсем вытеснили первую часть, состоящую из цитат Шекспира и формалистических стихотворений. С удивлением мы убедились, что совсем не знаем друг друга. Оказывается, мы уродливы, глупы, некрасивы, жестоки, несправедливы. Наши письма становились все резче и короче. И наконец ночью почтальон дядя Костя принес мне телеграмму (первую в жизни). В телеграмме было только одно слово: «Ненавижу».
Утром я отпросился с урока и отправил ответную телеграмму: «Ненавижу квадрате», на что вечером получил ответ: «Ненавижу кубе».
Четвертая степень ненависти показалась мне недостаточно выражающей мои чувства. Я думал целый день и, наконец, сочинил: «Ненавижу до космоса». Телеграмма, видно, произвела нужное впечатление, так как после этого наступило молчание. Значит, все-таки последнее слово осталось за мной.
Сдавать экзамены в институт я поехал несколько удовлетворенным. Димка в институт решил поступать заочно. Он вдруг быстро пошел в гору. Сначала моего соперника назначили помощником бригадира тракторной бригады, затем бригадиром. Конечно, он решил не ломать себе карьеру. А может быть, Димка уже тогда что-то предчувствовал? В общем так или иначе, но Димка остался, а я уехал. А когда приехал, то было уже поздно. Димка женился на Кате.
Это было дико, нелепо, я не мог привыкнуть к этому целый год, а потом, конечно, привык. И чувствую себя сейчас вполне нормально. Вот только в ветреные ночи чудится мне странный зов. Словно зовет меня кто-то издалека-издалека, а кто – никак не пойму. Тогда меня захлестывает радость, тоска, хочется плакать и смеяться, бежать, ползти, пока хватит сил. И еще – вдруг я стал обладать странным свойством понимать природу, чувствовать всем своим существом трепет листка, движение сока под корой, взгляд пролетевшей мимо птицы. Может быть, это фокусы Ледяной принцессы? Говорят, ее дед, цыган, обладал гипнозом. Только к чему все это?
– Вставай! Пора! – прошептал Кобзиков.
Было еще совсем рано.
Из окна тянуло мокрой травой, гремела кастрюлями Марья.
– Давай еще поспим…
Кобзиков испуганно замахал руками:
– И так проспали! Ты не понимаешь всей важности момента! Свидание – это тебе не сеялку изобретать!
Вслед за этим ветврач развил бурную деятельность. Он наглаживался, брился, мазался какими-то мазями и каждые пятнадцать минут бегал в магазин доказывать продавцам, что коньяк – не водка и его можно продавать круглосуточно.
Вскоре стали заметны результаты. Из заспанного, взлохмаченного парня ветврач превратился в сына фабриканта, собирающегося предпринять загородную прогулку. Моей же внешностью молодой денди остался недоволен.
– Ты похож на мумию египетского фараона, – сказал он. – Что за идиотский вихор? А рубашка? Мятая, как из пушки. А побрился! Бог ты мой! Как он побрился! Раз, два, три. Да тут у тебя целый лес остался! Иди-ка, брат, сюда.
Через полчаса я таращил глаза в зеркало и не узнавал себя. Какой прилизанный, благовоспитанный тип! Хоть сейчас снимай для обложки журнала «Здоровье» или «Работница»!
Кобзикову я тоже понравился.
– Ничего, – сказал он, вертя меня во все стороны. – Сойдешь. Вот только нос бы тебе надо подлинней.
– Я своим носом доволен. Пошли, что ли?
– Подожди. Еще кое-что надо…
Вацлав полез в чемодан и достал оттуда кусок белого атласа.
– Ты умеешь сворачивать чалму?
– Чалму? – удивился я. – На черта она тебе нужна?
– Каждый нормальный человек должен уметь сворачивать чалму.
– Хватит валять дурака! Пошли!
Но Кобзиков принялся наворачивать себе на голову материю.
– Ну, как?
– Мы пойдем или нет?
– Подожди. Теперь дай на тебя примерю.
Не успел я и рта раскрыть, как ветврач напялил мне чалму на голову.
– Здорово! Ну прямо араб! Бедуин княжеских кровей!
Тут в меня впервые закралось подозрение.
– Уж не должен ли я стать арабом?
– А что здесь такого? – пробормотал ветврач, пряча глаза. – Кто догадается?
– Мне не нравится эта затея.
Кобзиков заволновался:
– Мумия ты фараона! Это же гениально придумано. Ты будешь приманкой. Какая девушка устоит перед человеком, у которого друг араб? Покатаешься на лодке и исчезнешь. А уж остальное – дело мое. Всего какой-то час.
– Мне эта затея не нравится. Могут быть разные осложнения.
– Абсолютно никаких! Арабов в нашем городе нет – это я уже точно выяснил. Языка их тоже никто не знает. Чем ты рискуешь? Наоборот, даже приятно: будешь центром всеобщего внимания. И потом ты дал слово. Геннадий Рыков всегда держал слово. Только вот нос… Слушай, может, тебе картонный приделать? Что это за араб с курносым носом? Да, вот еще что… Ты потомок Чингисхана.
– Послушай, Кобзиков, – сказал я раздраженно. – Хватит. Хватит! Сыт по горло твоими выдумками. Хоть бы уж знал историю! Любому пятикласснику известно, что Чингисхан был монголом.
– Тогда ты будешь монголом.
– Монголы не носят чалму, – сказал я торжествующе. – Они носят лохматые шапки.
Кобзиков почесал затылок.
– Не-е… лохматая шапка не пойдет. В чалме вся сила. Знаешь что? Ты будешь обарабившимся монголом! Таким образом, ты и потомок Чингисхана, и в чалме! Одним выстрелом два зайца.
– Ты глуп… – начал я и вдруг увидел, что Ким давно проснулся и смотрит на нас широко раскрытыми глазами. На его лице было написано такое изумление, будто он увидел свою умершую бабушку.
– Идем на маскарад… – пробормотал я, сорвал чалму и выскочил на крыльцо.
Кобзиков последовал за мной.
День обещал быть жарким. Было всего девять часов, а солнце пекло так, что земля жгла через сандалеты. Даже «вооруженные силы» чувствовали себя неважно. Они забрались по горло в песок и раскрыли клюв.
Вацлав подошел к куче и стал задумчиво разглядывать петушиную голову.
– Суп из курятины на лоне природы, – сказал он. – Что может быть прекраснее на свете?
Быстро нагнувшись, ветврач выхватил из песка петуха, сунул ему под крыло голову и запихал в рюкзак.
– Пошли быстрей!
– Низкий поступок, – сказал я. – Поступок, не достойный друга потомка Чингисхана.
– Ладно! Потом на эту тему порассуждаем.
Встреча с совнархозовской дочкой произошла на берегу реки.
– Уф, – сказал Вацлав, вытирая пот. – Пришла все-таки, а ты говоришь, я не знаю женщин!
Девушка была высокая, сильная, в легком ситцевом платье, с белыми клипсами почти до плеч. Она так и впилась в меня глазами.
– Знакомьтесь, – сказал торжествующим голосом Кобзиков. – Моя хорошая знакомая Адель. Мой хороший знакомый…
– Мох… Моххамед, – пробормотал я и покраснел.
– И еще как-то. С продолжением, – сказал грек.
– Эль-Джунди…
– Вы знаете русский язык? – спросила Адель.
– Нет, нет, – поспешно заверил Вацлав. – Но он догадывается по движению губ.
– Какой смешной… – Адель бесцеремонно принялась меня разглядывать с ног до головы. – Чалма…
– Все арабы чалмы носят.
– Откуда он взялся?
– Приехал на «Сельмаш» перенимать опыт.
Мы сели в лодку и двинулись вверх по течению.
Адель тотчас же сняла платье, демонстрируя обтянутую купальником фигуру. У нее оказалась безукоризненная фигура. Совнархозовская дочка по-прежнему не спускала с меня глаз. Я чувствовал себя отвратительно.
Всю дорогу разговор вертелся вокруг моей особы, перебирались детали одежды, обсуждалось со всех сторон мое телосложение. Особенно волновал Адель мой курносый нос. Разве у арабов бывают такие носы? Вацлав выкручивался, как факир.
– Я без словаря читаю все ихние газеты, – нагло врал Кобзиков. – Я единственный человек в городе, который насквозь знает арабские обычаи. Секретарь горкома ко мне лично домой приходила, просила, чтобы я его сопровождал. Пришлось согласиться, хоть и времени у меня в обрез. Он парень ничего. Между прочим – потомок Чингисхана.
– Чингисхана?!
– Да… по прямой линии. Его предки переехали из Монголии в Аравию по семейным обстоятельствам и там обарабились.
– Чингисхана… – взгляд у Адели стал завороженным, как у ребенка, слушающего сказку. – Интересно, какой у него характер? Наверно, воинственный, как у прадеда?
– Не-е, он малый тихий.
Адель слушала, раскрыв рот. Мне было чертовски жарко в чалме. Капли пота скатывались по лбу и падали на колени совнархозовской дочки.
– Пардон, мадам, – бормотал я.
Кобзиков болтал, греб, но не спускал с меня испепеляющего взгляда: он боялся, как бы я не заговорил по-русски. Пахло сосновыми досками, горячим женским телом и тиной. Река против солнца блестела, как бок гигантской рыбы. С пролетавших мимо моторок на нас таращили глаза. Один так засмотрелся, что врезался в берег, и пассажиры попадали в воду.
Наконец я почувствовал, что, если мы сейчас не пристанем куда-нибудь, я начну дымиться. Сделав вид, что мне хочется пить, я полез на корму и шепнул Вацлаву:
– Не могу… давай кончай…
– Надо увезти ее подальше, мумия ты! – прошипел Вацлав.
Я посмотрел на свои мятые брюки.
– Лучше погуляем.
Мы молча шли среди праздничной толпы. Франты в черных костюмах с галстуками-шнурками недоуменно поглядывали на меня. Сцепившиеся в ряды семиклассницы хихикали вслед. Кто-то сказал: «Это битник».
Мне было непонятно, почему я назначил свидание Тине, и тем более – почему она пришла.
Из кафе-кондитерской тянуло запахом жареных пирожков. Я вдруг почувствовал, что сильно голоден.
– Зайдем?
– Как ты хочешь, – покорно ответила Тина.
Кафе было расписано под дно моря. По стенам плыли розовые рыбы с выпученными глазами. Из-за батареи парового отопления выглядывал морской еж. Рыба-меч с любопытством разглядывала табличку «Распитие спиртных напитков категорически воспрещается». Под табличкой двое разливали водку в стаканы из-под сметаны. Было шумно и дымно. Официант, похожий на водоросль, колебался над столиками с блокнотом в руках. Мы выбрали себе место в углу под картиной, изображавшей не то девятый вал, не то половинку арбуза.
– А ты не боишься, что на тебя донесут? – спросила Тина.
– О чем и кому?
– Твоей девушке. Скажут – видели с какой-то крашеной блондинкой. Меня все считают крашеной. В наш век бесполезно быть натурально рыжей.
– У меня нет девушки.
– А я слышала – есть. Замужняя.
– Болтовня.
Тина рассмеялась.
– Правильно. Ты ведешь себя как рыцарь.
– Официант! – крикнул я. – Пару кофе!
– Ты счастливчик. Любовь замужних надежней и долговечней.
– Вот расскажу Киму, какие у тебя добродетельные взгляды, он и не женится на тебе.
– Он и так не женится.
– Поругались?
– Да так… У нас это давно уже тянется. Несходство характеров, а главное – взглядов. Он считает правильным только то, что делает сам. Убеждения других для него не существуют. Потребовал в категорической форме, чтобы я следовала за ним в колхоз к Кретову. Когда я отказалась – устроил сцену.
– А почему ты отказалась?
– Думаешь, я боюсь колхоза? Нет, я могу поехать на край света за тем, в кого верю. А в Кима я не верю. Он неудачник. Мир всегда жесток к неудачникам, и я не исключение.
– Вот тебе раз! – удивился я. – Человек изобрел скоростную сеялку – и он неудачник!
Тина поморщилась:
– «Сеялка»! «Сеялка»! Она у меня в зубах навязла. Изобрести сеялку мало, Гена. Главное, чтобы люди сказали: «Он может изобретать сеялки». А Ким всю жизнь будет изобретать сеялки, но о нем так никогда не скажут. Он принадлежит к тем людям, которые таскают на гору санки, а катаются на них другие.
– Слишком сложно на голодный желудок. Официант, обслужите наконец!
– Если бы он был похож на тебя! Вот за тебя бы я с удовольствием вышла. И была бы верной женой.
Тина катала по столу крошки, не поднимая на меня глаз.
– Это чертовски смахивает на объяснение в любви, – сказал я.
– Тебе неприятно?
– Нет, почему же… Лестно.
– А вообще все это ерунда. Просто на меня вдруг что-то нашло. И поругались мы с Кимом совсем не из-за этого. Из-за вафель. Он очень любит вафли, а я их ненавижу. Но лучше разойтись из-за вафель, чем из-за сеялки, правда? Слушай, Гена, мне жарко. Пойдем отсюда.
Около дверей я поймал за фалду официанта-водоросль.
– Как ваша фамилия?
– А что? – напыжился официант.
– Мы прождали целых двадцать минут.
– А кто вы такие будете?
– Мы из ВКИРЧАСНИССА.
«Водоросль» вытаращил глаза.
– Пожалуйста, проходите, – засуетился он. – Вот свободный столик. Одну секунду…
– Мы еще увидимся, – пообещал я.
Прошел дождь, и тротуары блестели, отражая огни фонарей. Пахло прелыми листьями и грибами. Этот запах принес из леса дождь. Я взял Тину под руку и закрыл глаза. Сразу запахло сильнее, шум мокрой листвы тополей стал явственнее, и было совсем похоже, что мы в лесу. «Как с Тиной спокойно и хорошо! – подумал я. – Она действительно…»
Мы шли и шли по мокрым улицам, а сверху моросил дождь, и было очень тепло. Из-под асфальта пробивался робкий запах земли. Окна домов светились в темноте, как иллюминаторы кораблей, разными цветами, но преобладал розовый цвет уюта и счастья.
Мы остановились где-то в темном переулке. Здесь не было асфальта, и земля разъезжалась под ногами. Тускло поблескивали скользкие дорожки. Над высокими заборами свисали, как чубы, ветки деревьев.
Сразу стало тихо и спокойно, словно мы попали в другой мир или в другой век.
– Я промокла насквозь, – сказала Тина, – но ничуть не замерзла – дождь теплый.
Кофточка облепила ее спину и грудь. Мокрая, она сделалась совсем прозрачной.
– Зачем мы пришли сюда? – спросила Тина.
– Не знаю.
– Ты можешь поцеловать меня, я теперь не невеста. Если тебе, конечно, не противно.
– Я дотронулся до ее холодных губ своей щекой.
– Зачем, Тина?
– Да… зачем…
За оградой гремела цепью собака.
* * *
Дом Егора Егорыча спал. Большеголовый, дряхлый, он накренился набок и, полузакрыв подслеповатые глаза-оконца, кажется, слегка похрапывал. На крыльце курил Вацлав Кобзиков. Я удивился: было всего одиннадцать часов, а ветврач уже дома.– Пришел? – осведомился грек, попыхивая папиросой.
– Ага. А ты?
– Только иду. К тебе тут одна краля приезжала. Слушай, а ты все-таки нехороший. Дружишь, паршивая морда, с такими женщинами и молчишь. Не женщина, а роза, как любили говаривать наши сентиментальные предки. Муж, случайно, у ней не начальник?
– Начальник.
– Начальник? – оживился Вацлав. – Слушай, а он меня не смог бы устроить на работу?
– Смог бы. Заведующим МТФ.
– Тьфу! Никогда бы не подумал, что у такой женщины сельскохозяйственный муж.
– Как у тебя дела? Напал на след дочери министра?
– Пока нет. Зато в совнархозовском доме засек одну. Социальное положение папаши еще не выяснено, но доподлинно установлено, что он владеет «Москвичом» и дачей.
– Наверно, крупная шишка.
– Во всяком случае, не парикмахер. Все дело осложняется тем, что у дочки уже есть…
– Тогда мертвое дело.
– Дело-то, допустим, не мертвое. Надо только чем-то поразить ее воображение. На женщин это действует. Есть у меня одна идея. Просто гениальная идея, но для ее выполнения нужен помощник. Ты не согласишься? Всего на два-три часа в воскресенье. Помоги в беде!
– У меня своих бед хватает. Не допустили к защите.
Кобзиков присвистнул:
– Врешь!
– Вот тебе и «врешь»!
– Что же ты будешь делать?
– Придется ехать в колхоз трактористом.
– Слушай, твое счастье, что с тобою рядом я! Хочешь работать в совнархозе?
– Отстань с чепухой.
– Через месяц будешь в совнархозе, чучело ты фараона! Понял? Слово Кобзикова! Только помоги мне в воскресенье. Поможешь?
– Там будет видно.
– Ты говори сразу! Мне же надо готовиться! Будут шпроты и пиво «Сенатор».
– Поклянись!
– Клянусь дочерью министра!
– Но, надеюсь, твоя гениальная идея ничего общего не имеет с предметами дамского туалета?
– Heт! Нет! – заверил ветврач.
– И уголовным кодексом не карается?
– Будь спокоен.
– Ну ладно… Мне сейчас все равно делать нечего.
Вацлав погасил папироску и с серьезным выражением лица исполнил что-то наподобие лезгинки.
– Мы посрамим тебя, фрайер! – крикнул он.
– Кр-р-р-р! – ответил из будки петух.
Я пошел в комнату.
Ким лежал, уткнувшись в подушку. Я сдернул одеяло со своей кровати. Зашуршал какой-то листок. В колеблющемся свете спички запрыгали неровные строчки. Казалось, что они шевелятся, дышат, словно живые.
«Была в городе. Заезжала к тебе, но не застала. Очень жалею. Сегодня видела тебя во сне. Так явственно… Почему ты не приезжаешь в С?»
Я лег, накрылся простыней и пролежал до рассвета с открытыми глазами.
Потомок Чингисхана

Почему-то было грустно… Хотелось, как в детстве, забраться на широкую печь, улечься на спину и смотреть на закопченный, весь в трещинах потолок, по которому, сонно гудя, ползают черные мухи. Лежать и думать, что в полях сейчас сумрачно, свежо и слышно, как истомленная зноем земля, жадно вдыхая, пьет влагу, словно голодный теленок. А потом с работы приходит мать. Она вся мокрая, усталая, из-под платка выбилась прядь волос. Комната сразу наполняется запахом дождя и мокрой коровьей шерсти. В избе становится зябко и уютно. Я сворачиваюсь в клубок, накрываюсь пушистым платком. А за окном все идет и идет мелкий по-осеннему дождь. Кажется, что он зарядил надолго, но я знаю, что завтра утром побегу по влажной, блестящей на солнце траве в ближний лесок собирать только что вылезшие из земли скользкие подберезовики…
Сколько я уже не писал домой?
Я потянулся к листу бумаги, но в это время дверь с визгом распахнулась, и шум ливня ворвался на веранду. На пороге стояла Катя. По ее лицу и рукам текли струйки воды.
– Здравствуй, – сказала она. – Не ждал?
– Здравствуй.
– Один, что ли?
– Один…
– А меня в город за партами послали. Дай, думаю, зайду. Вчера меня Алексеевна встретила, жалуется, что не приезжаешь и не пишешь.
– Работаю. Да ты садись…
Катя сняла прозрачный плащ с капюшоном, бросила его на спинку стула, потом разулась и подошла ко мне, маленькая, босая.
– Направление получил уже?
– Да. Оставляют в аспирантуре.
– Значит, к нам не хочешь?
Я пожал плечами.
– Ну, конечно, ты теперь заважничал…
Больше всего я боялся, что сейчас появится кто-нибудь из ребят. Тогда не оберешься разговоров.
– Ты надолго?
– Выгоняешь? – усмехнулась Катя.
– Нет… Скоро защита. Чертовски много работы.
– Тогда я пойду.
Катя надела плащ и туфли, но не уходила. Глаза ее пристально смотрели на меня.
– Недавно сон видела, – сказала она, – когда спала в саду. Про тебя. Как будто ты стоял возле моей кровати, а потом наклонился и поцеловал в лоб…
– Странный сон.
– Очень… И знаешь, я его уже третий раз вижу.
– Что ты говоришь!
– Да… И так явственно… Как будто ты действительно приезжал.
Я чувствовал, что Катины глаза ищут мои, но продолжал разглядывать чистый листок.
– Очень странно, – повторил я.
– Да, – согласилась Катя. – Ну, до свидания. – Катя взялась за ручку двери. – Гена… Тебе нечего сказать мне?
– А что… можно сказать?
– Ну, что-нибудь…
– Что-нибудь могу. На горе стоит мочало.
Хлопнула дверь, потом за окном захлюпала грязь.
Ушла. Я опять придвинул к себе чистый листок и написал: «Здравствуй, мама!» Приникшее к стеклу лицо теперь уже плакало. Капельки слились в маленькие ручейки и медленно текли вниз, извиваясь, словно по морщинам. В трамвае сейчас слякотно и холодно. Катя будет всю дорогу смотреть в забрызганное окно, а потом два часа идти по дождю. Конечно, она приезжала не за партами.
Я поспешно надел плащ и галоши. Проклятый слабый характер! Ведь решил же… решил. И чем все это кончится?
На улице дождь хлестал вовсю. Лужи рябило.
Катя стояла на остановке одна. С капюшона текли светлые тоненькие струйки, завесив ее лицо хрустальными колеблющимися сосульками.
– Забыл, – сказал я. – Передай маме, что в воскресенье приеду утром. Пусть напечет пирогов с грибами.
– Гена…
– Что?
Она смотрела на меня сквозь качающиеся подвески, похожая на Ледяную принцессу.
– Я не могу больше…
Подошел трамвай. За стеклами были видны нахохлившиеся как воробьи люди.
– До свидания.
– До свидания.
Катя дотронулась до моей щеки.
– Простудишься. Фуражку хотя бы надел.
Рука была горячая и сухая.
Трамвай ушел, а я побрел домой по скользкому булыжнику. Струи воды разбивались о камень, и было похоже, что по дороге прыгают маленькие человечки. Я шел и думал об этой глупой до идиотизма истории, которая никак не может окончиться, о пухлой пачке писем, которую надо было сжечь и которая никак не сжигается. Почему эта история приключилась именно со мной?
Рассказ о глупой до идиотизма истории, которая никак не могла окончиться, и о пухлой пачке писем, которая никак не сжигается.
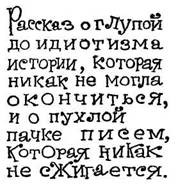
– Геннадию Яковлевичу Рыкову.
Мать вытерла руки о фартук.
– Кому? Кому? – удивилась она и протянула ладонь.
– Э-э, нет, – сказал дядя Костя. – Тут написано «лично». – И он отдал мне голубой конверт.
Я никогда в жизни не получал писем, тем более с пометкой «лично». Я знал, от кого было это письмо. Я густо покраснел и сказал:
– А, это, наверно, Борька прислал. Они недавно уехали в Якутию.
Письмо было прочитано на сеновале при свете спичек. Я читал его всю ночь. Я метался по сену, бегал домой за спичками, краснел, бледнел, разговаривал вслух сам с собой и читал снова и снова.
Это было объяснение в любви на десяти страницах ученической тетради. Это было очень подробное объяснение. В нем описывалось все с самого начала: и как Катя увидела меня впервые, и как ей хотелось уехать со мной на край света, и как ей даже было приятно, когда я колол ее в спину булавкой. Далее подробно излагалось, за что я достоин любви.
Под утро я выучил объяснение наизусть. Это было тем более удивительно, что я обладал скверной памятью, а письмо изобиловало сложными причастными и деепричастными оборотами и было пересыпано знаками препинания.
И вот, когда я в последний раз, словно молитву, повторял Катино послание, перед тем как отойти ко сну, мне вдруг не понравилась одна фраза: «Когда ты вперивал в меня свои водянистые безбровые глазищи, сердце у меня сладко замирало, а по спине пробегали мурашки и мне хотелось…» Пусть даже это была шутка, но так презрительно отзываться о глазах и бровях любимого человека! Тем более что своими глазами я всегда гордился. Мне говорили, что у меня пристальный, волевой взгляд. Поэтому, когда я на следующее утро писал ответное объяснение (двадцать листов ученической тетради убористым почерком, с бесчисленным количеством причастных и деепричастных оборотов), я сделал такую приписку:
«P. S. Что касается моих глаз, то ты глубоко ошибаешься, миледи, девушкам очень нравятся мои глаза. Это у тебя кривые ноги. (Шучу.) Целую. Гена».
Неделя прошла в кошмаре. Я не мог ни есть, ни спать, ни заниматься. Я ходил и все повторял, повторял про себя Катино объяснение.
Через неделю пришел ответ. Катя почти целиком цитировала «Ромео и Джульетту» и только в самом конце приписала от себя:
«P. S. По поводу моих ног можешь справиться у своего друга Димы, он не один раз делал мне комплименты. И вообще, оказывается, ты злой. Мне всегда не нравилось, когда ты злишься, – становишься похожим на павлина. (Шучу.) Целую, Катя».
Это было уж слишком – справляться у соперника о ногах своей любимой девушки! Да еще «павлин»! Ну хорошо же! Я быстро переписал троечку цитат из «Отелло», вырезал из журнала стих «Тебе, любимая!» и уселся за составление постскриптума. Я написал Кате, что напрасно она задается. Если я ее полюбил, то это еще не значит, что она была самая лучшая в школе. Неправильное телосложение, лысеющий волос, безвкусица в одежде – вот далеко не полный перечень недостатков Ледяной принцессы.
Ответ пришел авиапочтой. В нем было всего одно какое-то формалистическое стихотворение о ночных мотыльках, а остальные семь страниц ученической тетради занимал постскриптум. Этот постскриптум вполне можно было назвать учебником по анатомии человека-урода – злого, грубого, кровожадного и тупого. Этим уродом был я. В конце стояло: «Целую. Катя. Ответ пиши авиапочтой».
Разумеется, я ответил авиапочтой. Ответил в полную меру своих сил и возможностей.
Далее наша переписка пошла очень оживленно. Постскриптумы совсем вытеснили первую часть, состоящую из цитат Шекспира и формалистических стихотворений. С удивлением мы убедились, что совсем не знаем друг друга. Оказывается, мы уродливы, глупы, некрасивы, жестоки, несправедливы. Наши письма становились все резче и короче. И наконец ночью почтальон дядя Костя принес мне телеграмму (первую в жизни). В телеграмме было только одно слово: «Ненавижу».
Утром я отпросился с урока и отправил ответную телеграмму: «Ненавижу квадрате», на что вечером получил ответ: «Ненавижу кубе».
Четвертая степень ненависти показалась мне недостаточно выражающей мои чувства. Я думал целый день и, наконец, сочинил: «Ненавижу до космоса». Телеграмма, видно, произвела нужное впечатление, так как после этого наступило молчание. Значит, все-таки последнее слово осталось за мной.
Сдавать экзамены в институт я поехал несколько удовлетворенным. Димка в институт решил поступать заочно. Он вдруг быстро пошел в гору. Сначала моего соперника назначили помощником бригадира тракторной бригады, затем бригадиром. Конечно, он решил не ломать себе карьеру. А может быть, Димка уже тогда что-то предчувствовал? В общем так или иначе, но Димка остался, а я уехал. А когда приехал, то было уже поздно. Димка женился на Кате.
Это было дико, нелепо, я не мог привыкнуть к этому целый год, а потом, конечно, привык. И чувствую себя сейчас вполне нормально. Вот только в ветреные ночи чудится мне странный зов. Словно зовет меня кто-то издалека-издалека, а кто – никак не пойму. Тогда меня захлестывает радость, тоска, хочется плакать и смеяться, бежать, ползти, пока хватит сил. И еще – вдруг я стал обладать странным свойством понимать природу, чувствовать всем своим существом трепет листка, движение сока под корой, взгляд пролетевшей мимо птицы. Может быть, это фокусы Ледяной принцессы? Говорят, ее дед, цыган, обладал гипнозом. Только к чему все это?
* * *
В воскресенье я проснулся от толчков.– Вставай! Пора! – прошептал Кобзиков.
Было еще совсем рано.
Из окна тянуло мокрой травой, гремела кастрюлями Марья.
– Давай еще поспим…
Кобзиков испуганно замахал руками:
– И так проспали! Ты не понимаешь всей важности момента! Свидание – это тебе не сеялку изобретать!
Вслед за этим ветврач развил бурную деятельность. Он наглаживался, брился, мазался какими-то мазями и каждые пятнадцать минут бегал в магазин доказывать продавцам, что коньяк – не водка и его можно продавать круглосуточно.
Вскоре стали заметны результаты. Из заспанного, взлохмаченного парня ветврач превратился в сына фабриканта, собирающегося предпринять загородную прогулку. Моей же внешностью молодой денди остался недоволен.
– Ты похож на мумию египетского фараона, – сказал он. – Что за идиотский вихор? А рубашка? Мятая, как из пушки. А побрился! Бог ты мой! Как он побрился! Раз, два, три. Да тут у тебя целый лес остался! Иди-ка, брат, сюда.
Через полчаса я таращил глаза в зеркало и не узнавал себя. Какой прилизанный, благовоспитанный тип! Хоть сейчас снимай для обложки журнала «Здоровье» или «Работница»!
Кобзикову я тоже понравился.
– Ничего, – сказал он, вертя меня во все стороны. – Сойдешь. Вот только нос бы тебе надо подлинней.
– Я своим носом доволен. Пошли, что ли?
– Подожди. Еще кое-что надо…
Вацлав полез в чемодан и достал оттуда кусок белого атласа.
– Ты умеешь сворачивать чалму?
– Чалму? – удивился я. – На черта она тебе нужна?
– Каждый нормальный человек должен уметь сворачивать чалму.
– Хватит валять дурака! Пошли!
Но Кобзиков принялся наворачивать себе на голову материю.
– Ну, как?
– Мы пойдем или нет?
– Подожди. Теперь дай на тебя примерю.
Не успел я и рта раскрыть, как ветврач напялил мне чалму на голову.
– Здорово! Ну прямо араб! Бедуин княжеских кровей!
Тут в меня впервые закралось подозрение.
– Уж не должен ли я стать арабом?
– А что здесь такого? – пробормотал ветврач, пряча глаза. – Кто догадается?
– Мне не нравится эта затея.
Кобзиков заволновался:
– Мумия ты фараона! Это же гениально придумано. Ты будешь приманкой. Какая девушка устоит перед человеком, у которого друг араб? Покатаешься на лодке и исчезнешь. А уж остальное – дело мое. Всего какой-то час.
– Мне эта затея не нравится. Могут быть разные осложнения.
– Абсолютно никаких! Арабов в нашем городе нет – это я уже точно выяснил. Языка их тоже никто не знает. Чем ты рискуешь? Наоборот, даже приятно: будешь центром всеобщего внимания. И потом ты дал слово. Геннадий Рыков всегда держал слово. Только вот нос… Слушай, может, тебе картонный приделать? Что это за араб с курносым носом? Да, вот еще что… Ты потомок Чингисхана.
– Послушай, Кобзиков, – сказал я раздраженно. – Хватит. Хватит! Сыт по горло твоими выдумками. Хоть бы уж знал историю! Любому пятикласснику известно, что Чингисхан был монголом.
– Тогда ты будешь монголом.
– Монголы не носят чалму, – сказал я торжествующе. – Они носят лохматые шапки.
Кобзиков почесал затылок.
– Не-е… лохматая шапка не пойдет. В чалме вся сила. Знаешь что? Ты будешь обарабившимся монголом! Таким образом, ты и потомок Чингисхана, и в чалме! Одним выстрелом два зайца.
– Ты глуп… – начал я и вдруг увидел, что Ким давно проснулся и смотрит на нас широко раскрытыми глазами. На его лице было написано такое изумление, будто он увидел свою умершую бабушку.
– Идем на маскарад… – пробормотал я, сорвал чалму и выскочил на крыльцо.
Кобзиков последовал за мной.
День обещал быть жарким. Было всего девять часов, а солнце пекло так, что земля жгла через сандалеты. Даже «вооруженные силы» чувствовали себя неважно. Они забрались по горло в песок и раскрыли клюв.
Вацлав подошел к куче и стал задумчиво разглядывать петушиную голову.
– Суп из курятины на лоне природы, – сказал он. – Что может быть прекраснее на свете?
Быстро нагнувшись, ветврач выхватил из песка петуха, сунул ему под крыло голову и запихал в рюкзак.
– Пошли быстрей!
– Низкий поступок, – сказал я. – Поступок, не достойный друга потомка Чингисхана.
– Ладно! Потом на эту тему порассуждаем.
Встреча с совнархозовской дочкой произошла на берегу реки.
– Уф, – сказал Вацлав, вытирая пот. – Пришла все-таки, а ты говоришь, я не знаю женщин!
Девушка была высокая, сильная, в легком ситцевом платье, с белыми клипсами почти до плеч. Она так и впилась в меня глазами.
– Знакомьтесь, – сказал торжествующим голосом Кобзиков. – Моя хорошая знакомая Адель. Мой хороший знакомый…
– Мох… Моххамед, – пробормотал я и покраснел.
– И еще как-то. С продолжением, – сказал грек.
– Эль-Джунди…
– Вы знаете русский язык? – спросила Адель.
– Нет, нет, – поспешно заверил Вацлав. – Но он догадывается по движению губ.
– Какой смешной… – Адель бесцеремонно принялась меня разглядывать с ног до головы. – Чалма…
– Все арабы чалмы носят.
– Откуда он взялся?
– Приехал на «Сельмаш» перенимать опыт.
Мы сели в лодку и двинулись вверх по течению.
Адель тотчас же сняла платье, демонстрируя обтянутую купальником фигуру. У нее оказалась безукоризненная фигура. Совнархозовская дочка по-прежнему не спускала с меня глаз. Я чувствовал себя отвратительно.
Всю дорогу разговор вертелся вокруг моей особы, перебирались детали одежды, обсуждалось со всех сторон мое телосложение. Особенно волновал Адель мой курносый нос. Разве у арабов бывают такие носы? Вацлав выкручивался, как факир.
– Я без словаря читаю все ихние газеты, – нагло врал Кобзиков. – Я единственный человек в городе, который насквозь знает арабские обычаи. Секретарь горкома ко мне лично домой приходила, просила, чтобы я его сопровождал. Пришлось согласиться, хоть и времени у меня в обрез. Он парень ничего. Между прочим – потомок Чингисхана.
– Чингисхана?!
– Да… по прямой линии. Его предки переехали из Монголии в Аравию по семейным обстоятельствам и там обарабились.
– Чингисхана… – взгляд у Адели стал завороженным, как у ребенка, слушающего сказку. – Интересно, какой у него характер? Наверно, воинственный, как у прадеда?
– Не-е, он малый тихий.
Адель слушала, раскрыв рот. Мне было чертовски жарко в чалме. Капли пота скатывались по лбу и падали на колени совнархозовской дочки.
– Пардон, мадам, – бормотал я.
Кобзиков болтал, греб, но не спускал с меня испепеляющего взгляда: он боялся, как бы я не заговорил по-русски. Пахло сосновыми досками, горячим женским телом и тиной. Река против солнца блестела, как бок гигантской рыбы. С пролетавших мимо моторок на нас таращили глаза. Один так засмотрелся, что врезался в берег, и пассажиры попадали в воду.
Наконец я почувствовал, что, если мы сейчас не пристанем куда-нибудь, я начну дымиться. Сделав вид, что мне хочется пить, я полез на корму и шепнул Вацлаву:
– Не могу… давай кончай…
– Надо увезти ее подальше, мумия ты! – прошипел Вацлав.
